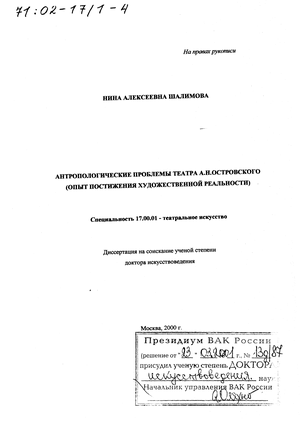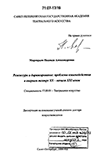Содержание к диссертации
Введение
Часть первая. Начала театральной антропологии Островского с. 18
1.1. Онтологическая реальность человека Островского с. 19
1.2. Внутренний и внешний человек в поэтике Островского с. 53
Часть вторая. Человек Островского в исторической перспективе с. 77
2.1. Мифопоэтический пролог с. 77
2.2. В перспективе русского Средневековья с. 90
2.3. На переломе эпохи с. 128
2.4. Перед лицом Нового времени с. 145
2.5. В новоевропейской перспективе с. 162
Часть третья. Театральная антропология Островского с. 190
3.1. Театральная реальность пьесы с. 190
3.2. Театральная реальность персонажа с. 215
3.3. Жизненная реальность театра с. 239
Заключение с. 257
Библиография с. 261
Приложение с. 275
- Онтологическая реальность человека Островского
- Мифопоэтический пролог
- В новоевропейской перспективе
- Жизненная реальность театра
Онтологическая реальность человека Островского
Русские классики создавали свои художественные миры рядом и в связи с миром европейской культуры. Начиная с XVIII века, с эпохи петровской европеизации, в русской театральной культуре шли поиски аналогов европейских образцов: открытие национального содержания происходило путем усвоения и переработки европейских сценических форм. Дмитрий Самозванец АП.Сумарокова, Вадим Новгородский Я.Б.Княжнина, Димитрий Донской В.А.Озерова - попытки укоренить классицистского героя в русской истории. Грибоедовский Чацкий явил собой отечественный вариант героя французской высокой комедии; пушкинский Борис Годунов, соотносимый с героями шекспировских хроник, создан, как известно, на путях "шекспиризации" русского театра; лермонтовский Арбенин, герой байронического склада, возник на путях создания национальной романтической драмы.
В целом ряде произведений Островский, превосходно знающий западно-европейский театр, отдает дань этим поискам совмещения русской натуры и европейского духа. Общеевропейские темы он решает в пределах национального, конкретно-исторического, характерного типа. И здесь обнаруживаются весьма существенные отличия воззрений Островского на человека от его литературных и театральных предшественников.
Герой комедии "Свои люди - сочтемся" богатейший купец Большое, прозванный критикой "замоскворецким королем Лиром", став жертвой собственных замыслов, не возвышается до осознания законов бытия, а смиряется с выпавшей ему участью. Он менее всего напоминает гневного Лира, бросающего вызов миропорядку. Его литературная родословная восходит, скорее, к раскаянному грешнику из старинной комедии-притчи школьного театра. Пробуждение личности связано в образе с пробуждением стыда, сознания и чувства греха: "Каково мне по Ильинке-то итти. Это все равно, что грешную душу дьяволы, прости Господи, по мытарствам тащат. А там мимо Иверской: как мне взглянуть-то на нее, на матушку?" (I, 147).
Русский Журден - Гордей Торцов ( Ъедность не порок") сожалеет, что "не в том роду родился" (I, 344) и готов "всякую моду подражать" (I, 371). Задуривший на старости лет, он требует от домочадцев модами заниматься, проклинает их необразование и решительно меняет весь домашний уклад в соответствии с требованиями более чем своеобразно воспринятого европейского просвещения. Представляя собой отечественный вариант "мещанина во дворянстве", он отличается от своего французского тезки широтой размаха. По оценке драматурга, "Мольеров мещанин перед нашими очень миниатюрен; рус скийчеловек меры не знает"(I, 55).
Русский Гарпагон - бывший судейский Крутицкий ("Не было ни гроша, да вдруг алтын") во многом схож со своим французским аналогом: также третирует родных, также трясется над спрятанными сокровищами и также поражен болезнью подозрительности. Оба героя искалечены властью денег. Но если Мольер ведет речь о скупости, ставшей человеческой страстью, то Островский - о погубленной душе человека: "Господи, прости ему! Погубил он свою душу..." (Ш, 463).
"Допетровская леди Макбет" - заглавная героиня драмы "Василиса Мелентьева" - обу реваема честолюбивыми замыслами. Задумав стать женой московского царя, она побуждает своего возлюбленного Андрея Колычева отравить царицу Анну, чтобы занять ее место. А потом, подобно леди Макбет, бродит ночами по царским покоям, не в силах заснуть. Она не стирает кровавые пятна с рук, но, мучима лунным бесом, боится остаться наедине с собственной душой, оскверненной свершенным злодейством. И просит царя Ивана отпустить ее помолиться на могилу убиенной Анны, чтоб "умолить слезами и щедрым подаяньем усопшую" (VII, 287), загладить свой грех. То, что в шекспировской ге роине выступает как слабость, хрупкость женской природы, в героине русской дра мы проявляется как ведение, знание и сознание своего греха и бессонная работа со вести: "Мне совесть / И память дел прошедших и грехов / Ни жить, ни веселиться не мешает; / Я весела весь день, а только ночью..." (VII, 288). Русский Отелло - Лев Краснов ( Трех да беда на кого не живет") в своем поведении руководится сердцем, а не доблестью венецианского мавра. Отдавшись на волю страстей, самочинно и своевольно казнив жену за измену, он готов принять страдание: Ъяжите меня! Я ее убил" (П, 448). Он вверяет себя миру, зная, что впереди у него не только людской приговор, но и суд Божий, о котором ему напоминает старый мудрец Архип. Вместо полного гордости последнего монолога и трагически эффектного финального жеста Отелло - смиренное покаяние страстного, скорого на расправу человека той грубой мужицкой породы, что "хоть семь лет в котле вари, все не вываришь" (П, 397). "Случай Краснова", самолично покаравшего жену в полном сознании своей правоты и права, перекликается с судьбой безымянного персонажа из комедии "На бойком месте": "Стал он за женой замечать, что дело неладно... Выждал поры да времени, затопил овин, , будто хлеб сушить, да пошел туда с той, - с женой-то, с подлой-то, да живую ее, шельму и зажарил. ... Он потом на Афон молиться ушел" (II, 570). Русский Дон Кихот - актер Несчастливцев ("Лес") чувствует и говорит, как Шиллер, а не как подьячий, что, с точки зрения окружающих выходит глупым и восторженным. » Благородство облика (он все-таки потомственный дворянин, хорошей фамилии), картин ность поведения, эффектность жеста - воспроизводят суммарный образ шиллеровского героя. Но сквозь этот заимствованный, условный облик неожиданно проступают черты старых знакомцев - Любима Торцова или Мармеладова: "Ты меня считаешь человеком, благодарю тебя!.. Сестра, сестра! не тебе у меня денег просить! А ты мне не откажи в пятачке медном, когда я постучусь под твоим окном и попрошу опохмелиться. Мне пятачок, пятачок! Вот кто я!" (Ш, 312). Благородство личности русского Дон Кихота опреде 1 ляется не его рыцарским (= дворянским) кодексом чести, а стихийным душев ным порывом, непосредственным движением сердца, позволяющим устроить счастье бедной девушки. "Красавцы-мужчины" Вихорев, Прежнее, Копров, Дульчин, Окоемов, Мулин, Паратов, Муров не имеют никаких особенных идей, равно как и "ничего заветного" в душе (V, 26). Островский упорно совлекает всякий романтический флер с их человеческого облика. Никакой "метафизики" - только ближайшие цели "теплого места и богатой невесты" (Ш, 9). Их соблазнительная красота, благородство манер, вольная развязка поведения изряд но скомпрометированы явной корыстностью. Драматург настаивает на обмельчании и испошлении этого "донжуанского" типа, вычитанного из книг, намечтанного в европейских пансионах, возвышенного силой воображения влюбленных героинь. Поверка книжного европейского идеала мужчины прозой русской жизни приводит к выводу, что в русской жизни нечего ожидать небывалых любовных страстей. Все проще, грубее, пошлее и грустнее: "У нас ведь не Италия... Страстной любви негде взятд , да и искать ее даже неразумно..." (IV, 227). "Бешеные деньги" можно рассматривать как иронический парафраз шекспировской комедии "Укрощение строптивой", название которой Островский русифицировал, пред ложив собственный перевод: "Усмирение своенравной". Поединок между мужем и же ной, в котором женские подвиги Лидии наталкиваются на твердую волю Василькова, ра зыгрывается не в эпоху Возрождения, а в век практический. В отличие от своего ренес сансного прототипа, практичный делец Васильков в любви еще юноша, вынужденный как заклинание повторять: "Я из бюджета не выйду" (III, 180). Мотив театра - комедии отчетливо звучит у драматурга, но в отличие от "разыгрывающих" друг друга ренессанс ных героев, Васильков "не комедии желает, а светлой жизни и счастья" (Ш, 198). Слабое сердце Василькова в этой борьбе окрепло и ожесточилось, его душа оскорблена и убита (III, 230). Лидия согласилась пройти школу смирения в экономках у собственного мужа, но поэзия искреннего чувства ушла из жизни героя, несовместимая с эпохой бешеных денег. В финале комедии бюджет празднует победу над душой героя.
Мифопоэтический пролог
Для русского общества середины XIX века характерен особый и острый интерес к проблемам отечественной истории. В 1840-х-1860-х годах выходят в свет исторические труды И.Е.Забелина, В.ИДаля, С.М.Соловьева, НИ.Костомарова, А.Н.Афанасьева. Публикуются сборники великорусских сказок, песен и сказаний русского народа, былин и духовных стихов - памятники издавна сложившихся народных воззрений на мир. Развитие исторической науки, успехи археологии, этнографии и фольклористики свидетельствуют о возрастающем тяготении к "славянским древностям". Обращенность к истокам, корням национального бытия - характерная черта русской мысли в эту эпоху, общая для ее различных течений и направлений. Улавливая "дух времени", Островский в 1873-м году создает пьесу о том, как начиналось бытие русского мира, какие законы лежали в его основании, каковы были отношения внутри человеческого сообщества и на каких религиозных представлениях они строились.
Опыт художественного постижения основ русской жизни вылился в форму театральной феерии. Островского увлекла задача "приручения" этого жанра, укоренения его в национальной театральной культуре. Феерия считалась жанром, в котором главную притягательную силу составляли декорации, обстановочная часть, превращения и балет. Элемент литературный считался в феерии не главным и даже "мешающим" восприятию спектакля. К 1870-м годам наивная, волшебная, сказочная феерия вышла из моды. Островский в "Снегурочке" стремился возродить этот жанр, и опровергнуть устоявшееся мнение, что " ... феерии не свойственна глубина мысли, перегружать феерию в этом смысле нельзя" (205, с. 28). В этой загадочной пьесе драматург вскрыл изначальные, глубинные, корневые основания русского мира, открыл для читателя и зрителя мифопоэтический мир славянской души. Духовной основой пьесы явились поэтические воззрения древних славян на природу, на человека, на мироздание в целом.
В качестве способа раскрытия изначальных основ русского мира Островский избрал мифопоэтический способ создания художественной реальности. В мифе в "свернутом виде" существует все то, что впоследствии разворачивается в исторической жизни народа. Мифы хранят в своей памяти "старые порядки", "обычаи честные старины" (VII, 425), являя собой объяснение и оправдание сложившегося миропорядка. Они " ... связаны с заветными племенными традициями, утверждают принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживают и санкционируют определенные нормы поведения. Миф (...) так объясняет человеку его самого и окружающий мир, чтобы поддержать этот порядок", - раскрывает энциклопедическая статья сущность мифа (253, с. 14).
Миф повествует о родовом благополучии на космическом фоне, в контексте основных мифологических оппозиций: космос/хаос; жизнь/смерть; тепло/холод; огонь/вода; свое/чужое; личное/родовое и др. Эпос интерпретирует те же архетипические образы и ситуации в квазиисторическом пространстве и не знает различий между конкретно-историческим, легендарным и фантастическим. Сказка возникает на линии разрыва мифа с ритуалом, поэтизирует мифические образы и "сказывает" о личной судьбе сказочного героя на социальном фоне (см.: 253, с. 15). Эти древнейшие художественные идеи и формы Островским сплавлены в единое целое, драматизированы и положены в основу содержания театральной феерии: родовое сообщество полулегендарных берендеев представляет собой мифологическое единство; литературный генезис торгового гостя Мизгиря - русский былинный эпос; судьба сказочной героини Снегурочки раскрывается в связи с судьбой Берендеева царства и оказывается тесно сплетена с жизненной судьбой Мизгиря.
"Начальное", "раннее" время действия весенней сказки - это "правремя" перводействий и первосмыслов существования славянского племени. Весна года соотнесена с утром дня и младенчеством человеческого рода. Первозданность - его ведущее качество: мир только что возник и полон радостной гармонии. Берендеево царство - это мир до грехопадения, заря мироздания, золотой век славянства: Веселы грады в стране берендеев, / Радостны песни по рощам и долам..." (VII, 409-410). Островский развертывает, длит, живописует это безмятежное состояние русского мира: время природной, религиозной, социальной и нравственной гармонии. Мифопоэтическая образность "Снегурочки" произрастает из древнейших народных
представлений: о "природных" богах, мудрой власти, праведном суде, согласной общинной жизни - миром и в мире. В "Снегурочке" понятие мир выступает во множестве образных значений, характеризуя жизнь берендеев как определенный миропорядок. Мир -общая гармония, согласие, благое состояние мироздания: "М и р о м красна Берендея держава" (VII, 410). Мир - родовая общность берендеев, единство человеческого рода: "Палящий бог, тебя всем миром славим!" (VII, 456). Мир - мирная, невоенная жизнь, прославляемая хором гусляров (VII, 409-410). Мир - общинное самоуправление, постановлениям которого подчиняется неукоснительно всякий берендей - и богатый Мураш, и бедный бобыль Бакула: "Что ты? / Забыл аль нет, что миром порешили / Освободить меня от всех накладов, / По бедности моей сиротской?" (VII, 388).
Общемировой миф о золотом веке, перенесенный драматургом на русскую почву, приобрел в его интерпретации специфические национальные черты. Ленивые, праздные, веселые, беспечные, счастливые берендеи удивительно похожи на поколенье людей золотое у античных авторов. Мир берендеев "правдой и совестью / Только и держится" (VII, 418), как и античный век золотой, "сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность" (193, с. 6). Основной закон жизни у берендеев "написан в сердцах" и свято соблюдается всеми. Каждый член родового сообщества живет в мире (= согласии) со всем родом берендеев, с выпавшим на долю уделом, то есть с самим собой. Бедный Бакула не ропщет на бедность, а весело уживается с ней; богатый Мураш не тщеславится богатством; советник царя Бермята не злоупотребляет близостью к нему, а царь Берендей не употребляет власти во зло.
"Народ не голоден, не бродит / С котомками, не грабит по дорогам..." (VII, 412). Воруют, как искони ведется на Руси, но понемножку, так что и не надо их ловить, труды терять: "когда-нибудь да попадутся" (VII, 412). Даже сам премудрый царь Берендей считает, что "грех неправого стяжанья / По мелочи не очень-то велик / Сравнительно" (VII, 412). "Супружеская верность / Утратила немного, так сказать, / Незыблемость свою и несомненность" (VII, 414), но опять же немного, извинительно, без роковых последствий. Бермяте не приходится пенять и удивляться, не в первый раз увидев свою супругу Елену Прекрасную в чужих объятиях. Изображение социальной гармонии в Берендеевом царстве сдобрено изрядным авторским юмором и добродушным лукавством. Это юмор взрослого по отношению к детям: у берендеев-детей природы и конфликты - детские, то есть разрешимые, не опасные для родового социума. Суд у берендеев - гласный, на миру, послушный богам. Образец праведного суда - суд
царя Берендея. Приговор - справедливый: грозный, но не свирепый, поскольку в уложе-ньи берендеев кровавых нет законов, они и не требуются - до времени. Народ великодушный, честной и добрый живет по тому неписаному закону жизни, который естественно возник из природного закона взаимного влечения полов. Выступая защитником высшего закона любви, внушенного природой и богами, великий царь счастливых берендеев, за всех сирот заступник, отец земли своей, батюшко, светлый царь - лично, как родной отец, входит не только в сущность государственных проблем, но и в сердечные мирские дела. Грозный характер царского суда смягчается разбором дела по совести, по душе, по человечеству.
Вертикаль существования прочерчена в "Снегурочке" с абсолютной явственностью: над здешним миром полулегендарных берендеев царит бог-солнце Ярило, с которым они связаны кровно и прочно. По словарю Даля, Ярила - "древний славянский бог плодородия, от которого ярится земля и все живое" (83, с. 680). В наименованиях верховного божества отражается его значение для берендеев, его центральное место в славянской мифологии: Ярило светлый, податель тепла, царь светил, бог света, свет и сила. К нему устремлены все помыслы берендеев, в служении Яриле видят они смысл своего существования, залог земного благополучия. В народном сознании светоносность - проявление святости, праведности, истинности. "Слова "свет" (светить) и "свят" (святить) филологически тождественны. ... Сама стихия света есть божество, не терпящее ничего темного, нечистого, в позднейшем смысле греховного", - расшифровывает смысловую значимость обоготворения света знаток славянской мифологии А.Н. Афанасьев (21, с. 50).
Сами берендеи - носители ярой (= жаркой, пылкой) стихии огня. Горячие речи, ретивые сердца, горячие ласки, пламенные чувства, горячая привязанность - это огонь Ярилы в людях. Привычные поэтические штампы огонь любви, пламень чувств, пламенная любовь в изображении природы чувств берендеев теряют метафорическую переносность смыслов и выступают не в образном, а в своем первоначальном прямом значении. Островский возвращает их в ту мифологическую реальность, которая их породила. Оттого так светло-празднична обрядность берендеев, что в ней играет радость любовного избытка, даруемая богом-Солнцем. Эта связь людей с верховным божеством радостна, весела, прекрасна и нерушима. Она сакрализована, религиозна в существе своем и обрядно-ритуальна по форме.
В новоевропейской перспективе
В пореформенной драматургии предметом художественного изображения драматурга становится время Европы на пространствах России. Оно меняет "цвет и аромат реальности (ААГригорьев), ритм жизни, саму атмосферу действия. Новое время проникает в строй жизни героев Островского исподволь, постепенно. В воздухе, в духе времени появляется нечто незнаемое и незнакомое. В пространство Московской Руси просачиваются веяния и завихрения исторического времени Европы, смущая православных христиан. Проникая в сознание героев в виде моды, заразы, они проявляются вовне в виде чисто русской дури. Образованность и невозможный французский выговор Липочки - явление того же порядка, что и фицыянт в нитяных перчатках вместо услужающей девки и шампанское вместо домашней наливки в доме Гордея Торцова. По словам драматурга, " ... потеряв русский смысл, они не нажили европейского разума; русское они презирают, а иностранного не понимают; русское для них низко, а иностранное высоко; и вот они, растерянные и испуганные, висят между тем и другим, постоянно озираясь, чтоб не отстать одному от другого, а всем вместе - от Европы относительно прически, костюма, экипажа... (X, 135).
В цельном и едином театральном хронотопе Островского просматривается еле заметная поначалу трещина. Меняется внешний облик русского мира, в нем появляются новые бытовые реалии. Глядишь, "муар-антик в моду пошел (П, 151). И "уж все нынче носят бурнусы, уж все, кто же нынче не носит бурнусов (П, 276). Исчезают скромные платочки на головах мещанок: "А кто нынче в платочках-то ходит. Все и лавочницы шляпки надели" (У, 86). Взамен русских песен распевают романсы (1,298), русским книгам предпочитают переводные романы, которые в гостиных хотя бы "для близиру лежат (1,165). Под-халюзин в свое время не знал французского языка, потому что ему это было "не для чего (1,134). А "теперь приказчики в магазинах разговаривают по-французски, ногами шаркают (П, 16). Нынче все знают, что "тиранство-то уж не в моде (П, 124). И женщины уже не только в баню да в церковь ходят, но и в гости ездят, и в театр, и на гулянье; "Да уж нынче таких антиков немного, чтоб Сокольников не знать" (У, 88). И девицы "стали благороднее во всех направлениях (П, 124), и мужчины "мужицкое-то обращение везде бросают, выходить стало из моды" (П, 411). Шляпки вместо платочков, бурнусы вместо салопов, французские журналы с картинками и переводные романы вместо русских книг, романсы вместо народных песен, городские гулянья вместо домашних посиделок...
Эта, "хронотопическая трещина" расширяется, углубляется, и вот уже русский мир Островского предстает в новом обличье: светские визиты, вечера в клубе, гастроли иностранных артистов, регулярные поездки в Европу... Васильков проездом из Англии изучает земляные работы и инженерные сооружения на Суецком перешейке (Щ, 172); Париж, Швейцария, Петербург - в планах Глафиры Алексеевны, которые Лыняев непременно исполнит (IV, 205); за границей по совету докторов поправляют свое здоровье Ксения (V, 431) и жена генерала Гневышева (IV, 225); в Париж с переездом на воды собирается ехать со своей доверительницей Глумов, нанявшийся в un secretaire intimt, а проще говоря, взятый ею на содержание (Ш, 241); Кнуров и Вожеватов собираются ехать на Всемирную парижскую выставку 1878 г. (V, 12); Стыровы после свадьбы "уехали в Петербург, два раза ездили в Париж, были в Италии, в Крыму, погостили в Москве..." (V, 151) - вот оно, единое европейское пространство жизни, вбирающее в себя и европейские центры культуры, и провинциальный Бряхимов, и обе русские столицы, и теплый Крым. Дела у персонажей этого круга драматургии уже не только за Москвой-рекой, но и за Рейном, и за Темзой.
Обеды с остроумными речами и репликами, спичами и сплетнями; клубная болтовня, визиты, ухаживания и мимолетные романы, карьерные устремления, карточные проигрыши, неизбежные долги, потерянные родовые поместья и снимаемые дачи под Москвой, дутые состояния и репутации, слухи о бешеных деньгах и золотых приисках; жертвы во имя карьеры, выгодной женитьбы, приращения семейства; призрак долговой ямы у Воскресенских ворот - такова поверхность европеизированной русской жизни в комедиях пореформенного периода.
Время Европы, бывшее в "Грозе" неведомой и грозной волей, отторгаемое персонажами "Пучины" дало неожиданные и странные сплетения "французского с бряхимов-ским" в русской жизни, устраиваемой по новоевропейскому образцу. "Хронотопические ножницы" между временем Европы и пространством России обрисовываются драматургом с тонкой иронией. Смешно, когда легкомысленному прожигателю жизни Лавру Ми-ронычу "здоровье папы внушает опасения". Нарвавшись на ехидный вопрос Глафиры Фирсовны: "Кому же это? Уж не тебе ли?" - он важно отвечает: "В Европе живем, Глафира Фирсовна" (IV, 346). Еще смешнее, когда бездельный и вечно пьяный Барабошев не менее важно говорит, что "в Лондоне курсы слабы" (IV, 299). По замечанию Василькова, "теперь говорят, как в английском парламенте, а думают все еще как при Аскольде. А делают... Да что здесь делают? Ничего не делают" (Ш, 225).
Различные персонажи, населяющие эти пьесы, живут как бы в разных исторических эпохах. Люди старого веку, старого покроя - многочисленные маменьки, тетушки, дядюшки, лакеи, слуги и приживалки, экономки и ключницы - постепенно отходят на периферию сюжета, становятся "фоновыми" персонажами, продолжая в силу исторической инерции существовать в русской жизни. На первый план выходят и становятся активными носителями драматического действия герои Нового времени - люди светской культуры, секулярного сознания. Из их речей практически исчезают упоминания о грехопадении, искушениях и соблазнах, о дьявольских уловках и Страшном суде. Понятие греха в речах действующих лиц встречается все реже, количество упоминаний о грехе заметно уменьшается, пока не исчезает совсем: в Последней жертве" - 13, в "Не от мира сего" - 9, в "ТЛ& всякого мудреца..." "Поздней любви", Невольницах", "Талантах и поклонниках", "Красавце-мужчине" - 4, в "Волках и овцах" - 3, в "Доходном месте", "Бешеных деньгах", Ъез вины виноватых" - 2; в "Богатых невестах" и бесприданнице" -соответственно по одному разу.
Изменения в лексике персонажей, в их фразеологии говорят о том, что Новое время возникает на линии разрыва с традиционной народной религиозностью. Религиозный тип чувствования, сознания и поведения сменяется новоевропейским. Людей духа сменяют люди культуры, людей русского смысла - люди европейского разума. Русская воля сменяется европейской свободой. Традиционная для русского сознания координата существования человек/мир вытесняется новоевропейской мировоззренческой координатой личность/общество.
Островский внимательно вглядывается в новые для русской жизни лица. Он с уважением обрисовывает добропорядочность Иванова, сознательный аскетизм Мыкина, щепетильную честность Маргаритова. Он сочувственно относится к решимости Корпелова и Грунцова честно жить на добываемый скудный трудовой хлеб. Для него безусловно ценным является в Жадове то, что его сердце не загрубело в пороке. Он горько сожалеет о сомнительном выборе Бориса Григорьевича, отсекающем перспективу другой жизни. Он надеется, что Николай Шаблов сумеет укрепиться на стезе разумного и ответственного существования. Он с нежной насмешливостью показывает избыточную идеальность Платона Зыбкина, но ему дорого то, что герой этой комедии способен идти в долговую яму, рискуя своим будущим, однако не предать свою возлюбленную на посмеяние. Он иронизирует над немыслимой идеальностью Цыплунова, но верит в спасительную силу его человечности. Его восхищает естественное благородство Несчастливцева и Нарокова,
сквозящее сквозь провинциальную выспренность их тирад. Драматург не скрывает некоторой ограниченности Пети Мелузова, глухого к обаянию искусства и наивного в своем рационалистическом методе улучшения человека: "Ты мне рассказываешь, что ты чувствовала, говорила и делала, а я тебе говорю, как надо чувствовать, говорить и поступать..." (V, 231). Но сквозь налет "базаровщины" просвечивает в образе любящая душа Пети, способного, хотя и с запозданием, но все-таки понять и вопреки естественному мужскому эгоизму простить свою неверную возлюбленную.
Жизненная реальность театра
Жизнь человеческой души - сквозная тема творчества Островского - остается центральной и в пьесах, посвященных теме театра. Она лишь иначе преломляется, связанная со специфичной жизненной реальностью театра. Островский знает театр в его внутрен 240 нем существе и подходит к его изображению во всеоружии своего драматургического мастерства. Он сосредотачивает внимание на том, чем живет душа артиста, и на тех изменениях, которые происходят с душой "всякого" человека, оказавшегося во власти театра.
Редкую возможность в самом "объективном" роде литературы расслышать задушевные мысли самого писателя предоставляет комедия о начале русского театра "Комик XVII столетия": своего рода исторический пролог к театральной теме в творчестве Островского. Время действия комедии - это время, когда "много / Заводится порядков новых" (VII, 301). Драматизируя русскую жизнь XVII столетия, драматург воссоздает сложное сплетение старого и нового в ней: еще настороженная боязнь театра как греховной новинки, еще детская увлеченность новизной актерства, еще наивные театральные формы, но уже зрелое понимание театра как "признака совершеннолетия нации" (X, 139).
Для Островского создание национального театра имеет несомненное положительное значение. Но герои его комедии относятся к театру с каким-то детским ужасом, который в исторической перспективе не может не восприниматься комически: "Боже! Немецкий поп крещеных, православных / Подьяческих детей потехе учит!.. О, Господи помилуй!" (VII, 350). По всему пространству пьесы разбросаны высказывания, показывающие трудности заимствования исчужа. И прежде всего это сложности психологического порядка, связанные и с извечной опаской по отношению к "чужому", и с недоверчивостью ко всему, что выходит за пределы дедовских обычаев, и с твердой убежденностью в ценности "своего" и ненужности, ничтожности всего "чужого". Для действующих лиц комедии совершенно необходимо согласить любую новизну с отеческим преданием, внутренне принять ее как дело подлинно христианское, а если это невозможно - то решительно отвергнуть. Новизна, которой нет в обычае - смущает. "Православным / Родился ты; обычай иноземский / Узнать не грех, перенимать грешно; / А паче их забавы, в них же прелесть / Бесовская сугубая", - наставляет старик Кочетов сына (VII, 302).
Воспитав Якова в духе строгого Сильвестрова устава, Кочетов ужасается слуху о том, что сын в скоморохи подался. Он не в силах в это поверить: "Облай его как хочешь, / Грабителем казны, церковным татем, / Убийцею, коль Бога не боишься, / Коль бес в тебе засел, а скоморохом / Не обзывай!" (VII, 349). Он защищает сына до последнего, не желая верить в его падение. Да и сам Яков, взятый в обучение, страшится своего увлечения: "С дуру-то и продал душу черту" (VII, 311).
Пастор Грегори, выписанный из Германии для обучения русских театральному делу, стремится убедить Якова в том, что греха здесь нет: "У нас и Бог один, и грех один, / Я пастор сам, такой, как поп у русских; / Что я греху учу, сказать лишь может / Кто не учен, совсем нештудирован". Но он отнюдь не авторитет для твердого в вере подьяческого сына: Толкуй себе: не грех. Тебе уж кстати / В аду кипеть, а мне так нет охоты" (VII, 322). Боязнь греха заставляет Якова бегать от ученья неслыханному действу: "Душонка-то изныла. Мне ли тешить, / Ломать себя, чужую образину ... / Напяливать на облик православный, / Веселым быть и веселить других, когда в глазах зияет ад кромешный, / Над головой отцовское проклятье! / Кому Эсфирь, а мне душа нужна. / Греха боюсь, уйду. Прощайте, братцы. (Убегает.)" (VII, 334).
Органика талантливой натуры, прирожденный дар комика, глубинные потребности артистической души входят в противоречие с уроками "Домостроя". Испытавший сладость актерства, Яков не может забыть мгновений вольной актерской игры. Сцена манит, таинственно влечет к себе. "Да так-то хорошо ... Вот так тебя и тянет, / Мерещится и ночью", - признается он невесте (VII, 312). Наталья в простоте души любопытствует: "Без крестов / Играете игру-то? Перед действом / Снимаете кресты-то?". И вздрагивает от страха, услышав в ответ: "Не снимаем". И сочувственно вздыхает: "Греха-то что!". Ее вздоху вторит согласное подтверждение Якова: Треха не оберешься" (VII, 312).
Герою комедии еще только предстоит сложный процесс смены амплуа подьяческого сына на царева комедианта. Измениться должны не социальные одежды, а сама личность героя: обыденно-мещанское "я" должно быть вытеснено и замещено его артистическим "я". Вся надежда не только театрального учителя Якова, но и самого драматурга - на то, что талант "свое возьмет" и уведет одаренного человека в манящий мир театральной игры.
Для Островского немыслимо согласиться с утверждением, что театр есть " ... школа мира сего и князя мира сего - диавола", что " ... все небесное, святое, носящее печать христианства чуждо театру" (цит. по: 166, с. 58). Всем содержанием своей комедии драматург опровергает ходячее представление о театре как богомерзком учреждении. В уста Артемона Сергеевича Матвеева вкладывает драматург мысль о высокой просветительской миссии театра. Отвергая низкий комизм домашних шутов, дур, калек, тешащих бояр и боярынь руганьем срамословным, боярин Матвеев предлагает взамен "бесстыжих их плясаний, с вихляньем спин и песнями срамными" - действа комидийны, "где хитрым измышленьем / И мудростью представлены, как въяв, / Царей, вельмож, великих полководцев, / Философов дела и обхожденья" (VII, 326).