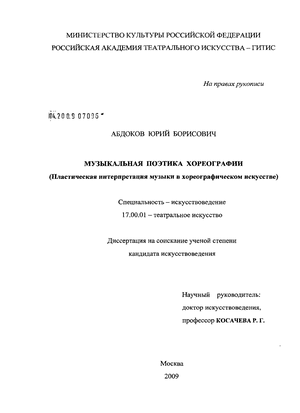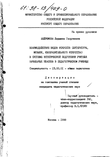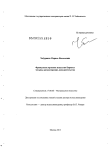Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Хореографическое воплощение мелодики, гармонии, фактуры и полифонии стр. 20
Глава II. Хореографическое воплощение метра, ритма и темпа стр.79
Глава III. Хореография и оркестровка стр. 110
Глава IV. Интерпретация нетеатральной музыки в современной хореографии стр. 135
Заключение стр. 177
Литература стр. 184
- Хореографическое воплощение мелодики, гармонии, фактуры и полифонии
- Хореографическое воплощение метра, ритма и темпа
- Хореография и оркестровка
- Интерпретация нетеатральной музыки в современной хореографии
Введение к работе
Мы почти ничего не знаем о тех временах, когда человек впервые соединил в своем сознании образы видимого и слышимого. Однако пластическое естество музыкального интонирования, пластическая природа ритма и метра красноречиво свидетельствуют о том, что синтез первичнее разделения: древний человек соединял в своем ощущении то, что выражало для него идею пла-стико-движенческого (танцевального) и звуко-образного (музыкального). С этой точки зрения, можно говорить о синкрезисе — о пра-синтезе музыки и танца. Синтез видимого и слышимого, постижение мироздания через визуализацию слуховых образов, — собственно музыкально-хореографический синтез, — это в своем высшем проявлении нечто нерукотворное, всегда бывшее и пребывающее, неисчерпаемое. Музыка и хореография помогают человеку осмыслить жизненное пространство искусств, не сводимых к функциям утилитарных ремесел, необходимых человеку лишь для физического выживания или внешней эстетизации быта.
Актуальность исследования обусловлена тем, что пластическое освоение музыки на балетной сцене не является частной проблемой какого-то отдельного творческого метода. В большей степени это — одна из мало разработанных проблем всеобщей морфологии искусств. Тема эта грандиозна, и вряд ли ее можно всеохватно рассмотреть в рамках одного аналитического труда. Мы исходим из мысли о том, что понимание основ взаимодействия хореографии и музыки требует в первую очередь осмысления лексической природы музыкально-хореографического синтеза. Такая конкретизация, и даже «сужение» взгляда на музыкальную поэтику хореографии на самом деле открывает перспективу и более широкого эстетического взгляда на существо затрагиваемых в работе проблем.
Интерпретация музыкальных текстов, лежащих в основе хореографических произведений, лишь как некоего фона, не объясняет всей сложности проблем, возникающих при осмыслении многомерного соотношения музыки и
танца. Общеупотребительными и привычными в балетном обиходе стали такие понятия, как музыкальное оформление балетных классов, музыкальное сопровождение хореографии и т. п. Однако при такой вспомогательно-смысловой трактовке функций музыки значительно обедняются и образно-выразительные, и художественно-эстетические достоинства искусства танца. Не музыкальное оформление, а музыкальное содержание хореографии — в основе нашего взгляда на музыкальную природу танца.
Объектом исследования в данной диссертации являются опусы хореографов разных времен, национальных школ и направлений: Дж. Баланчина, М. Фокина, Л. Мясина, В. Нижинского, Бр. Нижинской, К. Голейзовского, А. Мессерера, Л. Лавровского, Л. Якобсона, Ю. Григоровича, М. Грэхем, Ф. Аштона, А. Тюдора, X. Лимона, Т. Болендера, Дж. Роббинса, Дж. Кранко, Р. Пети, М. Бежара, П. Тейлора, К. Макмиллана, X. Шперли, Дж. Ноймайера, М. Морриса, К. Брюса, И. Килиана, Н. Дуато, Ж.- К. Майо, У. Шольца, X. ван Манена, Т. ван Шайка и др.
Помимо характерности проявления исследуемых проблем, выбор примеров для анализа обусловлен — и это, безусловно, заслуживает того, чтобы быть выдвинутым на первый план — художественно-исторической значимостью памятников музыкально-хореографического искусства прошлого и современности, а также непременной визуальной сохранностью хореографического материала.
Последовательность, в которой рассматриваются отдельные опусы разных хореографов, не должна восприниматься даже как намек на какую-либо историко-эволюционную, стилевую или жанровую классификацию и, тем более, как «табель о рангах» в оценке качества пластического постижения музыки разными хореографами. Мы не пишем историю пластического освоения музыки в балетном театре. Это задача достаточно отдаленного будущего. Смещения времен, стилей, жанров, эстетических ценностных систем, происходящие при сопоставлении в диссертации имен и произведений, принадлежащих к разным (порой диаметрально противоположным) эстетическим измерениям — следст-
виє того, что основной целью нашей работы является рассмотрение лексических взаимосвязей языка музыки и танца, осмысление глубинных (с позиций театроведения весьма сложных) механизмов структурирования единого музыкально-хореографического пространства. В соответствии с поставленной целью в диссертации намечено решение следующих конкретных задач:
осмысление музыкально-хореографического движения как феноменологической доминанты лексического синтеза хореографии и музыки;
анализ хореографического материала, воплощающего в себе мелодико-интонационное, фактурное, гармоническое и полифоническое содержание музыки;
исследование хореографического отражения ритмического, метрического и темпового сложения музыки;
рассмотрение хореографического резонанса оркестровки;
раскрытие механизмов пластической ретрансляции изначально нетеат-ральной музыки в современной хореографии.
Степень разработанности темы диссертации в отечественном и зарубежном искусствознании нельзя считать исчерпывающей. Природа музыкально-хореографического синтеза затрагивается с разных позиций многими исследователями истории, теории и практики балетного театра. Бесценным материалом по осмыслению пластического воплощения музыки и сегодня остаются мемуарные и аналитические труды выдающихся зарубежных и отечественных балетмейстеров и композиторов, от Ж.-Ж. Новерра до М. Фокина и М. Бежара, от Ж.- Ф. Рамо до И. Стравинского и С. Прокофьева. При этом количество научно-аналитических трудов вряд ли соответствует тому значению, которое имеет хореографическое искусство в художественно-эстетическом пространстве прошлого и современности. Исследований, содержащих в себе постижение всей многомерности пластического воплощения музыки на балетной сцене явно недостаточно.
Научная новизна работы состоит в выработке нового концептуального взгляда на предмет исследования — морфологию пластической ретрансляции
музыкального материала в хореографические образы. Мы ставим перед собой задачу не только всестороннего использования, но и преодоления методологии формального изучения произведений музыкально-хореографического искусства: проблема как рассматривается нами в прямом соотношении с проблемами что и кто.
Насущная потребность в морфологическом осмыслении музыкального состава хореографии возникла в процессе педагогической работы автора с несколькими поколениями молодых балетмейстеров, композиторов и симфонических дирижеров в Московской Государственной Академии Хореографии, Московской консерватории и зарубежных творческих мастерских. В ходе занятий стало ясно, что современное музыкознание и балетоведение не имеют научно адекватного понятийно-терминологического аппарата для исследования музыкально-хореографического синтеза. Это вполне объяснимо, ведь анализ музыкального состава хореографии зачастую ограничивается описаниями ассоциативно-психологического порядка или подменяется анализом сугубо театроведческим, эстетическим или историософским. Однако проблемы истории, эстетики, жанровой и стилевой типологии балетного театра, серьезно разработанные в искусствознании, не исчерпывают содержание обозначенной нами темы. Здесь необходим взгляд иной. Специфика композиторского взгляда на музыкальную поэтику хореографического искусства заключается в постижении лексического синтеза музыки и танца — т. е. взаимного резонанса между стилеоб-разующими средствами музыкальной выразительности и хореографической пластикой. Для этого нами предлагается такой понятийно-смысловой инструментарий, который, как нам представляется, наиболее соответствует избранному типу исследования музыкально-хореографического синтеза и доступен в равной степени как хореографу, так и театроведу, и музыканту.
Значительная часть исследуемого материала прежде в ракурсе музыкально-хореографического синтеза не рассматривалась, а во многих случаях не исследовалась вовсе. Анализ природы взаимодействия оркестровки и хореогра-
фии равно, как принципов пластической ретрансляции нетеатральной музыки в современной хореографии, осуществлен впервые.
Методологической основой диссертации стали труды известных теоретиков и историков балетного искусства, хореографов, композиторов, дирижеров и музыковедов: Б. Асафьева, М. Бежара, В. Бурмейстера, В. Ванслова,
A. Волынского, В. Гаевского, К. Голейзовского, Р. Захарова, Р. Косачевой,
B. Красовской, Ф. Лопухова, К. Мелик-Пашаевой, А. Мессерера, А. Пазовского,
C. Прокофьева, Ю. Слонимского, И. Соллертинского, И. Стравинского, Е. Су-
риц, В. Тейдера, Ю. Файера, В. Федотова, М. Фокина и др.
В формировании позиции автора и концепции данного исследования существенную роль сыграли работы выдающихся зарубежных и отечественных искусствоведов, театроведов и художников разных времен: Э. Бентли, А. Габричевского, Дж. Рескина, У. Хогарта, С. Эйзенштейна и др.
Доктрина анализа, предложенного в настоящей работе, оперирует идеей логико-эстетического дуализма в понимании природы музыкально-хореографического синтеза. Музыкально-хореографический синтез основывается на некоем феноменологическом единстве целей; однако не стоит догматизировать это единство, забывая о широком спектре смысловых антиномий, па-
1 Еще в первой половине прошлого столетия выдающийся британский математик и философ А.Н. Уайтхед отмечал важность и неразработанность в современной философии аналогий между логическим и эстетическим типами понимания искусства: «Понимание логики — это наслаждение теми абстрактными деталями (здесь и далее курсив мой. — Ю.А.), которые способствуют абстрактному единству. По мере развития наслаждения подлинным откровением становится единство конструкции. <...> Логика начинает с простейших идей и затем сочетает их вместе. Развитие эстетического наслаждения происходит в противоположном направлении. <...> Целое здесь предшествует частностям. <...> В эстетике тотальность выявляет свои составные части. <...> В величайших примерах любой формы искусства достигается чудесное равновесие. Целое демонстрирует составляющие его части, ценность каждой из которых увеличилась, а части ведут к целому, которое больше их, но не является разрушительным по отношению к ним. <...> ...часто предварительное изучение деталей, если они сохраняются, оказывается более интересным, чем то, как детали окончательно проявляются в законченной работе...» [119. С. 387-388].
Мы не ограничиваемся только предварительным изучением деталей, а проецируем интерес к частям на анализ и понимание і/елого, — ив том, что касается отдельных средств музьїкально-хореоірафической выразительности, и в осмыслении музьїкально-пластігческого формосложения. Морфологические компоненты музыкально-хореографического синтеза осмысливаются нами не в замкнутости и самоценности важнейших средств выразительности, а в органичном взаимопреодолении визуального и слухового, временного и пространственного, плоскостного и объемного и т. д.
радоксально заполняющих его . С другой стороны, при всей антиномичности логического и эстетического понимания музыкального содержания хореографии только параллельное рассмотрение абстрактного и конкретного дает возможность полноценно осмыслить как характерность частей, так и равновесие целого.
Теоретическая значимость работы заключается в расширении той области искусствознания, которая рассматривает музыкальную поэтику хореографии с позиций театрального синтеза. Предлагается такой тип анализа художественного материала, который в равной степени доступен и хореографам, и музыкантам. В научный оборот вводится большой объем ранее не исследовавшихся произведений, фактов, определений, которые могут стать теоретическим подспорьем для балетоведов, театроведов и музыковедов, исследующих синтетическую многосоставность хореографического искусства. Каждый из аналитических этюдов — это не единственный, но один из возможных (на наш взгляд — наиболее убедительных) способов решения задачи по пластическому освоению того или иного аспекта музыки —- при сохранении ощущения неразрывности всех компонентов, ее составляющих.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее выводы дают исходный импульс (прежде всего начинающим хореографам, композиторам и театральным дирижерам) в постижении музыкального состава хореографии. Материалы исследования могут быть использованы в образовательном процессе в хореографических и музыкальных вузах.
Апробация и внедрение результатов работы осуществлены автором в монографии «Музыкальная поэтика хореографии: Взгляд композитора» (М.
1 Американский философ Сьюзен Лангер справедливо отмечает: «Общие теории должны быть построены через обобщение принципов частной области, известной и постигнутой во всех деталях. Там, где нет никакого систематического порядка, служащего в качестве образца, общая теория, скорее, состоит из неопределенностей, чем из обоснованных обобщений» [61. С. 188].
Именно стремление к обоснованности обобщений определило характер нашего системного подхода к анализу воплощения всех стилеобразующих средств музыкальной выразительности средствами хореопластики. При этом в органичном музыкально-хореографическом контексте нами рассматриваются лишь очевидные и бесспорные аналогии и смыслообразующие параллели в соотношении музыки и танца.
ГИТИС. - 2009), а также в виде докладов и лекций, прочитанных на международных научно-практических конференциях и семинарах в МГАХ (2003-2008), МГК им. П.И. Чайковского (1997-2009), а также мастер-классах в России и за рубежом. Основные положения диссертации и содержащиеся в ней материалы и выводы легли в основу лекционного курса «Музыкально-хореографический анализ», читаемого автором в МГАХ для аспирантов. Отдельные положения исследования апробированы в творческой деятельности автора по восстановлению балетных партитур классического наследия в Большом театре России («Дочь фараона», «Пахита» и др.).
Структура работы отвечает задачам реферируемого исследования и состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.
Феноменология музыкального содержания хореографии не может быть рассмотрена вне единства временного и пространственного. Именно синтез этих измерений и составляет генезисную сущность хореографического искусства, в котором музыка — не фон и декор, а образно-содержательная цель в реализации самых разнообразных художественных задач. Музыка является в своем роде совершенным художественным воплощением временного начала. Танец направляет на пространственное и, подчеркнем, визуальное художественное восприятие различных образов, он воплощает в себе поэтику изобразительных и пластических искусств, от живописи до скульптуры. Всякое пространственное искусство воспришшается как иерархия закономерных пространственных отношений. При этом пространственные искусства оперируют различной структурой пространственного сложения. Так, живопись воссоздает пространство путем иллюзорной проекции специфических символических знаков на плоскость картины; в скульптуре пространство — некая нейтральная пустота, позволяющая созерцать трехмерность материального тела; в архитектуре — своего рода динамическая среда, в которой запечатлена сложная система образов движения. Хореография обнаруживает в своем пространственном сложении черты всех названных видов.
Где находится тот центр притяжения, в котором сходятся и образуют единое целое, основополагающие принципы художественного измерения пространства и времени, гармоничное сочетание которых и рождает танец как искусство рисования телом музыки? А именно такое этимологическое осмысление хореографии представляется нам наиболее верным, позволяющим наиболее полноценно исследовать его художественную структуру. Своего рода точкой «золотого сечения», своеобразным полюсом притяжения в соотношении пространственного и временного представляется нам фактор движения. Пространственная ориентация музыкально-хореографического искусства — это синтез видимого и слышимого, где движение оказывается своеобразным скрепляющим феноменологическим элементом. На стыке видимого и слышимого и рождается хореопластика, как и любая пластика, осязательная по своей природе.
Иногда смысл музыкального движения рассматривается балетмейстером лишь как отражение темпо-ритмической структуры музыкального текста. Нам еще предстоит определить сущность темпо-ритмических связей музыки и танца в многоступенчатой системе трансформации музыкального текста в текст хореографический. Но прежде необходимо развенчать укоренившееся упрощенное представление о связи хореографического и музыкального движения. Стремление следовать музыкальному о темпу как формальной скорости при решении хореографического замысла часто приводит к неполной и ошибочной расшифровке содержания музыкального движения. Скорость, безусловно, значимая категория в определении природы движения, но скорее правилом, а не исключением, является несовпадение между скоростью и «заданностыо» энергетики движения, которую в дальнейшем мы будем именовать инерцией движения. В процессе исследования самых различных образцов хореографии мы докажем необоснованность выводов о том, что темповые несовпадения в развертывании музыкального и хореографического материала неминуемо приводят к разрушению художественного целого. Равным образом спорно укоренившееся в балетной критике мнение о несостоятельности полгшетрического соотношения в органичном сплаве движения музыки и танца: соотношение кратно-
го и некратного, четного и нечетного в метрических измерениях музыки и танца может совпадать, а может и разниться. Единственным критерием в определении темпо-метрической адекватности танца музыке может быть только конкретный художественный метод, а не готовая на все случаи схема или формула. Подчеркнем, что проблема темпо-ритма лишь в малой степени открывает перед нами завесу над тайной музыкально-хореографического движения. Представим себе следующий пластический экзерсис:
Некая фигура движется в определенном скоростном режиме (темпе), который четко метрономически и хронометрически определен. Допустим, что воображаемая фигура двигается в темпе, соответствующем andante. Ничто не сковывает этого движения, не встречающего преград и сопротивления.
Та же фигура движется в темпе, метрономическая скорость которого полностью соответствует скоростным параметрам из предыдущего примера. То есть, тот же темп andante, те же хронометрические рамки движения. Но теперь вообразим, что движение встречает многочисленные препятствия. Двигающаяся фигура как бы вынуждена выдерживать колоссальное сопротивление некой пружины, притягивающей ее в изначальное положение статики. Преодолевая это огромное сопротивление, она, тем не менее, совершает свое движение в строго обозначенном нами скоростном режиме. При полностью совпадающих метрономических (темповых) и хронометрических (временных) характеристиках содержательный смысл движения в одном и другом случаях различен. Первый вариант содержит в себе инерцию медленного движения, второй — скованную стремительность вихря.
Сравнительный анализ этих простых примеров позволяет определить сущностные характеристики времени и движения в музыкально-хореографическом искусстве. Не формальная скорость, а характер движения — задаваемая соотношением скорости и всего комплекса художественно-выразительных средств его инерция дает нам возможность определить своеобразный тип движения музыки. Инерцию следует понимать не только как направленность развертывания музыки, но и как систему различных напряэ/сений
внутри этой направленности. Не движение вообще, а тип движения как концентрация всех слагаемых в развитии музыкального материала объясняет нам во многом существо и особенности течения музыкально-хореографического времени. Соотношение формальной скорости и инерции развертывания движения образует верный образ движения.
Неидентичность, а подчас антагонистический характер этих понятий определяет сущность многомерного взгляда на природу музыкального движения вообще и его музыкально-хореографическую природу в частности. Именно инерция движения, а не формальная скорость, дает нам самые верные представления и о хронометричной, равно как ахронометричной сущности музыкально-хореографического развертывания. Типология музыкального движения — это та сфера, которая во многом определяет качество музыкально-хореографического синтеза. Способность диагностировать движения, сообразуясь со стилем того или иного автора, — задача одинаково значимая и для симфонического дирижера, и для балетмейстера-хореографа.
Не секрет, что для многих симфонических дирижеров нетрафаретное, весьма сложное темпо-ритмическое письмо является своеобразным камнем преткновения. У Брамса или Мясковского быстрые темпы предполагают своеобразное движение «на натянутых вожжах» — как если бы неудержимый поток движения сдерживался незримыми преградами. Эти оттяжки не только не тормозят общего движения, но сообщают ему характерные черты напряженной, «титанической» внутренней работы. Напротив, медленные темпы у названных композиторов содержат в себе своеобразную пружину, способствующую преодолению вязкости и статики медленного развертывания. Что касается Росо allegretto и подобных типов движения, то они практически не поддаются точному метрономическому определению. Только серьезный анализ соотношения ткани, фактуры, тембровой драматургии в соединении с темпо-ритмом дает ключ к стилистически верному прочтению таких типов движения, где формальная скорость скорее обманывает, нежели открывает сущность движения. Симфонические сочинения названных композиторов, будучи исполнены в соответствии с
классическими нормативами хронометрии, теряют весьма много. Собственно, сложность в интерпретации шедевров Брамса, и особенно Мясковского, объясняется не мифической усложненностью их интеллектуального и образного содержания, безусловно, требующего от исполнителя большой внутренней культуры и изрядного художественного вкуса, а необычностью форм и типов движения, заключенных в этой музыке. Даже выдающийся морфолог искусства А. Г. Габричевский, характеризуя поэтику движения музыки Брамса, пишет: «...в искусствах временных резкое преобладание метрических моментов (ср., например, марши и другие традиционные или танцевальные метры, оправданные не изнутри, а часто извне, хотя бы у молодого Вагнера или Шумана, или довольно малоубедительные дионисийские порывы в финалах старика Брамса)...» [26. С. 149]. С выводом ученого можно согласиться с большими оговорками. Не оспаривая своеобразное дионисийство многих финалов Брамса, хочется все же выяснить, что является для ученого малоубедительным: образный «интерьер» этой музыки, быть может, не близкий, не понятный ему, или существо типа двиоісения музыки? По Габричевскому, жанровая характерность сообщает финалам Брамса внешнее организационно-метрическое начало, не идущее изнутри музыкального становления. Между тем, не жанровые оковы, а, напротив, стремление преодолеть стабильность жанровых условий инструментальными средствами заставляет Брамса искать и находить совершенно нетрафаретные и нетрадиционные типы движения, сущность которых обозначена выше. Между прочим, такое движенческое дионисийство Брамса сродни «титаническим» типам движения Микеланджело, особенно ярко проявляющимся в его незавершенных скульптурных работах. Эти пластические шедевры отражают синтез становления и ставшего. Мы отчетливо воспринимаем своеобразное пластическое преодоление, когда образ фигуры, как бы формирующийся на наших глазах, преодолевая колоссальное сопротивление, пытается «вырваться» из статики и тяжелой неподвижности мраморной глыбы.
Прежде чем коснуться более подробно символики музыкально-хореографического движения, необходимо определиться в осмыслении фено-
мена музыкального времени и сущности его пластической трансформации в хореографии. Абстрактное, не сопряженное с временем развертывания конкретного произведения движение не может рассматриваться в качестве структурного субъекта искусства, являющегося по своей природе временным.
Природа музыкального времени, которым, безусловно, хотя в значительной степени трансформируя его, оперирует и хореографическое искусство, неординарно и глубоко исследована П. П. Сувчинским, философом и музыковедом, близким другом И. Ф. Стравинского. Сам композитор, обладавший природным даром пластического видения музыкального движения, создавший свой уникальный музыкально-хореографический мир, разделял мысли своего друга о музыкальном времени и часто проповедовал их как ценностные ориентиры в восприятии не только своей музыки. «Сувчинский рассматривает музыкальное творчество как врожденный комплекс интуиции и возможностей, основанный прежде всего на чисто музыкальном восприятии времени — хроносе, причем музыкальное произведение является лишь функциональной реализацией этого последнего, — отмечает Стравинский. — Каждый знает, что время протекает различно, в зависимости от внутреннего состояния субъекта и событий, действующих на его сознание. Ожидание, тоска, скука, радость и боль, созерцание — все это различные категории, среди которых протекает наша жизнь, и каждая из них вызывает специфический психологический процесс, свой особый темп. Эти вариации психологического времени воспррінимаются лишь в соотношении с первичным (сознательным и бессознательным) ощущением времени реального— онтологического...» [109. С. 184].
Стравинский подчеркивает характернейшую особенность музыкального чувства времени, рождающегося и развивающегося «либо вне категорий психологического времени, либо одновременно с ними» [109. С. 184]. Важен вывод Стравинского: «Всякая музыка, связана ли она с нормальным течением времени или отделяется от него, устанавливает особое взаимоотношение, род контрапункта между течением времени, ее собственной длительностью и материаль-
ными и техническими ресурсами, с помощью которых эта музыка проявляется...» [109. С. 184].
Композитор разделяет всю музыку на два рода: «одна развивается параллельно течению онтологического времени и проникает в него, вызывая в душе слушателя ощущение эйфории и, так сказать, "динамического покоя". Другая же опережает этот процесс или препятствует ему. Она не совпадает со звучащим мгновением, смещает центры притяжения и тяжести и утверждает себя в нестабильности, что делает ее способной передавать эмоциональные побуждения ее автора... В музыке, связанной с онтологическим временем, доминирует принцип подобия. Другая же охотно использует контрасты...» [109. С. 185].
Добавим, что Стравинский недвусмысленно высказывается в пользу принципа подобия, т. е. времени онтологического, делая весьма важную ссылку на то, что рождающееся из контраста многообразие «имеет ценность только как продолжение подобия» [109. С. 185].
В этой стройной, весьма аргументированной и в чем-то символической системе, которая позволяет Стравинскому объяснить свою философию музыкального времени, есть какая-то недосказанность. Совершенно точно определив сущность типа течения времени, который наиболее близок художнику (точнее ему лично) как творцу, а именно: параллелизм и даже полное совпадение между онтологическим течением времени развертывания музыки и внутренним психологическим временем, — композитор не стремится найти понятийно-смысловое обозначение того, что просто именует противоположным, другим типом течения времени. Понятно, что Стравинский делает это не случайно, подчеркивая таким образом главенство близкого ему принципа подобия над всеми прочими временными измерениями.
Онтологическая сущность музыкального времени — это бесспорный феноменологический абсолют, оспаривать который нет никакого смысла. Все прочие измерения временного начала обладают эмпирической природой. Однако позволим себе, оперируя доктриной самого Стравинского, сформулировать определение времени, противоположного онтологическому, наиболее соответ-
ствующее интересующему нас ракурсу единого музыкально-пластического континуума. Безусловно, такое временное измерение следует феноменологически отнести к разряду психологического, основывающегося не на противопоставлении онтологическому времени, а на своеобразном его преображении. Назовем такое время преодоленным . Что заставляет воспринимать, например, пятиминутную симфоническую пьесу Э. Элгара «Sospiri» как масштабную? Большим мастером малых оркестровых форм, вызывающих в восприятии психологический эффект развернутого эпического пространства, был С. С. Прокофьев («Осеннее», «Сны», «Симфоническая песнь» и др.). Почему хореографические миниатюры К. Голейзовского и музыка, из которой они рождаются, ассоциируются в нашем восприятии с вневременными, детально разработанными фресками, а не с соответствующими реальным временным параметрам миниатюрными арабесками? И наоборот, что делает более чем часовую композицию Брукнера или Малера единым мгновением в нашем восприятии, когда реальное физическое время как бы спрессовывается? Во всех названных и во множестве других случаев мы имеем дело с преодоленным временем. И если в определении сущностных характеристик онтологического музыкального времени Стравинский, безусловно, прав, то качество иных измерений оценивается им пристрастно, что вполне оправданно, ведь художник декларирует важнейшие эстетико-смысловые критерии своего собственного композиторского мышления. Между тем нас в меньшей степени сейчас интересует, выдерживают ли все опусы автора «Петрушки» проверку на онтологичность, поскольку очевиден факт: значительная часть партитур Стравинского, реализованных на балетной сцене (Нижинский, Фокин, Баланчин, Аштон, Килиан, и др.), — это, по преимуществу, музыкальное время, преодоленное хореографами. Более того, по нашему мнению, такое преодоление свойственно любому серьезному претворению музыкальных образов в образы хореографические. Собственное время
1 Весьма стройную и полную систему временных измерений пространственных искусств дает А. Габричевский, подразделяя эту систему на четыре модуса: время онтолоппеское — абсолютное, время эмпирическое — относительное, время историческое — органическое, время творчества и восприятия — психологическое.
музыкального развертывания трансформируется в хореофафии, в зависимости от того, как балетмейстер осмысливает архитектонику музыкальной композиции. В одном случае — это может быть калейдоскопическое дробление, в другом — сквозное развертывание, в третьем — сочетание дробного и сквозного, но главное то, что налицо фактор преодоления, а не формального совпадения. Именно он свидетельствует об обретении нового, собственно музыкально-хореографического времени .
Хореофафия, этимологически связанная с пластическими изобразительными искусствами и часто оперирующая их смысло-содержательными ценностями, представляет особый род визуальной ретроспекции всех возможных в природе типов двиэ/сения. Нам здесь и далее придется ссылаться на очевидные смысловые параллели, возникающие между специфически живописно-изобразительными и хореопластическими формами реализации движения вообще и музыкального движения в частности. Поэтика движения, которой оперируют изобразительные искусства, весьма подробно и неординарно рассмотрена в трактате «Анализ красоты» известного английского художника XVIII века Уильяма Хогарта. Нам представляется весьма важным и близким изложенный в нем опыт в осмыслении природы движения и способов его пластической реализации в живописи. «Движение, — пишет Хогарт, — есть род языка, который, быть может, со временем будет изучаться с помощью чего-либо вроде
Весьма нетрафаретное исследование временной сущности искусств, в том числе музыки, т. е. проблемы дифференциации пространственного в тождестве и различиях, мы находим в размышлениях крупнейшего философа, «отца» современной герменевтики, Г.-Г. Гадамера: «Собственное время музыкального сочинения... — вот, что должно быть найдено, и помочь здесь может только внутренний слух. Всякое музыкальное исполнение, всякое чтение стихотворения вслух, всякая театральная постановка, каким бы мастерам пластического, декламационного или вокального искусства они не принадлежали, действительно в состоянии передать художественную ценность самого произведения, правда, только в том случае, если своим внутренним слухом мы способны уловить нечто иное, нежели то, что непосредственно открывается нашим органам чувств. Лишь вознесшееся в идеальное пространство этого внутреннего слуха, а не исполнение, не актерская игра и не танец как таковые составляет элементы, из которых строится произведение искусства. <...> Идеальная структура возникает только потому, что мы активно участвуем в трансцендировании наличных моментов. <...> ...каждое произведение искусства (курсив мой. — Ю.А.) обладает своїм собственным временем, которое оно нам, так сказать, предписывает. Это касается не только искусств, наделенных временным измерением, — музыки, танца, речи. <...> Один из аспектов общения с искусством заключается в том, что произведение искусства учит нас погружению в особого рода покой. Это покой, не подверженный скуке. <...> Сущность восприятия времени в искусстве заключается в том, что мы учимся пребывать в покое. Возможно, это доступное нам конечное соответствие тому, что именуется вечностью...» [27. С.313-315].
грамматических правил...» [126. С. 196]. Такое предположение вполне оправдало себя. Структурный анализ поэтических и музыкальных текстов, равно как и хореографии, дает весьма широкий спектр толкования поэтики движения. Нас здесь в большей степени интересует процесс трансформации зрительных образов в образы музыкально-пластические. У. Хогарт, пристально изучавший линеарную сущность живописного пространства, дает нам верный смысловой ключ для понимания пластического воплощения движения: «Известно, что тела при движении всегда описывают в воздухе ту или иную линию... Для того чтобы получить правильное представление о движении и в то же время быть твердо убежденным, что движение это правильное, давайте вообразим линию, получающуюся в воздухе от движения любой предполагаемой точки на конечности, или от движения части тела и конечности, или, наконец, всего тела целиком... После того как мы составим себе представление о всех движениях, как о линиях (курсив мой. —Ю.А.), будет нетрудно понять, что грация движения зависит от тех же правил, которые создают ее в формах...» [126. С. 197].
Мы еще вернемся к наблюдениям Хогарта, но здесь следует зафиксировать своеобразную смысловую параллель между хогартовским толкованием пластического восприятия движения и спецификой музыкального развертывания. В сущности, музыка является идеальной формой метафорического преображения статической эвклидовой точки в линию. Сам принцип сложения звуков в интонации, фразы и т. д. — идеальный символ лпнеарно осмысленного движения. Мы уже говорили о специфике инерции музыкального движения, как о системе внутренних напряжений. Линеарное членение многомерной музыкальной ткани — едва ли не единственный способ найти ее максимально верное пластическое разрешение. Речь идет о специфике линеарно-контурного видения всего, что составляет сложение музыкальной ткани.
Пластическая трансформация музыкального текста требует от хореографа подробной расшифровки всех слагаемых музыкальной ткани. Все важнейшие средства музыкальной выразительности, органичное сочетание которых и составляет существо музыкального стиля, находят свои смысловые alter ego в
средствах хореографии. Способность трансформировать все составляющие музыкальной речи в визуальные образы художественного движения — это и есть то, что можно назвать даром пластической расшифровки музыкально-художественного текста.
Проблема музыкально-хореографического стиля не ограничивается констатацией совокупности стилеобразующих выразительных средств. Поскольку нам предстоит определить «физиогномические» — наиболее яркие и характерные свойства самых различных и сложных хореографических воплощений музыки, важным будет осмысление стиля как закона внутренней формы, определяющего образную поэтику и архитектоническое сложение музыкально-хореографических произведений.
Этимологическая связь музыки и танца определяется своеобразием того таинственного, но вполне достижимого взаимного зеркального резонанса, который рождается из единения искусств, воплощающих в себе совершенное художественное отражение пространственно-временных измерений мироздания.
Хореографическое воплощение мелодики, гармонии, фактуры и полифонии
Принципы балетмейстерского осмысления выразительных средств музыки схожи с принципами дирижерского постижения образного и структурного сложения музыкального материала. В зависимости от образно-художественного содержания той или иной музыки и хореографических задач по реализации этого содержания, смещаются акценты в выборе балетмейстером некоего приоритетного начала. В одних случаях исходным импульсом в хореопластическом решении музыки выступает мелодико-интонационная сфера. В других — фак-турно-ритмическая, в третьих — оркестрово-тембровая. При этом, рассматривая отдельно важнейшие средства музыкальной выразительности, находящие свое пластическое преломление на балетной сцене, следует отметить, что всякая подлинная хореография предполагает не сегментарное членение музыки на составляющие элементы (мелодика, гармония, ритм и т. д.), а максимально органичный сплав смысло-образных, стилеобразующих элементов. Наше же разделение средств хореографического претворения музыки продиктовано не их отдельным существованием в пространстве хореографии, а удобством анализа важнейших слагаемых пластического осмысления музыки. Возникающие при этом параллели между стилеобразующими средствами выразительности музыки и хореографии будут служить тем универсальным инструментарием, посредством которого можно полноценно исследовать музыкальное содержание хорео-пластики в ее пространственно-временных соотношениях с музыкальным текстом. И в качестве первого звена мы рассмотрим принципы хореографического освоения мелодики, музыкальной фактуры, гармонии и полифонии.
1. Мелодика и, шире — интонационная сфера, фразостроение, тематизм, — наиболее точно соответствуют в хореографии тому, что можно обозначить, как рисунок, линеарный контур и пластический рельеф танца. Все многообразие типов мелодики, фразостроения и тематических образований трансформируется в линеарный контур хореографического рисунка. Например, волнообразный тип мелодики наиболее соответствует естественному, плавному и невычурному пластическому рисунку и т. д. Относительно живописной пластики У. Хогарт называет такой тип «линией красоты», добавляя, что «наиболее изящные формы имеют наименьшее количество прямых линий» [126. С. 138]. Мы не можем принять этого добавления без оговорок, но хогартовская философия линии важна для нас по своей сути. Интонационная сфера, фразостроение и ме-лодико-тематическое содержание музыки могут быть пластически отражены в хореографии при линеарном осмыслении движения.
Степень подробности хореографического преображения мелодического рисунка или отстраненности от него определяется частными художественными задачами. Классическая хореография предполагает точное соответствие между мелодико-тематическим развитием музыки и контурным рельефом хореографического рисунка. Не следует пренебрегать значением интонационной и ме-лодико-фразировочной сферы и в современной хореографии. Максимальная, иногда трафаретная адекватность пластического рисунка мелодическому контуру музыкального текста позволяет хореографу добиваться совершенного единства музыки и танца, когда грань между зрительным и слуховым как бы стирается. Оговоримся, что любое смысловое соотношение выразительных средств музыки и хореографии по своей природе символично и даже метафорично. Безусловно, преображение музыкального интонирования в хореографический рисунок представляет собой сложное иносказание.
Образцами весьма тонкого и проникновенного трансформирования мело-дико-интонационной сферы музыкального текста в линеарно-пластический рельеф танца являются практически все работы Дж. Баланчина. Еще недавно, признавая некую абстрактную музыкальность хореографии Баланчина, многие отечественные критики и даже балетмейстеры все же отказывали автору «Драгоценностей» в сколько-нибудь серьезном и многомерном осмыслении музыки, лежащей в основе его хореокомпозиций. Абсурдность некоторых размышлений относительно глубины и адекватности пластического постижения музыки у Баланчина можно объяснить соображениями идеологического порядка. Ростислав Захаров, автор «Золушки» и «Бахчисарайского фонтана», недвусмысленно замечает: «В большинстве случаев Баланчин стремится в своих работах отразить лишь ритмическую сторону музыки (в чем он проявил подлинное мастерство, показал знание законов музыкальной партитуры, добился соответствующего ей построения танцевальной композиции). В то же время этот балетмейстер оставляет без внимания содержание музыки, те мысли, которые вложил в нее композитор...» [33. С. 248]. Трудно вообразить суждение более противоречивое. Если балетмейстеру удается в построении танцевальной композиции совершенно отразить существо музыкальной партитуры, то каким образом его можно упрекнуть в игнорировании содержания музыки?
Примечательно высказывание И. Ф. Стравинского: «Баланчин настолько хорошо приспосабливает симфонии под балеты, что у меня невольно возникла мысль о создании специальной симфонии уже по самому замыслу танцевальной...» [ПО. С.169-170]. Замысел этот, впрочем, остался неосуществленным. Однако композитор отметил важнейшую черту таланта хореографа, а именно: умение трансформировать любые, в том числе концертно-симфонические музыкальные формы в органичные хореографические партитуры. Не сюжетно-событийный ряд и литературно-повествовательное начало составляют содержание балетов Баланчина, а именно музыка во всем объеме своих средств и настроений. Стравинский весьма категорично ограничивал содержание своей музыки самой музыкой. Такой взгляд был чрезвычайно близок и Баланчину. Какие бы литературно-фабульные мотивы и сценографические идеи ни разрабатывались балетмейстером, неизменным остается факт: сюжеты его балетов — это их музыка. Хореопоэтика Баланчина — «продукт» нового этапа в эволюции музыкально-хореографического синтеза, где соотношение музыки и танца не должно рассматриваться с позиций пластического воплощения исключительно дансантных музыкальных форм. Безусловно, и сегодя существуют эстетические и этические табу на хореографическое использование той или иной музыки, но со времен открытий Фокина бессмысленно рассуждать о приоритте дансантных музыкальных форм над «чистыми» в стремлении балетмейстеров строить музыкально-хореографическое пространство1.
Талант Баланчина, уникальность этого таланта в том, что музыкальная образность осмысливается им с позиций глубокого проникновения в сам процесс музыкального становления и стремления реализовать этот многомерный процесс пластическими средствами на балетной сцене. Как это ни парадоксально, но ритмо-метрическая сфера в своей отдельной самодостаточности меньше всего интересует Баланчина. Ритмический строй музыки воспринимается им как фактурный рельеф мелодического развертывания, что будет далее подтверждено примерами из творческого наследия балетмейстера. При этом очевидно, что максимально полная хореографическая разработка
Хореографическое воплощение метра, ритма и темпа
В качестве второго, в полной мере равного по значению другим, звена в обозначенной нами цепи пластического отражения основных средств музыкальной выразительности рассмотрим принципы хореографического отклика на метрическую, ритмическую и темповую организацию музыкального движения.
Метр — важнейший компонент временной организации музыкального и хореографического пространства. Канонические, школьные представления о существе метрической организации временных искусств не могут быть приняты нами без известных оговорок. Считается, что метрическое измерение в пространственных искусствах применимо в полной мере лишь к архитектуре и в гораздо меньшей степени к живописи. Хореография, так же, как и музыка, и архитектура, обладает свойством статизации ритмического начала. Именно в этом и проявляется характерность метрической организации в хореографическом искусстве. Если сущность музыкального метра заключается в строго организованном чередовании слабых и сильных долей, то пластическая реализация музыкальной метрики предполагает (в зависимости от содержания музыкального текста) фиксации всех промежуточных звеньев в упорядоченном долевом членении музыкального движения. Хореографическая трансформация различных долевых группировок часто требует от балетмейстера не слепого следования за тактировкой музыкального текста, а в каждом конкретном случае переосмысления метрической группировки по принципу сужения или расширения. Определяющим в метрической организации хореографического пространства становится не формальный метр, которым фиксируется размер такта в музыкальном тексте — то есть определенное количество основных ритмических долей в такте, — а соответствие этого метра линеарно-фразировочной протяженности и темпо-ритмической структуре хореографического рисунка. Рациональная статика метрической организации музыкально-хореографического развертывания, воспринимаемая как его «количественная» структура, почти ничего не сообщает воспринимающему сознанию, если не является своеобразной формой пространственного овеществления ритма. С точки зрения хореографии, рождающейся из музыки, метр и ритм предстают пространственно осмысленными.
Один из самых значительных отечественных балетных дирижеров XX столетия Ю. Файер в своих замечательных дирижерских заметках дает характеристику специфически хореографической интерпретации идеи метра: «Пожалуй, ничто в такой степени не грозит балетному дирижеру стать "махалой", "отбивателем", как необходимость подчеркивания метра балетной музыки. Об этой угрозе всегда следует помнить. Вообще-то, механическое выделение внутри каждого такта сильных и слабых долей, слепое следование (курсив мой. — Ю.А.) за метром от одной тактовой черты до другой представляет опасность для дирижера. В танцевальной музыке избежать этой опасности еще труднее, чем при исполнении произведений других жанров. ... Формальное следование за метром, "лихая" или, наоборот, однообразная, монотонная "ударность" тактовых долей не позволяют дирижеру отразить в своем исполнении что-либо еще кроме примитивно понятой танцевальное музыки...» [121. С. 491-493]. Все, что Файер рассматривает с позиций дирижерского ремесла в балетном театре, соответствует и требованиям балетмейстерского освоения метрического сложения музыки.
Метрическое измерение музыки как для дирижера, так и для хореографа — это прежде всего измерение движущейся звуковой материи, в котором реа лизуется сам процесс музыкального становления и формообразования. Повто 81 римся, метризация музыкальной ткани не может ограничиваться для дирижера и балетмейстера лишь статизированной метрономичностью. Только органичный синтез метрики со всеми элементами музыкального языка дает верный движенческо-временной образ музыки1. Сложный механизм ритмопластической динамизации метра наглядно проявляется при сравнительном анализе двух наиболее выдающихся хореографических интерпретаций Прелюдии к «Послеполуденному отдыху фавна» К. Дебюсси. Речь идет о балетах Вацлава Нижинского и Джерома Роббинса2. Рассматривая образно-художественную поэтику «Фавна» Нижинского, многие исследователи и критики делают акцент на своеобразном эстетическом сломе, произошедшем благодаря скандальной для того времени «натурализации» жестов в заключительной части балета. Мы не будем делать этических оценок смысловой концепции Нижинского—Дягилева, тем более что художественно-пластическое достоинство этой постановки находится за пределами его экстравагантной фабулы, а именно — в сфере предельно свободного пластического претворения музыкального развертывания, в его метрическом сложении. Действительно новой и оригинальной для хореографии была найденная Ни-жинским действенная свобода хореографического движения, которая не калькирует ритмо-метрическую схему музыки Дебюсси, а вскрывает ее пластико-иконографическую сущность. Хореография Нижинского, обладавшего, по свидетельствам современников, довольно средними познаниями в музыке, по своей музыкальной природе ассоциативна. Но можно ли отказать гениальному танцовщику в том, что условно можно обозначить как фантастическое по силе чувство мышечной правды в восприятии музыки? Тайна Нижинского — в его теле, неведомым и непознаваемым для многих образом резонировавшем на музыку. Нижинский вряд ли стремился к доскональному прочтению импрессионистской партитуры Дебюсси, к постижению ее темброво-колористического символизма. Но движенческий образ этой музыки был воспринят им удивительно тонко и глубоко.
Хореография и оркестровка
Третье чрезвычайно важное и малоизученное звено в исследуемой цепи хореографического освоения музыки — сфера пластического резонанса на оркестровую поэтику музыкального сложения.Оркестровка, тембровая палитра, сольное, ансамблевое и другие акустические измерения музыкальной звучности редко рассматриваются в качестве основополагающих в формировании хорео-пластики. Между тем, именно эта сфера наиболее естественно сочетается с пространственно-объемным пластическим воплощением музыки средствами хореографии. Остановимся на феномене пластической трансформации оркестровых средств подробнее, ибо механизм сложного преображения сугубо оркестровых методов организации музыкального материала в образы хореографии открывает перед балетмейстером богатейшие творческие возможности и перепек-тивы. Сам принцип партитурной нотации является прообразом объемного пластического пространства, построить которое стремится всякий серьезный хореограф. Тот или иной инструментальный состав зачастую сам по себе уже несет важнейшую смысло-образную информацию для балетмейстера.
Искусство оркестровки часто оперирует идеей образно-звуковой метафоры. Партитуры различаются не только по составному принципу (камерный, малый и большой оркестры, вокально-симфонический состав и т. д.). Часто, композиторы используют большие, и даже усиленные оркестровые составы для реализации максимально прозрачных и камерных звучностей. И наоборот, камерно-ансамблевая партитура и даже сольная музыка может содержать в себе темброво-акустическое иносказание подлинно оркестрового масштаба. Значит ли это, что при хореографическом освоении темброво-акустического содержания музыкальной партитуры следует слепо ориентироваться на формальный размах или узость оркестрового состава? Безусловно, нет. Гораздо важнее определить природу темброво-акустического, оркестрового мышления композитора и найти соответствующий этой природе пластический образ на балетной сцене.
Каков механизм определения сущностных характеристик оркестровой звучности? Оркестр представляет собой не большее или меньшее соединение различных инструментов (тембров), но специфическую иерархию в соотношении между инструментами и группами инструментов. Только та многосоставная звучность может быть полноценно оркестровой, в которой композитору удается воплотить пространственно неодномерное звучание. Оркестр — это совершенный тип реализации объемно-пластического соотношения горизонтали и вертикали в зеуко-образном музыкальном слооїсении. Иерархия тембровых сочленений в той или иной партитуре — отражение объемного и перспективно осмысленного заполнения звукового, музыкально-колористического пространства. От того, насколько подробно и грамотно реализуется это объемное звуко-красочное пространство средствами визуальной пластической перспективы, во многом зависит гармоническое единство глубины и колорита звучания музыкального материала со сценографическим, хореографическим наполнением балетного действа. Таким образом, мы ставим знак равенства между пространственно-объемным содержанием оркестровой звучности и пространственно-перспективным ее разрешением хореографическими средствами.
Балетмейстеру в не меньшей степени, чем композитору и дирижеру, приходится учитывать то, что условно можно назвать «геометрией» звукового пространства. Как мы говорили, всякий звук, тембр, звуко-комплекс имеет определенный акустический объем в пространстве. Представляется допустимым провести аналогию между различными звучностями и некими геометрическими формами, с которыми они символически ассоциируются: звук «тянется», «растягивается», «расширяется», «сужается», мелодия двигается «в том или ином направлении» и т. д. Тем самым, думается, возможно в определенном смысле говорить о «геометрии звучания». В связи с пластической интерпретацией, нас в данном случае будут интересовать не столько собственно «очертания» созвучий и тембров, сколько «проекции» их движения. Потому что как в функциональной гармонии созвучие приобретает ценность не само по себе, а в зависимости от того, что стоит до него и что — после него, т. е. в движении, так и тембры-краски оркестровой палитры сообщают нам сущностную информацию не в статическом состоянии, а исключительно в движении. Собственно, оркестровая, тембровая палитра — это краски в движении. Смысл пластического резонанса на оркестровый колорит и заключается в своеобразной «дешифровке» тембрового движения. Геометрическая проекция тембров, т. е. направление движения отдельных голосов и групп оркестра, — важнейший элемент пластического мышления всех значительных мастеров-хореографов.
Акустико-колористическая палитра, которой оперирует композитор, а вслед за ним и дирижер, и балетмейстер, — это широчайший спектр измерений. Мягкие и твердые, густые и прозрачные, сухие и полнозвучные, чистые и смешанные тембры — это далеко не полный перечень слагаемых звуко-красочной палитры оркестра. Следует также отметить чрезвычайно важное в работе хореографа и дирижера ассоциативное ощущение веса того или иного тембра и различных тембровых сочетаний. Классическая хореография выработала весьма определенную систему символического соответствия оркестровому колориту. В соответствии с этой традицией женские вариации требуют специфически мягких оркестровых красок. Мужские танцы предполагают более «весомый» оркестровый состав и колорит. Массовые народные сцены прочно ассоциируются с туттийным звучанием всего оркестра и т. д. Понятно, что речь идет о традициях классического балета, нашедших своеобразное преломление и в современном хореографическом искусстве. Современная хореография часто допускает более свободную трактовку тембрового колорита и оркестровки в целом, и подчас более сложную — когда все мельчайшие детали оркестровой партитуры находят свое визуальное разрешение на сцене.
Интерпретация нетеатральной музыки в современной хореографии
Сторонники сугубо оркестрового звучания в балетном театре намекают на своеобразное сужение возможностей композиционного строительства крупных сценических форм, и в лучшем случае отводят клавирному материалу функции «озвучивания» хореографических миниатюр. Масштабность хореодраматургии и монументальность композиционного хроноса балетного действа ошибочно связывают с поэтикой исключительно «большого звучания» и разработкой крупных циклических форм. Между тем, в ходе анализа многих образцов современной хореографии мы не единожды наблюдали то, что можно было бы назвать пластическим преображением камерной музыкальной звучности в хо-реотекст подлинно симфонического размаха. Рояль (более чем любой другой «персонаж» сольной тембровой палитры) несет в себе возможности грандиозного оркестрового иносказания. И нет ни малейших оснований сетовать на чрезмерную «интимность» звукового интерьера балетной сцены и какие-либо ограничения в построении масштабных форм, если в основе хореотекста — разработка сугубо сольного инструментального звучания: акустическое заполнение звукового пространства на балетной сцене многомерно и неисчерпаемо. Интерпретация сольной клавирной музыки на балетной сцене давно уже не является чем-то эстетически необычным и лексически экспериментальным. Огромный объем хореографически осмысленной сольной клавирной музыки (от Баха до Прокофьева и Веберна), если и не соперничает, то органично сочетается с привычной для балетного театра пластической разработкой специфически оркестрового музыкального материала. Сольный тембр не всегда звучит громче, нежели ансамблевое и оркестровое сочленение многих инструментальных тембров и оркестровых групп, но почти всегда — ярче, если так можно сказать, ближе к органам нашего восприятия. Подчеркнем: под яркостью тембрового звучания мы понимаем своеобразную «оптическую» приближенность звуко-тембрового образа к нашему слуховому восприятию. Именно на этом свойстве основана возможность разработки композитором природы солирующего тембра, как метафоры перспективы и пространственности оркестровой либо камерно-ансамблевой звучности. Существует ли какое-то принципиальное различие в пластической интерпретации сольной клавирной и оркестровой музыки? Ответить на этот вопрос однозначно утвердительно или отрицательно невозможно, все зависит от содержания музыки и решаемых хореографом пластических задач. Но есть универсальное и даже обязательное требование к хореопла-стическому освоению музыки для любого солирующего инструмента. Серьезный хореограф, ищущий лексического единства музыки и танца, должен пластическими средствами реализовать на балетной сцене тот тип звуко-тембрового иносказания, который содержит в себе интерпретируемая музыка.
Было бы странным и непонятным стремление трансформировать сольно-клавирную звучность в нечто пространственно, движенчески и драматургически одномерное, ведь музыкальное солирование, даже если речь идет и не о таком оркестрово насыщенном инструменте, как рояль, — это, в пластическом измерении, не столько соло, сколько именно шифрограмма темброво-полифонического иносказания. Здесь необходима пластическая разработка того, что можно было бы назвать «молекулярным» составом сольной музыкальной лексики. Хореографический взгляд на сложение сольного музыкального материала в гораздо большей степени, нежели в освоении оркестрового и ансамблевого, — как бы взгляд через камеру Обскура: мельчайшие детали не просто увеличиваются в восприятии, а осмысливаются так же основательно, как элементы крупного плана. Но при этом пластическая визуализация сольной музыки не должна становиться сферой сугубо микроскопического анатомирования музыкальной ткани.
Среди множества крупных хореокомпозиций, созданных на основе сольной фортепианной музыки, звучащей в оригинальном фортепианном, а не оркестрованном виде, выделяется балет Ханса ван Манена «Adagio Hammerklavier» на музыку 3-й части (Adagio sostenuto) 29-й фортепианной сонаты (B-dur, op. 106) Л. Бетховена. Это не только одна из самых значимых работ датского хореографа, но едва ли не самое совершенное хореографическое воплощение музыки Бетховена на балетной сцене. Бетховенская поэтика в современном балете — это, как правило, стремление «укрупнять» и без того масштабное. Странная эстетическая гигантомания преследует в этом отношении и многих исполнителей-дирижеров. По счастью, творческое переосмысление принципов интерпретации немецкого классика, произошедшее в XX веке благодаря исполнительским открытиям Н. Арнонкура, Р. Норрингтона, Дж.Э. Гардинера, Ф. Брюггена и других выдающихся музыкантов, позволяет по-новому осмыслить сложнейшую образную поэтику и лексический строй всем известной музыки. Ван Ма-нен был первым хореографом, который попытался вопреки всем шаблонам пластическими средствами осмыслить не только героизм, трагичность и патетику, но и лирику, и исповедальность, философичность и благородство образного строя музыки Бетховена.
Цикл из 32-х фортепианных сонат Бетховена по многим параметрам не имеет аналогов в истории музыки. Дело не в количественном составе этого сверхцикла, а в заключенном в нем колоссальном образно-художественном и музыкально-лексическом пространстве. Мы не станем останавливаться на подробной характеристике этой грандиозной музыкальной эпопеи, но отметим один важный для хореографов момент. Не будет преувеличением сказать, что материал всех сонат — это энциклопедия фактур и типов движения. При этом комбинаторика движенческих ресурсов музыки в бетховенских сонатах не замкнута в стилистических границах венского классицизма, а чудесным образом резонирует на прошлое (барокко) и простирается в будущее, даже за пределы сегодняшнего дня. Феномен пластического совершенства фортепианных шедевров композитора — в неповторяемости средств сложения фактуры в каждом новом опусе. Такая фактурная неповторяемость трансформируется в неповторимость форм развития музыкального материала. Не доведение до пределов совершенства классической сонатной схемы, как это мыслится некоторыми аналитиками, а фактурно-движенческое преодоление «стабильных» архитектонических формул определяет совершенство сольно-клавирной сонатной поэтики Бетховена. Композитор сознательно не тиражировал себя на уровне какой-то одной образной поэтики, а стремился в каждом новом опусе к принципиально новым формам сложения музыкальной фактуры. Тип движения музыкального материала во многом определял для Бетховена то, что отмечается как главное достоинство его композиторского мышления — совершенство становления, развития музыкальной формы.