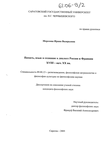Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Интерпретации крымской войны: конструирование героического канона 32
1. Образы «Бородино» и «Севастополя»: общее и различное 36
2. Составляющие героического мифа: религиозные мотивы и фольклорные стилизации 65
3. Роль Л.Н. Толстого в формировании образов Севастопольской обороны 87
Глава II. Национальный пантеон героев войны 1853-1856 гг 129
1. Протагонисты 133
2. Антагонисты 167
3. «Герои из народа»: идеальные типы 181
Глава III. Коммеморативные мероприятия в память о севастопольской обороне 200
1. «Места памяти» Севастополя 200
2. Севастопольский некрополь 217
3. Пятидесятилетний юбилей обороны Севастополя 241
Заключение 285
Список источников и литературы 289
Приложение 312
- Образы «Бородино» и «Севастополя»: общее и различное
- Роль Л.Н. Толстого в формировании образов Севастопольской обороны
- Антагонисты
- Пятидесятилетний юбилей обороны Севастополя
Введение к работе
Актуальность исследования. Изменения в социокультурной сфере, происходящие в России в последние три десятилетия, сопровождаются процессом переоценки многих событий давнего и недавнего прошлого. В научных кругах и в обществе наметился повышенный интерес к вопросам о мифологизированности устоявшихся исторических представлений. Особую важность в этой связи приобретает изучение того, как складываются и функционируют механизмы конструирования культурной памяти, какое значение это имеет для изучения минувшего, какой опыт накоплен в использовании исторических символов для достижения политических целей. Таким образом, актуальность данной темы объясняется как важностью проблемы формирования исторического знания, так и большой общественной значимостью борьбы за коллективные представления о прошлом, борьбы, которая порой принимает остроту, позволяющую говорить о «войнах памяти».
Образы обороны Севастополя - ключевого события Крымской войны 1853-1856 гг. - являются одними из важнейших элементов отечественного исторического сознания. Изучение этих элементов представляет особый интерес, поскольку они образовались и завоевали прочные позиции в национальной памяти еще дореволюционной России, сохранились и даже в ряде случаев усилились в СССР, а затем благополучно пережили жесткую ревизию исторических ценностей в постсоветские десятилетия. Исследование культурной памяти о Севастопольской обороне помогает приблизиться к решению проблемы психологической травмы, которой неизбежно сопровождаются эпохальные события. Изучение действий по закреплению, замещению, забвению или стремлению «забыть» прошлое открывает перспективы для изучения «политики памяти» и тех значений, которыми наделялись подобные практики в дореволюционной России. При этом многие элементы этих практик в настоящее время вновь оказались востребованными, а многие благополучно существовали в 1920-1980-е гг., подвергаясь в той или иной мере трансформации под воздействием существовавших в СССР социокультурных реалий. Рассмотрение механизмов создания образов Крымской войны дает возможность найти еще один подход к изучению методики конструирования политических и идеологических установок. Кроме того, помещая в фокус исследовательского внимания культурную память о крупном историческом событии, мы можем по-новому рассмотреть его как явление, а также проследить трансформацию представлений общества о нем на протяжении определенного периода времени.
Объектом исследования является культурная память о Крымской войне. Предмет изучения - процесс формирования культурной памяти о Севастопольской обороне 1854-1855 гг. в дореволюционной России.
Хронологические рамки исследования условны и охватывают 1853-1914 гг., на протяжении которого происходило складывание коммеморативного комплекса материалов в рамках дореволюционных культурно-исторических традиций. Нижняя граница характеризуется началом формирования мифа о Крымской войне. Верхняя граница – начало 1-й Мировой войны, которая радикально переориентировала внимание общества и государства. Англия и Франция, являвшиеся в середине XIX века противникам, в 1914 году уже были союзниками, что крайне затрудняло использование памяти о «Севастопольской страде» в патриотической пропаганде.
Территориальные рамки исследования. В фокусе исследования находится процесс формирования памяти о Севастопольской обороне на территории Российской империи.
Методология и понятийный аппарат. В условиях интеграции подходов социальных наук особую роль играют методологический синтез и междисциплинарность. В исследовании используется дискурсивный метод анализа источников, подразумевающий выявление и классификацию дискурсов внутри источника, исследование их взаимосвязей. Применяется структурный анализ текста – метод, заимствованный из практики литературоведения и связанный с принципами организации художественного произведения. В основе этого метода лежит взгляд на текст как целостную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов. Применение структурного анализа текста обусловлено использованием источников с высокой степенью беллетризации. Понятие «память» предполагает обращение к прошлому опыту, использование его в настоящем, имплицитно подразумевая субъективность знания и оперирование языковыми метафорами. Кроме того, при употреблении подобных терминов в профессиональной литературе зачастую речь идет о социальных представлениях по отношению к прошлому. В настоящей диссертации используется понятие «культурная память», в рамках которого индивидуальный опыт укладывается в так называемые внешние культурные рамки, определенные и закрепленные символическим кодированием (ритуалы, тексты). «Культурная память» более содержательна, поскольку включает историческую, социальную память, а также сложившиеся вокруг изучаемого явления мифологемы, мифы, традиции и стереотипы. Термины «миф» и «мифологизация» в контексте данного исследования подразумевают не порождение фантазии, не отрицание достоверности, не противоположность рациональному знанию, но символическую базу культурной памяти. Это история, которая сформировалась в памяти коллектива. Применяемое в данной работе понятие «место памяти» («lieu de memoire») обозначает не только физически осязаемые объекты, но символическое единство материального и институционального, географического и исторического. Функция этого символического единства - сохранение групповой памяти. В качестве «мест памяти» в данной работе рассматриваются исторические персонажи, события, здания, памятники, кладбища, географические точки, нагруженные символическими значениями. Оперирование термином коммеморация (лат. commemoratio – напоминание, воспоминание) в современной научной литературе стало общепринятым в силу своей особой функциональности. В диссертации это понятие означает процесс формирования консолидированного отношения к репрезентации событий прошлого сообществом коммемораторов – участников этого процесса. Понятие «ментальная карта» используется в таком междисциплинарном научном направлении как «ментальная (воображаемая) география», и включает в себя представления человека об окружающем пространстве, территориях, границах, культурах и др.
Степень изученности проблемы. Осмыслению войны 1853-1856 гг. и реконструкции «как это было» посвящены труды М.И. Богдановича, Н.Ф. Дубровина, А.М. Зайончковского, в которых основное внимание уделено событийной канве, вопросам международных отношений и военные аспектам (действия дипломатов, стратегические планы, состояние вооруженных сил противоборствующих сторон и события на фронтах). Работы этих и других военных историков несут на себе отпечаток соперничества в военной сфере, что способствует болезненной актуализации истории, и, как следствие, тенденциозной трактовке сведений исторических источников, а также построению схем, где патриотизм довлеет над беспристрастностью. При этом в длинном списке разных по жанру трудов о защите Севастополя в 1854-1855 гг. нет ни одного, где авторы проявляли интерес к самому процессу складывания этой масштабной батальной картины, а также к особенностям создания пантеона героев-защитников города-крепости. Дискурс «героической» обороны» был заложен уже в нарративах середины XIX века: «Чем бы все это не кончилось, героическая защита Севастополя спасет нашу военную славу и составляет одну из блистательных страниц нашей военной истории».
Дореволюционная традиция описания событий Крымской войны стала основой для построений советских ученых, которые первоначально поместили ее в разряд «позорных страниц» отечественной истории. Однако уже в 1930-е годы происходит возрождение севастопольского мифа. В условиях войны и новой осады Севастополя в 1941-1942 гг. возникла острая необходимость в реактуализации имперских героических мифов и образцов. Е.В. Тарле в своем фундаментальном труде «Крымская война», подвергая критике самодержавие, подчеркивал героизм и самоотверженность защитников города-крепости. Тезис о том, что под Севастополем в 1854-1855 гг. «тяжкое поражение потерпел самодержавный строй, но не русский народ», стал устойчивой формулировкой. В целом, в советской историографии возрождались со свойственным эпохе отпечатком многие оценки дореволюционной традиции историописания Крымской войны.
Работой, суммирующей основные достижения дореволюционного и советского опыта изучения войны 1853-1856 гг., является монография В.Э. Багдасаряна и С.Г. Толстого. Авторы на обширном источниковом материале проанализировали и обобщили развитие исторической мысли о Крымской войне, начиная с первых рефлексий современников и заканчивая советской историографией. В монографии отмечена проблема мифологизированности истории войны, но, в силу того, что авторы ставили перед собой иные исследовательские задачи (анализ проблематики, подходов, тенденций, акцентов, идеологического наполнения работ), за пределами их монографии остались проблемы, которым посвящена настоящая диссертация. Одним из первых исследователей, изучавших российское общественное мнение в период Крымской войны, был Ш.М. Левин, который посвятил часть своей незаконченной монографии изучению позиций славянофилов и западников по отдельным вопросам и событиям войны (осада Севастополя, смерть Николая I). Реконструкции общественно-политического мнения середины XIX века посвящены работы А.И. Шепарневой, в которых автор анализирует изменения в отношении к Крымской войне представителей различных направлений общественно-политической мысли. Исследований такого же характера, но выполненных на материалах второй половины XIX – начала XX вв. пока не опубликовано. С. Плохий в своей статье попытался дать объяснение севастопольскому феномену на ментальной карте Российской империи, СССР и постсоветской России. Исследователь отметил некоторые факторы, повлиявшие на создание Севастопольского мифа: панславизм, память о сражении при Бородино, «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, русско-японская война 1904-1905 гг. Несмотря на рост интереса к процессам коммеморации в дореволюционной России, специализированных работ, в которых подвергался анализу процесс складывания культурной памяти о Севастопольской обороне, до настоящего времени еще не представлено на суд научного сообщества.
Память о войнах является предметом академических исследований современной зарубежной историографии. Особое внимание исследователи уделяют изучению коммеморативных практик, связанных с двумя мировыми войнами. Важную веху в изучении процессов формирования культурной памяти составляют труды американского историка Дж. Моссе, посвященные исследованию того, как в Германии складывалась память о Первой мировой войне. Одним из важных тезисов Моссе было положение о включенности христианских религиозных традиций в конструирование героического дискурса о павших солдатах. Моссе писал, что кампания по увековечиванию памяти о погибших в Германии в результате Первой мировой войны приняла такие масштабы, что культ погибших превратился в новую реальность, а не просто объект для пассивного созерцания. После проигранной войны должны были появиться святые герои-патриоты с идеей победоносной войны, что впоследствии привело к росту реваншистских настроений в Германии, породив новый миф о героях. Дж. Моссе не считал Германию уникальной страной, пережившей подобный опыт.
Проблему формирования коллективных представлений о Крымской войне затронул в своей работе О. Файджес, фокусируя при этом свое внимание на событиях 1853-1856 гг. и указывая на важную роль этого военного конфликта в формировании национальной идентичности.
Изучению истоков культурного мифа о Крыме в 1780-1790-х гг., важности полуострова во внешнеполитической и идеологической перспективе Российской империи, процесс имперского освоения территории Крыма как райского сада империи, колыбели христианской культуры, поликультурного пространства на стыке восточной, античной, византийской цивилизаций посвящены работы А. Зорина, A. Schonle, S. Dickinson. Изучению места Крыма в коллективном российском сознании посвящены работы К. Йобст, которая отметила специфическое положение этого региона как важной и неотъемлемой части понятия «отечество» на ментальной карте России. По мнению автора, освоению полуострова и трансформации его в российское lieu de mmoire способствовало развитие полуострова, прежде всего, как места отдыха. За рамками остается проблема создания мифа о Крымской войне и Севастопольской кампании 1854-1856 гг., ее конструирующих компонентах. Формированию образа Крымской войны в национальной памяти Великобритании посвящена книга С. Марковиц, где проанализировано значение прессы, художественно-литературного, публицистического окружения в формировании представлений о войне. Автор выделила и проанализировала комплекс компонентов британского национального коммеморативного комплекса Крымской войны.
Анализ историографической ситуации и отсутствие специальных исследований, посвященных изучению мифа о Севастопольской обороне, позволяют констатировать, что это важное событие в истории России не рассматривалось через призму формирования культурной памяти о нем. Нерешенной проблемой является вопрос о том, как фактическое поражение превратилось в один из национальных военно-патриотических символов. В историографии не предпринималось попыток разрешить противоречие, с одной стороны, между памятью о проигранной Крымской войне, а с другой - историей героической осады. Представление об этой войне как конструкте, состоящего из набора мифологем и культурных образцов, не находило должного внимания в работах отечественных и зарубежных специалистов.
Целью исследования является изучение особенностей запоминания и забывания обществом тех или иных событий прошлого на основе анализа процесса формирования культурного мифа о Севастопольской обороне 1854-1855 гг. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Выявить и проанализировать существовавшие интерпретации героизма, народности и патриотизма, варианты образов прошлого, связанные с событиями обороны Севастополя, которые еще в период осады города оказались вне русла официальной версии войны и дискредитировали формировавшийся миф о войне.
2. Разложить официальную версию обороны на элементы, модели, структурные образцы, которые использовали авторы для конструирования образов и сюжетов, сопряженных с военным Севастополем.
3. Сравнить механизмы конструирования образов прошлого о войнах 1812, 1853-1856 гг.
4. Проанализировать особенности конструирования образов народных героев Севастопольской обороны и те значения, которыми они наделялись.
5. Проследить развитие послевоенного Севастополя как символического центра национальной памяти.
6. Проанализировать исторические, идеологические обоснования празднования 50-летнего юбилея Севастопольской обороны, представления об общественном воздействии торжеств.
Источники. Для решения поставленных задач были привлечены исторические источники разного жанра и происхождения, как созданные в период военных действий 1853-1856 гг., так и появившиеся спустя годы после отраженных в них событий. Значительная часть источников опубликована: письма, дневники, воспоминания современников, участников и современников войны, исторические исследования XIX - начала XX вв., популярная и художественная литература, путеводители и т.д. Особую роль играют издания «для детей и народа», используемые как резервуар сведений о формировании «официальной» версии истории Крымской войны (Севастопольской обороны). Эти издания позволяют судить о том, какие оценки и значения придавались тем или иным героям и событиям, а также выявлять социальные контексты, в которых создавались исторические сочинения.
Неизменно высокий интерес к истории Крымской войны способствовал появлению разного рода публикаций о ней в таких популярных журналах как «Русская старина», «Русский архив», «Исторический вестник», «Русском вестнике», «Вестнике Европы». Немалое число материалов, касающихся обороны Севастополя, было напечатано в ведомственных изданиях, которые, несмотря на свой «специальный характер», имели широкую читательскую аудиторию («Морской сборник», «Военный сборник», «Инженерный журнал»). Обращают на себя внимание отчетливые колебания в издательской активности, которые объясняются всплесками интереса к Крымской войне, порожденными различными причинами. Ценные сведения для реконструкции социальных представлений о прошлом содержатся в газетах «Русский инвалид», «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «Северная пчела», «Новое время», «Кронштадтский вестник», «Крымский вестник», «Одесские новости» и др.
Используемые для исследования проблем исторической памяти и ее эволюции публицистические статьи и воспоминания участников событий зачастую трудно однозначно отнести к одному виду источников, поскольку авторы выступали одновременно в роли и свидетелей событий (мемуаристов), и публицистов, писавших «на злобу дня». Один из ярких примеров того - статья анонимного автора «Из записок севастопольца», опубликованная в журнале «Русский архив» и вызвавшая оживленную полемику в 1867-1868 гг. Анализ дискуссий позволяет сравнить различные мнения (индивидуальную память) на одни и те же события и проследить формирование памяти коллективной. В целом, комплекс мемуарной и художественной литературы, публицистики и официальной документации (в том числе цензурных постановлений) создает репрезентативную основу для изучения конкуренции и столкновения различных вариантов интерпретации прошлого.
Важным источником являются «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого, участника военных действий в Крыму. Кроме произведений Л.Н. Толстого литературно-художественный материал представлен историческими романами и стихотворными сочинениями, которые служили важным источником формирования исторических образов.
Важным материалом для подготовки диссертации являются неопубликованные документы, хранящиеся в Российском государственном архиве военно-морского флота (РГАВМФ), в Российском государственном историческом архиве (РГИА), в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), в Отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки (ОР РНБ). В РГИА в фондах Канцелярии императорского двора, Конторы наследника великого князя Александра Александровича, Хозяйственного управления Синода обнаружены документы о подготовке к юбилейным торжествам, об установке памятников, о прочих коммеморативных мероприятиях в память Севастопольской обороны. Здесь же находятся сведения о льготах, адресованных потомкам севастопольцев. Значительная часть документов по вопросам «вспомоществования» ветеранам Севастопольской кампании отложилась в фонде Главного штаба в РГВИА. Ценные сведения содержатся в документах о награждениях участников севастопольской обороны, которые хранятся в фондах РГАВМФ, РГВИА. Документы о праздновании 50-летнего юбилея Синопского сражения, прошения на выдачу денежного пособия и разрешения на похороны на братском кладбище, списки участников Севастопольской обороны хранятся фонде Главного морского штаба в РГАВМФ. Это подразделение Морского ведомства также занималось сбором средств и строительством храма Св. Владимира в Севастополе, проведением юбилейных торжеств по случаю памятных дат в истории российского флота. Материалы перлюстрации офицерских писем, адресованных родственникам и содержащие альтернативное видение войны, обнаружены в ГАРФе.
Одной из тенденций современных гуманитарных наук является обращение к визуальным источникам, которые очень ценны и при разработке данной темы. События Крымской войны нашли отражение в батальной лубочной продукции, которая формировалась под воздействием текущих военных событий, а также сама по себе являлась мощным инструментом формирования образов героической войны. Политическая карикатура на тему войны позволяет оценить циркулировавшее в обществе отношение к «чужим» (армиям союзников), а также формы саморепрезентации российского общества. В исследовании используется коллекция сатирических рисунков (116 единиц). Важную роль в формировании севастопольских образов сыграл «Русский художественный листок» В.Ф. Тимма. Анализ подготовки юбилейных торжеств, посвященных 50-летнему юбилею Севастопольской обороны, невозможен без привлечения материалов, связанных с созданием панорамы «Штурм 27 августа 1855 г.» Ф. Рубо. Важным источником для репрезентации «схемы» войны, которая сформировалась в культурной памяти и отражала в концентрированном виде основные события и их героев, является фильм 1911 г. «Оборона Севастополя», а также сценарии театральных постановок в народном театре Николая II – «Севастополь» и «Даша Севастопольская». Важным источником информации о политике памяти является некрополь в Севастополе. Для данного диссертационного исследования главный интерес представляют те значения и смыслы, которые транслировали надгробные памятники: их расположение, внешние формы, масштаб, символическое наполнение, организация мемориального пространства на кладбище и отношение властей. Полем исследования является братское кладбище в Севастополе на Северной стороне, для непосредственного ознакомления с которым автором диссертации была совершена рабочая поездка в 2010 году.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые предметом изучения является процесс формирования культурной памяти о Крымской войне в дореволюционной России.
На защиту выносятся следующие положения:
-
Конструирование памяти о Крымской войне - это процесс конвертации фактического поражения в миф о моральной победе в контексте «духовного превосходства» России над Западом.
-
В создании пантеона национальных героев и антигероев Крымской войны отразился процесс «преодоления» травматического прошлого.
-
Миф о героической обороне в «многострадальном городе» формировался под воздействием адаптации евангельских структурных образцов и моделей (образы мученичества, жертвенности, воскресения, противостояния добра и зла), актуализированных внешнеполитических стереотипов и мифологем прошлых военных конфликтов, представлений о народности и фольклорных стилизаций, элементов античной и западноевропейской коммеморативной культуры.
-
В процессе коммеморации Крымской войны происходило соединение памяти, коммерции и национализма, то, что страны Европы переживали после Первой мировой войны. Свидетельство такого соединения – превращение Севастополя в город русской славы, в национальный музей под открытым небом, который посещали тысячи людей, специально приезжавшие для этого в Крым.
-
Основой памяти об обороне Севастополя стал культ погибших героев, превратившихся в объект поклонения. Практика посещения кладбищ и мест памяти утратила приватный характер, став частью образовательного процесса и индустрии туризма, а также новой формой паломничества.
Результаты исследования могут найти практическое применение в учебных курсах по проблематике исторической памяти, по истории России. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке мероприятий, связанных с коммеморацией важных событий истории России (юбилейные торжества, установка памятников, принятие решений по топонимике и т.д.). Подход к собранному корпусу материалов может быть использован при подготовке авторских семинарских и учебных курсов по проблематике исторической памяти.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на диссертационных семинарах факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2009-2011 гг., на заседаниях кафедры истории России и политологии Санкт-Петербургского Университета экономики и финансов, на заседаниях отдела Новой истории Санкт-Петербургского Института истории РАН, а также во время работы исследовательского коллоквиума Германского исторического института в Москве. По материалам исследования было подготовлено выступление на международной конференции «Наполеоновские войны на ментальных картах Европы: историческое сознание и литературные мифы» (22-23 сентября 2011 г., Москва). По теме диссертации опубликованы работы общим объемом 4,6 п.л.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.
Образы «Бородино» и «Севастополя»: общее и различное
При изучении культурной памяти о Крымской войне следует, прежде всего, учитывать то, что она формировалась не в атмосфере победной эйфории первой половины XIX столетия, а в период, когда российское общество переживало горечь поражения. Обращение к картинам прошлого, которые лечили раненое национальное самолюбие, было естественной реакцией общества на военные неудачи. Лучшим «бальзамом» в таких случаях была слава Отечественной войны 1812 года. Накануне столетнего юбилея Бородинской битвы известный журналист Н. Маркс писал в газете «Утро России»: «...Хотелось уйти от кошмара последней войны (русско-японской -М.Ф.), отдохнуть на припоминаниях других более счастливых событий нашего прошлого...»89. Подъем патриотических чувств, связанный с Русско-турецкой войной 1877-1878 гг. и антироссийской позицией западных держав, вновь актуализировал «славную годину». Человек, оказавшийся по делам службы летом 1878 года в Можайске, счел себя обязанным посетить Бородинское поле: «В такие моменты чувствуешь всегда еше большую потребность в единении с памятью своего доблестного прошлого, и где же и место этому единению, как не на том самом месте, где прошлое увековечено навсегда присутствием множества могил, виновников этой дoблести»90. Эта «живая связь времен» проявлялась столетие спустя после изгнания «двунадесяти языков». Период Крымской войны - время, когда на службе состояли седовласые генералы, «нюхавшие порох» при Бородине, будучи во время войны 1812 года в чине корнетов и прапорщиков (М.Д. Горчаков, Д.Е. Остен-Сакен, О.А. Квицинский, П.А. Данненберг, Н.А. Реад, П.П. Липранди и др.). В 1912 году были составлены списки тех, кто мог предоставить документальные свидетельства об участии их предков по мужской линии в войне с Наполеоном I. Таких оказалось человек91. За шесть десятилетий до того, ситуация была совершенно иной. Гораздо большее чиело россиян - современников Крымской войны могли назвать себя родственниками участников войны 1812 года. Так в 1912 году генерал-майор Свиты Добровольский представил следующий документ: «Мой дед по отцу Михаил Иванович Добровольский, будучи молодым человеком, участвовал в Отечественной войне 1812 года, судя по фамильным портретам, -в обер-офицерских чинах. После Отечественной войны мой дед перешел на службу в Министерство внутренних дел. Полученная им бронзовая медаль хранилась в семейном киоте до смерти моей тетки в 1876 году, когда неизвестно куда пропaла»92. Крымская война была хронологически ближе, поэтому во второй половине XIX - начале XX вв. «ошущение прикосновенности» к ней чувствовалось сильнее.
Подобно тому, как история Крымской войны постепенно преврашалась в историю обороны Севастополя, история Отечественной войны 1812 г. испытывала угрозу превращения в историю Бородино. Одно из ярких свидетельств пользу этого - данные библиографических справочников, по которым Бородино выглядит центром коммеморативной конструкции. Прочие «места памяти» Отечественной войны 1812 года (Клястицы, Полоцк, Рига, Луцк, Тарутино, Березина, Красный и пр.) не составляют ему даже малейшей конкуренции. Доказательство того, что Бородино являлось победой именно русского оружия, было важной задачей, поскольку это позволяло говорить о военной мощи империи. Это льстило национальному самолюбию и, прежде веего, армии. Противоположный вариант означал, что французскую армию уничтожил «генерал-мороз». Признание Бородинского сражения победой русских войск позволяло придать нужный ракурс при рассмотрении картины оставления Москвы. Найденный вариант: при Бородине была одержана нравственная победа, Москва - жертва. Ее занятие - апогей успехов Наполеона, который потерпел моральное поражение при Бородине. Моральная победа русских предшествовала победе военной. Традиция провозглашения моральной победы оказала огромное влияние на развитие коммеморативного комплекса Крымской и Русско-японской войны.
Участник Отечественной войны 1812 года И.П. Липранди отметил особую спаянность ее ветеранов: «Соратники 1812 года встречаются и ныне как старые знакомцы, иногда до сего времени не видавшись друг с другом. Исключений немного. Война эта и за и нею Лейпциг и Монмартр сроднили всех и каждого. Впоследствии я служил в кампаниях 1828 и 1829 годов, не лишенных также блистательных подвигов одним уже переходом Балкан; но между этими сослуживцами далеко не те отношения, не та откровенность; через год делаешься незнакомым с тем, с которым в продолжении двух лет разделял все опасности, все труды, ночлеги и пищу. То же замечается и в Польскую войну даже между теми, которые по одной лестнице поднимались на штурм Варшaвы»93. Несмотря на то, что ветераны 1812 года сами себя подразделяли на «румянцевских», «потемкинских» и «суворовских», т.е. получивших боевой опыт, «крещение огнем» и т.д. при этих известных полководцах последней трети XVIII столетия, в целом они чувствовали «cимпaтию»94. Несмотря на дождь наград, обрушившийся на участников Русско-турецкой войны 1828-1829 гг.. Польской кампании 1830-1831 гг. (Липранди «забыл» о войне с Персией в 1826-1829 гг. и о Венгерском походе 1849 года), в коллективной памяти россиян эти победы лишь на короткое время потеснили наполеоновскую эпопею. А вот Крымская война явила собой событие гораздо большего масштаба, о чем свидетельствовали многочисленные сравнения ее с нашествием «двунадесяти языков». Тональность и содержание некоторых высказываний Липранди порождает сильное подозрение, что он, как ветеран наполеоновских войн испытывал тревогу по поводу сильнейшей конкуренции со стороны «севастопольцев» в вольном и невольном соперничестве за места в российском пантеоне. Он утверждал, будто бы «соратники Севастополя» при встрече вели себя церемонно и отчужденно как иностранные послы на официальных приемах. Правда, тут же вспомнил о так называемых Севастопольских обедах и попытался объяснить отсутствие таковых в первую половину XIX века отсутствием традиции: «В начале не подумали о помянутом торжестве, конечно, более потому, что в то время ораторство и обеденные спичи как неотъемлемое условие таких обедов у нас не были еще в употреблении, а впоследствии мы стали редеть, так, что и пятидесятилетний юбилей этого знаменитого дня, дорого для России и по другим историческим событиям, никого не соединил. Один полковник Гернгрос, сколько известно, чтит этот день в своем Витебском имении». Липранди пытается объяснить эту разность в отношениях ветеранов тем, что в 1812 году все оказались крещеными в «кровавой купели», не объясняя, чем это испытание отличается о того, которое досталось на долю участникам других кaмпaний95.
Еще одним признаком исключительности Бородинского сражения было то, что в особую категорию были выделены потомки участников Бородинского сражения - их пригласили на обе части торжеств, тогда как остальные участвовали только в московских празднествах96. Во второй половине XIX -начале XX вв. концентрация внимания к Севастополю оказалась еще большей -фактически забытыми остались те, кто сражался на других театрах. По крайней мере, их не чествовали с таким воодушевлением как защитников города-героя. Центральным пунктом поклонения солдатам и офицерам, павшим в Отечественной войне 1812 года стал памятник на Бородинском поле на кургане, где находилась батарея Раевского, памятник, представлявший собой сочетание военного памятного обелиска, надгробия и часовни «в память убиенных». Севастопольские могилы стали местом поминовения не только погибших чинов гарнизона, но и всех павших в той войне.
Роль Л.Н. Толстого в формировании образов Севастопольской обороны
Развитие печати и рост грамотности к середине XIX века еще не преодолели того рубежа, за которым могут быть «услышанными» все участники важных исторических событий. Несмотря на репортажи с театра военных действий, на многочисленные публикации воспоминаний и писем, нижние чины, равно как и большинство офицеров, выживших после осады, остались молчащим большинством, поскольку объективно или субъективно не имели возможности оформить и транслировать свои частные впечатления и воспоминания. Творцами героической версии осады стала некоторая часть участников войны, представители офицерского состава, образованные и пишущие люди. Живая, не кодифицированная, пережитая в личном опыте городским населением или нижними чинами память послевоенного периода, где было мало места для парадно-лубочной трактовки, слабо взаимодействовала с нарождавшейся официальной героической версией войны.
Согласно теории М. Хальбвакса, индивидуальная память обусловлена коллективными, групповыми представлениями, социальными контекстами и т.д. Многие воспоминания о Крымской войне, при их сравнительном рассмотрении, отличаются слабым присутствием (или вовсе отсутствием) личного взгляда на события и наполненностью общеупотребимыми маркировками и штампами, которые и представляли пространство мифа о войне и осаде Севастополя. Каждый свидетель, переживший войну, приобрел свой личный опыт, однако коллективное воспоминание создавало и утверждало в качестве своеобразного канона единый набор событий. Поскольку каждый отдельный мемуарист оказывался под сильным воздействием других авторов, происходила деформация личной памяти. Нередко воспоминания были написаны языком газет и официальных донесений, и создавали иллюзию отсутствия иных интерпретаций прошлого. Однако, несмотря на кажущуюся целостность памяти о прошлом, с самого начала военных событий формирующиеся представления и память о Крымской войне не были монолитны, несмотря на то, что они не нашли себе воплощения в официальном дискурсе. Современники, и особенно очевидцы событий отчетливо осознавали пропасть между официальными реляциями и бюллетенями о победах и подвигах, романами, беллетристическими очерками и заметками, с одной стороны, и репрессированным знанием, под которым понимаются реалистичные картины происходящего, гарнизонных будней и сражений. Участники военных действий не стеснялись ставить под сомнение содержание рапортов и отчетов: «В составленную реляцию начали вписывать всякий свои подвиги. И путешествие генерала Бутурлина с греческими охотниками и Мирбахом на пустые батареи, и высокая заботливость генерала Ушакова о раненых, которые не видали перевязочного пункта, и распорядительность князя Урусова на Бындое, и гениальность Шильдера, и даже Трофимовский, распорядитель судов, которого нельзя было найти на пристани, - все вписались в реляцию!.. [...] Почему на святой Руси так много печатных и так мало героев действительных!»254 - сетовал один из очевидцев событий. Отдельные дневники, записки, хранившие репрессированные знания, демонстрируют понимание свидетелями событий того, что официальная версия - лишь одна из сторон войны, при этом, далеко не самая важная и правдивая. «Неудобная правда» была сопровождающим явлением всех военных конфликтов. Неудобной она оказывалась, прежде всего, потому, что бросала тень на образы «положительных героев», уже завоевавших такую позицию в культурной памяти. Эта «правда» во многом являлась реакцией на официальную версию событий, представленную на страницах газет, журналов и популярных брошюр. До тех пор пока были живы участники войны, которые могли донести свою альтернативную историю, противоречащую официальному дискурсу, существовала и конкуренция интерпретаций и борьба за «правду». Войны памятей продолжились после окончания реальных боевых действий в Севастополе, увеличивая пропасть между публичной и приватной сферами памяти.
Поскольку английское и французское общество желало получать самые свежие известия из Крыма, родился новый способ передачи информации с места событий. Появилось так называемое иллюстрированное обозрение («The Illustrated London News», «L lllustration»). На сцене появился принципиально новый тип автора. Таковым стал репортер - непосредственный очевидец событий (журналист Уильям Говард Рассел, фотограф Роджер Фентон и др.)255. Свою популярность У. Рассел обрел благодаря репортажам в газете «Times», где вместо героических и романтических батальных сцен описывал страдания раненых, лазареты, ужасы и бедственное положение британской армии в Крыму. Это даже навлекло на журналиста гнев королевекой семьи.
В России в аналогичной роли фронтового писателя-корреспондента выступил Л.Н. Толстой, подававший альтернативную версию тому, чем заполнялиеь полосы официоза военного ведомства газеты «Русский инвалид». Сходную роль играл Н.В. Берг, который находился в театре боевых действий до окончания осады и посылал из Крыма свои корреспонденции в журнал «Москвитянин» М.П. Погодина. Иллюстративный материал в своеобразной форме (в виде гравюр), периодически подавался в сборнике под редакцией В.Ф. Тимма под названием «Русский художественный листок». Целью Тимма была не эстетическая интерпретация, а скорее документальное свидетельство. Редактор использовал элементы репортерского подхода: фиксация и передача информации, для чего приобрел «в самых противоположных краях России и заграницею корреспондентов-художников, которые сообщали бы, как очевидцы»256. Претензия на документальность играла не меньшую роль в сравнении с художественностью.
В трудах, посвященных раннему творчеству Льва Толстого, особое внимание уделяется «Севастопольским рассказам», их связи с современным им литературным фоном 50 - 60-х годов XIX века . При этом подчеркивались новаторские литературные подходы автора. Для определения роли Л.Н. Толстого на формирование образа Севастопольской обороны художественные аспекты отодвигаются на второй план, а на первый выходят исторические аспекты и дискуссии, касающиеся исторической канвы рассказов. Здесь важен вопрос о том, насколько современники воспринимали Толстого как автора, какую позицию занимал сам писатель при оценке событий, и, наконец, как отразился взгляд самого писателя на приемы описания Севастопольской обороны.
А.В. Дружинин, В.П.Боткин, П.В. Анненков и др. представители так называемого «чистого искусства» не без проницательности отмечали главный прием Толстого, который позднее станет одним из определяющих в его творчестве: снятие риторических и иных наслоений с описаний событий Севастопольской обороны и честный рассказ о том, как в действительности была пережита эта трагедия как офицерами, так и солдатами. Современники обращали внимание на то, насколько Толстой сам правдиво описал события как их очевидец, насколько он внимательно сверял записки других, чтобы произвести деконструкцию официозной лжи, был ли легковерен или выискивал только те, где была отражена негативная сторона и пр.
Антагонисты
Поиски персонифицированного зла в ходе Крымской войны привели к созданию галереи антигероев. Роль главного антагониста драмы выполнил адмирал, главнокомандующий русской армией в Крыму Александр Сергеевич Меншиков. Сразу следует сказать, что его образ «антигероя» складывался в борьбе его сторонников и противников. Последние явно одержали победу. Еще современники отметили это обстоятельство: «Едва ли можно встретить другого человека, оцениваемого столь различным образом не только различными, но и одними и теми же судьями как князь Меншиков»464. Нет сомнений, что идея потопления кораблей у входа в Севастопольскую бухту принадлежала ему, но негативное отнощение к князю было так сильно, что это факт оказался не просто вытеснен из культурной памяти о Крымской войне, но сознательно искажен. Чтение мемуаров, исторических трудов и литературы «для народа» создает представление, что непреодолимая преграда для вражеского флота была создана усилиями Нахимова и Корнилова. Точно так же не акцентируется внимание читателей на том, что Менщиков предвидел возможность высадки неприятельской армии в Крыму. Высказывания отдельных авторов в пользу главнокомандующего, попытки перенести ответственность на правительство страны не принесло плодов. М.А. Вроченский писал: «Елавнокомандующий морским и сухопутными силами в Крыму светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков не разделял общего мнения о невозможности высадки, и потому настойчиво просил подкреплений, но просьбы его оставались тщетными, так как нащи высщие военные деятели думали каждый лищь о себе»465. В публикации «анекдотов» и «острот» Менщикова он выступает в роли разоблачителя окружающей действительности, коррупции и негативных сторон чиновничества466.Но уже в "потещных" уличных "панорамах" сквозит ирония по поводу его полководческих талантов: "А это, извольте, смотреть-рассматривать, глядеть и разглядывать, как князь Меньщиков Сивастополь брал; турки палят - все мимо до мимо, а наши палят - все в рыло да в рыло; а наших бог помиловал: без головушек стоят, да трубочки курят, да табачок нюхают, да кверху брюхом лежат"467. Военный историк М.И. Богданович сравнивал князя Меншикова с Кутузовым, поскольку и тот и другой в экстренной ситуации были вынуждены начать бесперспективное сражение, так как «первый не мог даром отдать Москвы, а второй Севастополя»468. Адъютант Меншикова А.А. Панаев в своих записках попытался даже возложить ответственность за отсутствие взаимопонимания на руководство флота: «Старания князя (получить доверие морских офицеров - М.Ф.) были мало успешны; моряки постоянно его дичились. В этом был много виноват Корнилов. Человек развитой, умный, много работавший с князем, хорошо знавший его намерения, мысли, предположения, - от него светлейший ничего не скрывал, - Корнилов мог содействовать его сближению с моряками, но, к сожалению, он этого не только не делал, а еще колебал к нему доверенность как моряков, так и сухопутных войск». Панаев сетовал, что моряки почему-то не гордились тем, что «из одиннадцати мундиров, право носить которые было ему предоставлено, князь избрал и предпочитал морской»469.
Современники и потомки много сил потратили на объяснение того, почему во главе войск в Крыму оказался А.С. Меншиков. Высказывалисъ даже мнения, что здесь сыграла роль «родовитость»: он был правнуком и тезкой знаменитого сподвижника Петра I. Поскольку Николай I считал своим кумиром Петра I, он непременно желал иметь «своего Меншикова». В его послужном списке - дипломатические (посол в Турции), гражданские административные (член Государственного Совета, Финляндский генерал-губернатор), военно-административные (начальник Морского штаба) и военно-строевые должности (начальник десантного отряда при взятии Анапы в 1828 г.). Это был по свидетельству современников образованный, умный, острый на язык придворный, «умевший нравиться» Николаю I. Однако все эти качества позволили ему выполнять возложенные поручения с оценкой не выше «удовлетворительно», хотя он регулярно получал высокие награды и чины, стал адмиралом, ранее не командуя никаким кораблем. Он показал себя не очень умелым дипломатом, его не без оснований считают виновником того, что русский флот в середине XIX столетия оказался не на должном техническом уровне. Меншиков не сумел ни подготовить успешные боевые операции, ни организовать удовлетворительную работу тыловых структур русской армии в Крыму.
Критики Меншикова использовали идею о благодетельном царе, от которого скрывается истина: «Меншикова обвиняли в том, что приняв начальство над крымской армией он, как человек тонкий и уклончивый, «ловкий царедворец», вовремя не донес о неудовлетворительном состоянии средств защиты, не хотел ссориться с другими ведомствами, с комиссариатом, не хотел «огорчать царя» неутешительной картиной настоящего положения дел. Горячие головы не могли простить ему высадки неприятеля. Союзная армия могла быть уничтожена, будь у нас способные генералы и действуй Меншиков менее нерешительно, опасайся он менее за свой «фавор». Недовольные матросы прибавили к его фамилии «из», и вышло Изменщиков. Нерешительность и колебания из страха рискнуть своей карьерой, не давший царю раскрыть настоящее положение дел - все это в высшем нравственном смысле равносильно государственной измене470.
Образ князя приобрел унифицированные черты недальновидного военачальника, не благодаря, а вопреки которому развиваются события. Меншиков - явный антигерой, который «не только не популярен в армии, но его просто не любят»471. Начиная с провалов миссии Меншикова в качестве посла России его фигура стала оцениваться в негативных тонах: «... князь вел себя в Константинополе не по-посольски, с отсутствием дипломатического такта, как относительно Турции, так и по отношению к представителям других держав»472.
Альминское поражение оценивалось как результат бездарного командования, стратегических просчетов, ставших причиной неудач. Оставшийся неизвестным офицер 1 октября 1854 года (после катастрофы на р. Альме, незадолго до первой бомбардировки города и гибели командира гарнизона В.А. Корнилова) отмечал, «всеобщее недоверие и неудовольствие князю, начиная с офицеров до солдата включительно; все ждут полководца -генерала, который был бы достоин командовать нами и его нет»473.
В действиях главнокомандующего все замечали отсутствие единства и предоставление слишком большого простора инициативе отдельных командиров. Вторым виновником Инкерманского сражения, этого бесполезного кровопролития называли Горчакова, который «не пытался даже отвлечь силы генерала Боске»474. Главнокомандующий оказался неспособным стратегом, тактиком, администратором и хозяйственником. Создается впечатление, что Меншиков не представлял себе, что солдат и лошадей надо кормить каждый день, что надо обеспечить им ночлег, для больных и раненых устроить лазареты, словом, создавать сложную тыловую инфраструктуру.
Главнокомандуюший не просто уклонился от руководства обороной Севастополя, но и оставил всех старших начальников в полном неведении - кто из них теперь главный, и кто за что отвечает. Поручение Корнилову отвечать за Северную часть, а Нахимову - за Южную по существу только запутывало дело, поскольку все остальные генералы и адмиралы оставались на своих постах и их полномочий никто не отменял. Участник Крымской кампании В. Стеценко, адъютант Меншикова и один из немногих мемуаристов, пытавшихся оправдать действия князя, писал по этому поводу: «По выходе армии из Севастополя в городе оставались четыре личности, которых ясный круг действия определить было невозможно: младший из них генерал-адъютант Корнилов, управлявший в мирное время почти самовластно, а в военное в присутствии князя непосредственный его помощник и исполнитель его распоряжений, по званию начальника штаба главного командира Черноморского флота и портов, естественно, более других имел в своих руках все нити, чтобы приводить в движение материальные средства и личный состав флота. Адмирал Нахимов с полным увлечением, занятый собственной своей частью, то есть своими кораблями, не любил мешаться не в свои дела; но по своему авторитету, по своему прямому и благородному характеру, по полному самоотвержению, по любви к нему моряков и по недавней славе Синопской победы, не мог также в минуты опасности быть отодвинут на задний план и в особенности быть подчиненным младшему»475.
Пятидесятилетний юбилей обороны Севастополя
Празднование юбилеев государственного масштаба в дореволюционной России имело относительно недавнюю традицию, которая берет начало в XVIII века. К началу XX века в России сложились определенные традиции и ритуал празднования военных государственных юбилеев, начало которым положили торжества в память о победах в Северной войне 1700-1721 гг. Такие праздники традиционно отмечались с участием высокопоставленных лиц, цредставителей армии и флота, широких слоев населения, сопровождались богослужением, панихидами, молебнами, парадами, награждениями, обедами и народными гуляниями. Как отмечает У. Розенберг, празднование военных юбилеев несло воспитательно-патриотический характер и играло большую роль в национальной идентичности посредством поддержания священной памяти о великих сражениях и одержанных победах. Проведение торжеств на местах памяти для участников и наблюдателей происходящего играет роль доказательства в «историчности» происходивших событий, а юбилейные мероприятия выступают как «закрепление» официальной трактовки прошлого. Несомненно, церемонии, памятники, празднования и другие семиотические практики часто формируют и воспроизводят социальную память искуснее, чем официальные исторические нарративы, и, следовательно, обладают большим влиянием. В отличие от нарративов, они редко допускают даже саму возможность альтернативного понимания, тем более расходящегося с интерпретацией, исповедуемой хозяевами «места памяти»721. Севастопольский юбилей должен был стать «празднованием лучшей, святой стороны военного дела, того высокого чувства любви русского народа к Царю и родине, скромного исполнения долга, самопожертвования, выносливости и стойкости, которые являются его отличительной, завидной чертой»722.
В словаре В.И. Даля под юбилеем понималось «торжество, празднество, по поводу протекшего пятидесятилетия, столетия, тысячелетия, юбилейное торжество»723. Во второй половине XIX века появилась традиция отмечать «некруглые» даты, не кратные 50 и 25; 45-летие, 40-летие, 25-летие царствования, 25-летие рождения, службы, смерти почтенных лиц, деятелей культуры, основания государственных и учебных учреждений, юбилеи известных исторических событий (25-летие Синопского сражения и начала первого бомбардирования Севастополя).
В начале XX века Российская империя переживала «юбилейный бум». Череда юбилеев включала праздники в честь полков и полководцев, военных и общественных институтов и министерств и особенно победоносных сражений и войн. Общей принципиально важной чертой российских юбилеев было наличие трех главных носителей юбилейной идеи и исполнителей юбилейных замыслов; государство (правительство, высшие сановники), армия (Генеральный штаб) и Русская православная церковь (Синод)724. Одно за другим непрерывно следовали торжества, связанные с датами Российской военной истории. Особое место среди них занимали торжества, связанные с победами русского оружия: 200-летие победы под Полтавой, при Гангуте, 200-летие взятия Шлиссельбурга, Выборга, Нарвы, 150-летие сражения под Кунерсдорфом во время Семилетней войны, 100-летие Бородинского сражения и «разгрома наполеоновских полчищ», 300-летие обороны Смоленска в 1610 году и юбилей царствования Дома Романовых (1913). Крупным национальным юбилеем начала XX века стало 200-летие со дня основания Санкт-Петербурга, присоединения городов и крепостей (Кронштадт, Выборг, Рига, Ревель, Царское село и др.). Частым поводом для коммеморативных мероприятий служили открытие памятников в память военных событий.
Все значительные юбилейные торжества следовали определенной схеме, сложившейся десятилетиями. Главным носителем и выразителем имперской идеи торжеств была Русская православная церковь, что диктовало характер и порядок торжественных мероприятий. Красной нитью через все официальные юбилеи проходило стремление сплотить все народы империи вокруг трона как зримого воплощения государственного единства и идеологически сцементировать это единство, дать ему церковную санкцию. Православная церковь принимала активное участие в праздновании всех без исключения государственных и большинства общественных, научных и культурных юбилеев723. Как правило, подготовку к юбилейным торжествам предваряла организация специального комитета (Полтавского, Выборгского, Бородинского, Севастопольского), в который входили представители от министерств, государственных учреждений и духовенства. Программа торжеств подразумевала ознакомление нижних чинов и учащихся учебных заведений накануне дня празднования с историей отмечаемого события. Накануне открытия памятника В.А. Корнилову ученики реального училища совершили со своим оркестром прогулку на Малахов курган к памятнику вице-адмирала. По отработанной схеме накануне или в день юбилея (или открытия памятника) торжества открывались панихидой с поминовением погибших, в которой принимали участие все приглашенные лица и участники мероприятий. К месту торжеств стягивались представители от всех частей войск, депутации от всех воинских полков, участвовавших в историческом сражении, а также ветераны войн. 26 августа 1839 года ознаменовался открытием монумента на Бородинском поле, заложенного в 1835 году в честь 25-летней годовщины бородинского боя. К месту торжеств было стянуто два пехотных и 1 кавалерийский корпус и бессрочно-отпускные корпуса восьми ближайших губерний, из которых были сформированы роты пеших гвардейцев и гренадеров, эскадрон гвардейских кирасир и эскадрон легкой гвардейской кавалерийской дивизии, пешая гвардейская и гренадерская артиллерийская батарея (всех войск до 120.000 чел.). Большинство представителей бессрочноотпускных были ветеранами отечественной войны. Участники 1812 года находились еще и в строю собранных войск, а также среди приглашенных лиц726. В царствование Александра III 12 октября 1886 года в Петербурге состоялось открытие памятника войны 1877-78 гг. В Петербург были приглашены все лица, награжденные за отличие в войне 1877-78 гг. орденом св. Георгия первых двух степеней, а из кавалеров третьей степени этого ордена -корпусные командиры; представители от войск, участвовавших в кампании и расположенных вне Петербурга727. Традиция приглашать ветеранов на юбилеи иногда принимала курьезные формы. В 1787 году во время путешествия Екатерины II к берегам Черного моря, при Полтаве была устроена инсценировка знаменитой баталии 1709 года. Передвижения войск «устроили» по воспоминаниям 98-летнего старца Галайды, участника этого сражения. При праздновании 100-летия Бородинского сражения нашелся один его живой участник.
Признаком мероприятия первостепенной важности и высокого статуса было присутствие монарших особ (это подразумевалось при запланированных Севастопольском, Бородинском, Полтавском юбилеях, 200-летии Петербурга), а также представителей европейских династий, гостей иностранных государств. Командиры зачитывали приказ по армии или флоту, напоминавшие об историческом значении торжества, после чего под залп орудий открывались памятники, следовали крестные ходы под пение «Коль славен», молебствие с коленопреклонением, затем парады и церемониальные марши. Как правило, после торжественных мероприятий организовывались парадный обед для первых гостей, раздача еды (во время 200-летнего юбилея 1812 г. московским столичным попечительством о народной трезвости на празднике были устроены бесплатные народные столовые728), гуляния. По случаю сооружения памятника войны 1877-1878 гг. были изготовлены медали: золотые, серебряные, и темнобронзовые для особ императорской фамилии, георгиевских кавалеров и начальников частей во время войны, а для раздачи нижним чинам бывшим при открытии памятника выбиты жетоны из светлой бронзы729.
25-летие Крымской войны совпало с Русско-турецкой войной и стало главным праздником моряков. Юбилей отмечался в Петербурге и Кронштадте, открылся торжественным молебствием и продолжился торжественным обедом. 18 ноября 1878 года отмечалось 25-летие Синопского сражения, «этой лебединой песни нашего славного парусного военного флота, последнего отклика Чесмы, Абукира, Трифальгара и Наварина»730.