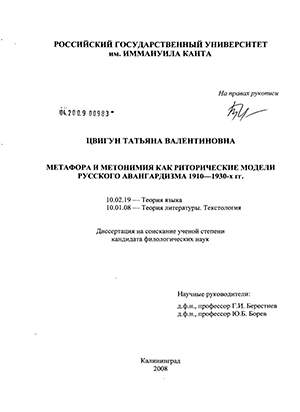Введение к работе
Актуальность исследования. Взгляд на русский авангардизм первой трети ХХ в. с позиций риторического моделирования пока лишь формируется и на настоящий момент лишен необходимых теоретических обобщений. Его предварительными результатами становятся попытки возвести дискурсивные аномалии авангардизма к сингулярным тропам или фигурам — например, катахрезе (И.Р. Деринг-Смирнова, И.П. Смирнов), тмесису (В.Л. Рабинович), сдвигу (М.В. Панов) и др. Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в нем предпринята попытка описания русского авангардизма через бинарное риторическое противопоставление метафора / метонимия — такой подход позволяет переключить исследовательский фокус с макроэволюционного описания на описание микроэволюционное, а понимание метафоры и метонимии как риторических моделей — придать этому описанию типологизирующий характер.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем разработанная Р. Якобсоном «риторика моделей» впервые используется для изучения русского авангардизма 1910—1930-х гг. как художественной системы. В исследовании под новым аналитическим углом развивается представление о смежности научного метода Якобсона и художественных практик русского авангардизма. Предложенный в работе взгляд на авангардизм sub specie якобсоновской теории метафоры / метонимии позволяет вскрыть глубинное морфологическое родство авангардизма и афазий как патодискурсов. Тезис о возможности экстраполировать якобсоновские наблюдения об афазиях на исследование авангардистских поэтик заявлялся лишь ремарочно (Вяч.Вс. Иванов), однако развернутой аргументации он так и не получил; и в этом смысле теоретическая новизна предложенной концепции определяется как методом анализа, так и теми научными перспективами, которые открываются при соположении авангардистского и афатического дискурсов.
Теоретико-методологическую основу исследования составила теория метафоры / метонимии Р. Якобсона, а также формалистские и структуралистские риторические теории (В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Группа и др.). Вместе с тем специфика рассматриваемого материала диктует необходимость междисциплинарного подхода к его анализу. Поэтому в исследовании осваивается ряд ключевых положений, сформулированных в работах по теории и истории риторики (С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, Р. Лахманн и др.), истории и методологии научных школ (Оге А. Ханзен-Леве, К. Поморска, Вяч.Вс. Иванов, В. Вестстейн и др.), теории эстетической референции (Дж.Р. Серль, Ю.С. Степанов, С.Т. Золян, В.П. Руднев и др.), семиотике и поэтике художественного текста (Ю.М. Лотман, Г.А. Лесскис, И.В. Фоменко, Я. Славиньский и др.), лингвистике и грамматике текста (Е.В. Падучева, Б.М. Гаспаров, И.И. и О.Г. Ревзины, Е.В. Урысон и др.), истории и художественной практике русского литературного авангардизма (В.Ф. Марков, Н.И. Харджиев, М.М. Мейлах, С. Сигей, В.П. Григорьев, С.Е. Бирюков, И.П. Смирнов, М.И. Шапир, Т.Л. Никольская, А.А. Кобринский, А.Н. Черняков, Дж. Янечек, Е. Фарыно, Д. Ораич Толич, Ж.-Ф. Жаккар и др.).
В работе использовались следующие методы исследования: гипотетико-индуктивный метод — при реконструкции метариторической теории Р. Якобсона и формулировании понятия «риторическая модель»; гипотетико-дедуктивный метод и метод экстраполяции — при описании риторических отклонений «по сходству» и «по смежности» в системе русского авангардизма; структурно-, контекстуально-, прагматико- и грамматико-семантический методы — при анализе риторических преобразований в авангардистском семиозисе, коммуникации, текстогенезе.
Практическая значимость исследования. Предложенные в работе наблюдения и выводы могут быть использованы при разработке курсов по общему языкознанию, теоретической и исторической поэтике, истории русской литературы, истории лингвистических учений, истории и теории риторики, семиотике, нарратологии, теории художественного дискурса, лингвопоэтике, а также могут быть учтены при комментированном издании произведений русских авангардистов.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы были изложены в докладах, прочитанных на Летней школе молодого филолога «Проблема внутренних и внешних границ филологического знания» (Калининград, 2000), Международной конференции молодых ученых «Русская литература ХХ века: Итоги столетия» (Санкт-Петербург, 2001), ХХХ научной конференции аспирантов и преподавателей СПбГУ (Санкт-Петербург, 2001), Летней молодежной конференции по филологии «Методологические основания современной филологии: материализм и идеализм в науке» (Калининград, 2001), Международных научных конференциях «Языкознание XXI века: итоги и перспективы» (Калининград, 2001), «Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация» (Вильнюс, 2002), «Идеологии и риторики русской литературы от классицизма до постмодернизма» (Санкт-Петербург, 2002), «Славянский мир и литература» (Калининград, 2002), «Семантико-дискурсивные исследования языка: эксплицитность / имплицитность выражения смыслов» (Калининград, 2005), «"Доски судьбы" и вокруг: Эвристика и эстетика» (Москва, 2006), «Поэтика и лингвистика (К 100-летию со дня рождения Р.Р. Гельгардта)» (Тверь, 2006), «Русская литература перелома XIX и ХХ веков: Поиски, эксперименты, ре-визии» (Гданьск, 2006), «Оценки и ценности в современном научном познании» (Калининград—Светлогорск, 2008), IX Международной конференции «Славянский стих: стиховедение и лингвистика» (Москва, 2008), Международном научном семинаре «Современная методология исследования художественного произведения: Итоги и перспективы» (Калининград, 2007).
Положения, выносимые на защиту
1. Риторика и авангардизм — «пересекающиеся множества». В ХХ веке риторика, встраиваясь как «импликатура» в метаязыки филологического описания, (ре)актуализирует трактовку «поэтического» как «отклонения» при построении теорий литературы (прежде всего формалистской и структуралистской). Русский авангардизм 1910—1930-х гг., развивающийся в поле интеллектуального взаимообмена с формальной школой, мыслит себя в тех же парадигмах «отклонения»: деформативная риторика авангардизма канонизирует ошибку — «сдвиг» (А. Крученых), «правило отступления от правил» — как «поэтическое».
2. Теория метафоры / метонимии Р. Якобсона — основа языка риторического моделирования. Данная теория отражает процесс «сокращения риторики» (Ж. Женетт) и превращение ее таксономий в язык моделирования. Эволюционируя в своем научном методе от формализма к структурализму, Якобсон рассматривает метафору / метонимию как универсальную риторическую оппозицию, имеющую системный характер и вскрывающую отклонения «по сходству» и «по смежности» в разноприродных явлениях (типах художественной речи, идиостилях, литературных нарративах, речевых расстройствах и т.п.).
3. Авангардистский семиозис — асимметрия знака и референта. Рассматриваемая sub specie rhetoricae, через отклонения между «знаковыми ансамблями» и их референтной средой, микроэволюция системы русского авангардизма обнаруживает переход от метонимической модели семиозиса (усиление полюса знака, умножение знаковых сущностей, «по смежности» отсылающих к одной области референтов), к модели метафорической (инфляция знаковости и умножение обозначаемых объектов «по сходству»). За тиражированием знаков стоит стремление раннего авангардизма изменить социофизический мир, создавая новый «мир знаков»; эффект тиражирования референтов в позднем авангардизме свидетельствует о «неверии» в адекватность языка, в способность познать мир и фиксировать его средствами языкового знака.
4. Авангардистский текстогенез — асимметрия синтагматики и парадигматики. Риторические отклонения транс(де)формируют дискурсивное пространство: художественный эксперимент авангардизма, осуществляя эстетическую игру на «оси комбинации» и «оси селекции», нарушает равновесие между текстовой синтагматикой и парадигматикой. Метонимической риторике раннего авангардизма как риторике новых комбинаторных отношений, новой звуко-буквенной материальности текста противопоставляется позднеавангардистская метафорическая риторика с ее «замороженной селекцией», превращением нарратива в цепь беспрерывно чередующихся повторений.
5. Авангардистская коммуникация — асимметрия адресанта и адресата. Авангардизм вырабатывает новые коммуникативные стратегии, выдвигая на первый план фигуру либо адресанта, либо адресата и изменяя конвенции «письма-чтения». Если ранний авангардизм коммуникативно «убивает» читателя, рождая его как со-автора, то метафорическая риторика позднего авангардизма, разрушая коммуникативность как таковую, декларирует дискурсивную «инфляцию автора», его неспособность порождать связные контексты.
6. Метафорическая и метонимическая риторики — подсистемы русского авангардизма. Риторические модели, структурирующие систему русского авангардизма, обладают разным функциональным ореолом: метонимическая риторика (как стадия эстетического становления авангардистской системы) экстенсивна, она осуществляет «захват» новых художественных территорий; метафорическая риторика (как стадия осознания системой собственной исчерпанности) имеет интенсивный характер и осуществляет эксперимент над самой системой.
Структура и краткое содержание работы
Диссертационное сочинение состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем диссертации — 200 страниц.
Во Введении очерчивается общее проблемное поле работы, устанавливаются типологические характеристики объекта и предмета исследования, обосновывается актуальность и новизна исследования, формулируются цель и задачи диссертации, устанавливаются методы анализа материала.
Глава 1 Риторика и авангардизм: в поисках новых метаязыков вводит представление о риторике ХХ века как единстве дескриптивного (область научных практик) и прескриптивного (область литературных практик) модусов, пересекающихся в трактовке «поэтического» как «отклонения»; дается системное описание теории метафоры / метонимии Р. Якобсона как образца «риторики моделей» и устанавливается ее аналитический потенциал.
В параграфе 1.1. Поэтическая риторика и ее концептуальное поле описываются пути (ре)актуализации в ХХ веке традиций поэтической риторики и исследуются трансформации риторического метаязыка. Как показывается в п. 1.1.1. Риторика как теория отклонения, происходящее в ХХ веке возвращение поэтической риторики в актуальное поле гуманитарной науки сопровождается формированием у нее новых возможностей, нового функционального ореола. Наметившееся еще в период античности сближение с поэтикой позволяет риторике встраиваться в качестве «импликатуры» в различные языки филологического описания; в частности, она становится основой одного из общих мест филологии ХХ в. — дихотомии практический язык / поэтический язык. Новая поэтическая риторика абсолютизирует оппозицию норма — отклонение при интерпретации фигуративной речи. Представление о компетенциях риторического обнаруживает исключительную плодотворность для построения формалистской и структуралистской теории литературы как «теории отклонений» — таковы концепции «остранения» В.Б. Шкловского, «единства и тесноты стихового ряда» Ю.Н. Тынянова, «сказа» Б.М. Эйхенбаума, взгляд на искусство как «вторичную моделирующую систему» (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.); прочтение «риторического» как «отклонения» в равной мере характерно для исканий европейского структурализма (Ж. Коэн, Ц. Тодоров, Группа и др.). В п. 1.1.2. «Сокращенная риторика»: риторический редукционизм и его перспективы показывается, что ХХ век завершает исторический процесс «сокращения риторики» (Ж. Женетт), который находит отражение в стремлении риторики к редукции классических таксономий, к построению вложенных оппозиций, позволяющих в перспективе прийти к обоснованию риторических моделей-инвариантов. Это приводит к наделению оппозиции метафора / метонимия чертами универсализма, а в предельном варианте — к «метафороцентризму» филологического знания середины — второй половины ХХ века (П. Рикер, Дж.Р. Серль и др.), преодолеть который в известном смысле пытается льежская Группа , смещающая акценты с таксономий на риторические операции и создающая «порождающую риторику». Вместе с тем поэтическая риторика, сократив до минимума собственный категориальный аппарат, максимально расширяет функциональное поле, постепенно трансформируясь в «риторику моделей».
Параграф 1.2. Метафора и метонимия в концепции Р. Якобсона: троп — фигура — модель посвящен реконструкции риторического проекта Р. Якобсона в связи с эволюцией научного метода исследователя; утверждается представление о последовательном движении Якобсона в сторону метариторики с ее пониманием метафоры и метонимии как моделирующих категорий.
1.2.1. Метафора / метонимия и новые контексты риторического. В беседах с К. Поморской Якобсон сообщал о своей еще юношеской убежденности в «необходимости пересмотра… обветшалого арсенала <классической риторики. — Т.Ц.> для его преобразования в орудие научных операций». Осуществленная Якобсоном ревизия риторики состоит не только в новой (по сравнению с «обветшалыми» классическими таксономиями) концептуализации понятий метафора и метонимия, но и в попытке динамизировать эти категории, вскрыть их терминологическую подвижность и показать новые возможности риторического метаязыка. Причем риторическая терминология у Якобсона лишена строгих спецификаций и представляет собой скорее «пучок смыслов», требующий реконструирующего «глубинного чтения». Уже начиная с ранних наблюдений о языке В. Хлебникова метафора и метонимия утрачивают для Якобсона привычную терминологическую закрепленность, выходят за пределы тропеического, а впоследствии в своей паре становятся одной из универсалий научного метода исследователя. В поле метафоры / метонимии иные тропы и фигуры лишаются индивидуального риторического значения и оказываются не более чем вариантами «сходства» и «смежности» в речи.
В своей ревизии риторического инструментария Якобсон проходит путь от формализма к структурализму. В ранних статьях («Новейшая русская поэзия», «О художественном реализме») в поле риторического «отклонения» асимметрично втянуты лишь отношения «сходства», а «смежность» — это та «нулевая степень», которая подлежит деформации в поэтическом языке; впоследствии (начиная уже с «Заметок о прозе поэта Пастернака») «сходство» и «смежность» складываются для исследователя в базовую риторическую оппозицию и рассматриваются как полярные проявления «отклонения». Метафора / метонимия проецируется Якобсоном в разные семиотические ряды и становится языком описания явлений, далеко выходящих за границы риторического в его привычном понимании, — типов художественной речи (стих / проза), идиостилей и художественных картин мира (Маяковский / Пастернак), литературных нарративов, киноязыка, речевых расстройств и т.п., — а также кладется в основу формулировки понятия «поэтической функции языка».
1.2.2. От риторики к метариторике. Понятие риторической модели. Расшатывание границ метафоры и метонимии, установление их функциональной многоплановости, свойственное научному творчеству Якобсона в целом, приобретает характер законченной системы в статьях 1950—70-х гг. Новое использование риторического аппарата оказывается продуктивным при перенесении метафоры и метонимии из литературного дискурса в патодискурс, когда Якобсон анализирует афатические речевые расстройства. Работы т.н. «афатического цикла» имеют результирующее значение для риторического проекта Якобсона — они подводят своеобразный интеллектуальный итог многолетним штудиям автора в сфере расширительного изучения метафоры и метонимии.
В исследовании патодискурсов Якобсон подходит к пониманию метафоры и метонимии как риторических моделей. Метафора и метонимия как «два типа афатических нарушений» и одновременно «два полюса языка», по мысли Якобсона, имеют системный характер: взятые в своих концептных значениях, как проявления «сходства» (= селекции) и «смежности» (= комбинации), они позволяют описывать семиотическую сущность «отклонения» в аспектах семиозиса, текстогенеза и коммуникации. Суммарно предложенную Якобсоном концепцию метафоры / метонимии можно представить в виде следующей схемы:
В таком понимании метафора и метонимия, своего рода «переменные», используются Якобсоном одновременно и в поле риторического — как (а) тропы или (б) фигуры, — и за пределами риторики в классическом понимании, т.е. как (в) модели поэтики, (г) модели дискурса, (д) модели мира и пр., что свидетельствует о переходе Якобсона на позиции метариторики. С учетом многоплановости и подвижности представлений Якобсона о метафоре и метонимии можно утверждать, что исследователь приближается к пониманию этих категорий как риторических моделей.
Различные в конкретных воплощениях, риторические построения у Якобсона сходятся в своем механизме: они представляют собой надстраивание над тропами новых категориальных значений при сохранении базовых свойств метафоры и метонимии — «сходство» и «смежность». Такая эвристика типологически совпадает с семиотическим феноменом моделирования: модель стремится к «отношению между моделируемыми объектами и образами, при котором все элементы и объекты, имеющиеся <…> в моделируемом объекте, имеются и в образе (модели), но обратное может не иметь места» (Вяч.Вс. Иванов). Исходя из этого в работе формулируется следующее рабочее определение риторической модели: риторическая модель — системное образование, имеющее вторичный по отношению к тропу (метафоре / метонимии) характер, надстраивающееся над тропом и позволяющее проследить его категориальное риторическое свойство («сходство» / «смежность») на разных уровнях художественного текста как семиотического феномена.
В параграфе 1.3. Риторическая позиция русского авангардизма доказывается, что интенсивность процессов риторических преобразований в ХХ веке в предельной форме прослеживается в авангардизме с его апологией ошибки. Если вслед за Ю.М. Лотманом рассматривать структуру литературного процесса как смену эпох «риторизма» и «антириторизма», следует признать, что риторическая позиция авангардизма не поддается адекватному описанию через предложенную исследователем бинарную модель риторизм / антириторизм. В известном смысле авангардизм осмысляет себя в иных риторических координатах — он противопоставлен и риторизму, и антириторизму одновременно.
1.3.1. Риторика первого уровня: символизм / акмеизм. Риторический канон авангардизма возникает на отталкивании от символизма и акмеизма — явлений, стадиально образующих пару риторизм / антириторизм. Если символизм абсолютизирует тропеичность поэтического языка и рассматривает метафору как предел риторического (А. Белый: «…создание словесной метафоры (символа, т.е. соединения двух предметов в одном) есть цель творческого процесса»), то позиция акмеизма — «стремление к простоте разговорной речи, к словам повседневным и обычно далеким от замкнутого круга лирической поэзии» (В.М. Жирмунский) — строится на отрицании разрыва между res и verba и на снятии дистанции между поэтическим и практическим языками. Символизм, возводя метафору в ранг «тропа тропов», обосновывал такой разрыв через эстетику «соответствия»/«подобия» — акмеизм же стремится к эстетике «тождества», в которой «А=А [есть] прекрасная поэтическая тема» (О. Мандельштам)
1.3.2. Риторика второго уровня: авангардизм. Риторическая позиция авангардизма (особенно раннего) в своем пафосе отрицания, на первый взгляд, близка акмеистскому антириторизму: и авангардизм, и акмеизм через отказ от орнаментальности, «украшенной речи» стремятся к преодолению устоявшихся литературных представлений о «поэтическом», и в первую очередь к снятию базовой дихотомии практический язык / поэтический язык. Однако отрицание риторических правил как стремление к упрощению оборачивается в авангардизме не «прекрасной ясностью» и освобождением дискурса от тропеических сложностей, а, напротив, затрудненным «письмом-чтением» (А. Крученых, В. Хлебников: «Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной…»). В отличие от акмеизма, авангардизм, сводя актуальную «поэтичность» к нулю, не уподобляет «поэтическую» речь «практической», а, напротив, максимально дистанцирует их — в соответствии с формалистским пониманием «поэтического» как «остранения». В этом смысле риторика авангардизма — это система второго уровня, вторичных риторических правил.
В авангардистской деформативной риторике перевод «упрощенного»/антириторического в «усложненное»/риторическое канонизирован в ошибке, в намеренном поэтическом искажении устойчивых литературных конвенций и норм. Ошибка создает остраняющий эффект и заставляет видеть в самом акте деформации поэтического языка возврат из антириторической в риторическую плоскость (И. Терентьев: «Когда нет ошибки, ничего нет»). Вторичный риторизм авангардизма позволяет рассматривать ошибку не как «отступление от правил», а как «правило отступления от правил», возводить ошибку в максимум «поэтического» (А. Крученых: «…указать на самый способ неправильности, показать ее необходимость и важность для искусства»). При этом авангардизм не просто легализует ошибку, но и вырабатывает своего рода свод правил, создает «грамматику ошибки» (таков, напр., перечень допустимых «неправильностей в построении речи» в «Новых путях слова» А. Крученых).
Такое представление о риторическом статусе ошибки находит теоретическое обоснование в теории сдвига А. Крученых. Сдвиг, риторически канонизированная ошибка, «оживляет конструкцию стиха, динамизирует слова» (Крученых) и тем самым усиливает дистанцию между поэтическим и практическим языком. Эта категория не только помещается поэтом-авангардистом в сетку риторических фигур, но и фактически рассматривается как сверх-троп, вбирающий в себя любые проявления фигуративного. В «Сдвигологии русского стиха» Крученых, приписывая сдвигу статус «тропа тропов», полностью отказывается от привычных таксономий классической риторики в пользу псевдоклассификаций, в своих построениях полностью отвечающих духу риторики деформативной.
В Главе 2 Риторика знака развивается положение о том, что риторическое моделирование авангардистского семиозиса позволяет выявить присущий ему «асимметричный дуализм» отношений между знаком и обозначаемым объектом; утверждается, что для описания авангардистского семиозиса sub specie rhetoricae особую важность имеет изучение риторических отклонений, динамизирующих связи между «знаковыми ансамблями» и их референтной средой. Бинарность риторического проекта авангардизма в его микроэволюции характеризуется в работе как переход от метонимической модели семиозиса к модели метафорической. Целостный взгляд на авангардистскую художественную систему демонстрирует, что при метонимическом семиозисе усиление полюса знака ведет к умножению количества знаковых сущностей, «по смежности» отсылающих к одной области референтов (R (S1 / S2 / S3 / S4…Sn)); метафорический семиозис, напротив, связан с инфляцией знаковости и умножением обозначаемых объектов «по сходству» (S (R1 / R2 / R3 / R4…Rn)).
В параграфе 2.1. Общие замечания описываются две традиции изучения референции в художественном дискурсе — прагмасемантическая (Г. Фреге, Л. Линский, Дж.Р. Серль, С.Т. Золян и др.), видящая объектом референции поэтического знака «авторский мир» и фактически исключающая из поля анализа язык, и эстетико-функциональная (Р. Якобсон, Я. Славиньский, Е. Фарыно, Ю.М. Лотман и др.), напротив, рассматривающая поэтическую референцию прежде всего через связь знака с областью «языковых» объектов. Утверждается, что преодолеть конфликтность названных взглядов для решения вопроса о риторических отклонениях в семиозисе возможно, если в развитие ряда предварительно намеченных Р. Якобсоном тезисов рассматривать поэтический знак как биреференциальный феномен — как одновременно отсылающий и ко внеположенному себе «предметному» миру, и к естественному языку, сфере, где референты поэтического знака не внеположены, а имманентны ему и выводятся из «языкового» мира.
В параграфе 2.2. Метонимия: умножение знаков развивается положение о том, что в раннеавангардистской риторике метонимический сдвиг порождает дискурс как многомерный семиотический континуум, где обозначаемый объект уже не довольствуется одним знаком и в каждом новом контексте стремится обновлять свои «знаковые ансамбли» — ср. регулярную у В. Маяковского тематизацию поиска «вещью» нового знака через топос переодевания: «Каждое чувство, каждый предмет вырастает вон из одежды слова. Одежда треплется. Надо менять» («Война и язык», 1914); «И вдруг / все вещи / кинулись, / раздирая голос, / скидывать лохмотья изношенных имен» («Владимир Маяковский», 1913).
2.2.1. «Слово шире смысла»: раннеавангардистская апология знака. Обоснование новой концепции семиозиса в авангардизме хронологически совпадает с возникновением русского футуризма — оно предложено А. Крученых в «Декларации слова, как такового» (1913): «Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена». Подобный «адамистский» взгляд на поэтическую (ре)номинацию внешне сближает ранний авангардизм с эстетико-теоретической концепцией акмеизма; вместе с тем (ре)номинационные установки акмеизма и авангардизма существенно разнятся. Если риторика акмеизма динамизирует связи между знаком и референтом строго в пределах одного кода (акмеизм тиражирует знаковые объекты, двигаясь «вдоль» литературного ряда и интертекстуализируя литературные конвенции, ср. тезис О. Мандельштама: «Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков»), то авангардистский проект (ре)номинации предметной среды нарушает сами условия кодирования — он осложняет семиозис привлечением смежных кодов.
2.2.2. Риторические операции в области кода. В раннем авангардизме метонимический семиозис накладывает на дискурс множественный код, создает подвижность «семиотического фокуса» как результат свободного переключения между субкодами (вербальным / визуальным / аудиальным, текстуальным / метатекстуальным и т.п.). В этом случае умножение знаков «по смежности» есть результат действия таких риторических операторов, как добавление и перестановка.
2.2.2.1. Оператор добавление предусматривает невозможность приложения к тексту только одного кода: семантическое пространство дискурса строится как пересечение взаимодополняющих субкодов, между которыми устанавливается семиотическое равноправие. Онтология текста подразумевает такое пересечение субкодов, при котором множество кодирующих/декодирующих правил должно быть воспринято как связанное, конъюнктивное, — текст существует только в пределах логики кода «К1 и К2 и К3 … и Кn», а любая дизъюнктивная попытка его прочтения («К1 или К2 или К3 … или Кn») приводит к семантическому разрушению.
В поэтических экспериментах И. Игнатьева, В. Каменского, А. Чичерина смена «семиотического фокуса» позволяет дискурсу существовать в двух знаковых системах — визуальной («взирание») и вербальной («чтение»). Это условие существенно даже для тех случаев, когда в авторской интенции содержится прямое отрицание одного из субкодов в пользу другого (ср., напр., автокомментарий И. Игнатьева к визуализированному стихотворению «Opus: —45»: «P.S. Opus: —45 написан исключительно для взирания, слушать и говорить его нельзя», — таким отрицанием поэту необходимо показать, что подразумеваемое «слушание / говорение» есть не более чем один из субкодов наряду с актуализированным «взиранием»). В авангардистском проекте зауми субкоды (заумный и «разумный»/«бытовой» языки), пересекаясь в пределах одного дискурса, не отменяют друг друга и не подчиняются один другому, но задают sui generis ситуацию билингвизма: они формируют семантическое пространство текста, которое не может быть воспринято с позиций только одного из субкодов, — таковы поэтические опыты А. Крученых, Е. Гуро, И. Терентьева, А. Туфанова, лингвистический проект В. Хлебникова. Наконец, при совмещении в пределах одного дискурса текстуального и метатекстуального субкодов (трактаты И. Терентьева, А. Крученых, А. Туфанова, ряд поэтических текстов В. Хлебникова и Д. Бурлюка) возникающая между ними интерференция позволяет авангардизму снять саму оппозицию «текст — метатекст» («искусство — наука»). Оригинальный пример подобной «текстуально-метатекстуальной» игры — «поэтические уравнения» Д. Бурлюка (типа: «Поезд = стрела / а город = лук / (час отбытия = упрочен) / Каждый жертвенник порочен / Фонарь = игла / а сердце = пук» и т.п.), где символ «=», напоминая о соответствующих математических моделях, формирует конвенцию чтения, под действием которой левая часть высказывания воспринимается как образ, а правая — как его метатекстуальная интерпретация. Однако такая логика чтения взрывается изнутри средствами поэтической грамматики: на фоне инерции отождествления «номинатив = номинатив» знак «=» соотносит грамматически неравнозначные компоненты, разбивая высказывания в позиции сильной синтаксической связи; это ставит читателя перед необходимостью видеть в подобных конструкциях одновременно и автокомментарий, и умножение образных рядов.
2.2.2.2. Оператор перестановка создает подвижность «семиотического фокуса» за счет растождествления субкодов как вариантов одного кода. Метонимический семиозис, основанный на этом операторе, охватывает широкий круг явлений (поэтики «текстословия» В. Гнедова, «композитов» И. Северянина и В. Каменского, «двухэтажной строки» И. Зданевича и К. Чернявского, теорию «сдвига» А. Крученых), типологической чертой которых становится дискурсивное наложение знаков. Так, особая графическая игра позволяет К. Чернявскому («Дюжина бочек…») создать эффект нелинейного поэтического сюжета, где уже первая строка задает как минимум три сюжетных зачина: вводится место действия (дюЖИна бОЧек у СТАВни), время действия (уЖИн карОЧе СТАВни) и субъект действия (дюЖИй рабОЧий уСТАВ от), — компоненты которых могут свободно переставляться (дюЖИй рабОЧий у СТАВни; уЖИн. рабОЧий уСТАВ от и т.д.), создавая все новые сюжетные ситуации. Такая игра вступает в противоречие с принципами уровневой организации знаковой системы, где «языковая единица является таковой, только если ее можно идентифицировать в составе единицы более высокого уровня» (Э. Бенвенист): знаковое пространство дискурса разрешает прочитывать один и тот же знак (точнее, то, что кажется одним знаком) по-разному; образующиеся в результате такого чтения-перестановки знаковые конфигурации ставят под сомнение единичность знака, а вместе с тем — и его идентичность самому себе. Это свидетельствует о предпосылках кризиса метонимического семиозиса уже на ранней стадии авангардистской системы.
В параграфе 2.3. Метафора: инфляция знаков доказывается, что метафорическому восприятию мира в позднем авангардизме свойственно стремление продемонстрировать «растяжимость» знака, снижение его способности к означиванию предметной среды, а как следствие — использовать один знак для именования множества референтов.
2.3.1. «Мне страшно что я неизвестность…»: кризис семиотического в позднем авангардизме. В позднеавангардистской риторике метонимический семиозис сменяется семиозисом метафорическим, пересекаясь с ним на уровне отдельных «следов». Так, вполне по-раннеавангардистски метонимический «поиск знака» становится нарративной стратегией в миниатюре Д. Хармса «Хотите, я расскажу вам рассказ про эту крюкицу…», где единственное текстовое событие сводится к попытке установить связь между «ускользающим» знаком и неким референтом «птица», «рассказ» о котором невозможен из-за обнаруживающейся риторической асимметрии знака и референта («Хотите, я расскажу вам рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкицу, а кирюкицу. Или нет, не кирюкицу, а курякицу. <…> Забыл я, как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикукукрекицу»). Однако, в отличие от раннеавангардистских риторических стратегий, у Хармса вхождение каждого нового знака в семиотическое пространство нарратива не дополняет предшествующий знаковый ряд, а, напротив, отрицает его целиком — дискурс строится на тиражирующемся самоотрицании знака (ср. использование в тексте негационной логико-синтаксической модели «не А, а В»), а умножение знака оборачивается инфляцией семиотического.
У обэриутов слово «больше не может быть означающим», поскольку они «делают свою поэзию по меркам того мира, который не нуждается в имени» (В.А. Подорога). Одна из черт позднеавангардистского семиозиса — это неспособность (невозможность?) фиксировать персонаж посредством имени, что регулярно приводит к возникновению абсурдистских тиражирующих «ономастиконов»: Елизавета Ивановна / Елизавета Таракановна / Елизавета Михайловна / Елизавета Эдуардовна Бам у Хармса («Елизавета Бам»), Варвара / Варвила / Варфира / Варбара / Варгара / Варныра / Вархара / Гардьера / Унера и т.д. у И. Бахтерева («Варвара из Трамвая») и мн. др. Знак-имя у обэриутов сохраняет минимальную мотивированность лишь в самых редких случаях. К примеру, микроконтекстуальной мотивацией имени оперирует Бахтерев — она имеет либо фонетические («пусть мне и Варбаре / изогнутой паре / желалось друг друга в трамбаях катать»), либо паронимически-аттрактивные («Варпела-Варбела! / забыла про всех / <…> / про общее дело / <…> / присядку пропела»), либо лексико-семантические («зная пристрастие Варныры к воде…») основания.
Метафорическая стратегия поиска знаком множества своих референтов может реализоваться в текстах обэриутов через совмещение «альтернативных» миров в позиции «я» субъекта речи. Так, в стихотворении А. Введенского «Мне жалко что я не зверь…», своеобразном «перечне» потенциальных обозначаемых «я» («Мне жалко что я не зверь <…> Мне жалко что я не звезда <…> Мне жалко что я не крыша <…> Мне не нравится что я не жалость <…> Мне страшно что я неизвестность…»), каждое новое высказывание вводит новый образ «я» субъекта, данный как неосуществленный замысел стать «другим», а в семиотическом плане — как несостоявшийся акт референции «я» к «альтернативным» мирам. Разрыв связей между знаком и референтом, при котором знак вынужден привлекать для себя множество обозначаемых, у обэриутов нередко подвергается тематизации: напр., в стихотворении Н. Олейникова «Перемена фамилии» дейктический парадокс — игра местоимениями я / себя / свой / мой («Тогда я ощупал себя, свои руки, / Я зубы свои сосчитал <…> И сам я себя не узнал. <…> И мне же моя же нога угрожала» и др.) — заставляет героя пережить собственную множественность, расслоение себя как обозначаемого на «прежнего» Козлова Александра и «нового» Орлова Никандра, в результате чего знак «я» утрачивает обязательную для личного местоимения уникальность референта в речевом акте.
2.3.2. Нарратив в ситуации «дефицита речи». Одно из наиболее сильных и регулярных проявлений позднеавангардистской метафорической риторики — нарративная ситуация, когда дискурс, испытывая дефицит плана выражения, устанавливает знаковое тождество персонажей вплоть до их неразличения и слияния в пределах одного нарратива; в итоге количество референтов, означенных одним знаком, становится релятивным и по-разному конкретизируется в зависимости от той или иной текстовой ситуации.
Данное положение развивается в работе на основе анализа текста А. Введенского «Некоторое количество разговоров (или начисто переделанный темник)». В Разговоре 8 «Разговор купцов с баньщиком» использование при обозначении персонажей количественного числительного «два» со значением дискретности вм. грамматически возможного (и даже предпочтительного в данном контексте) собирательного «двое» со значением недискретности задает ситуацию различимости купцов. Однако если разрядом числительного утверждается дискретность персонажей, то их диалоговые реплики нивелируют различия: «Два купца. Гляди, гляди как я изменился. Два купца. Да, да. Я совершенно неузнаваем». Знак «я» в репликах купцов остается знаком с «референтами-переменными», он дублирует содержание реплики и свободно передается от «первого» купца «второму» — именно поэтому, согласно метафорической логике дискурса, персонажи Введенского в равной степени и «я», и единое, целостное, недискретное «мы»: «Мы хотим купаться…», «Мы думали…» и т.п. Кроме того, использование Введенским семиотики зеркальности создает условия для того, чтобы референтная неоднозначность затронула такой индекс персонажей, как пол (глядя на обнаженную Ольгу, купцы видят в женском отражение мужского: «Мы думали что ты зеркало. Мы ошиблись»). Зеркало приобретает здесь функцию «волшебного зеркала»: оно «изменяет дейктические координаты» (С.Т. Золян) и создает ситуацию дейктического обмана — два купца воспринимают Ольгу как отражение себя, что обеспечивает релятивность персонажного счета (3 (купец + купец + Ольга) = 2 (купец + купец = Ольга) = 1 (купец = купец = Ольга)) и свидетельствует о том, что «я-дейксис» не только свободно переходит от персонажа к персонажу в обмене репликами, но и является для них общим знаком референтного множества. Сходной задачи Введенский добивается, накладывая игру с дейксисом на риторически измененную коммуникативную организацию дискурса (Разговор 10 «Последний разговор»): реплики персонажей («Первого», «Второго» и «Третьего») в своей совокупности образуют единую коммуникативную цепь, где рема предыдущего высказывания дублируется в теме последующего, а трехчленный персонажный я-фокус есть не более чем фикция.
В Главе 3 Риторика дискурса sub specie предложенных Р. Якобсоном наблюдений о риторических отклонениях на «оси селекции» и «оси комбинации» устанавливаются закономерности коммуникации и текстогенеза в авангардистских подсистемах; выявляются и описываются зоны интерференции метонимической и метафорической моделей. Русский авангардизм, как и другие «риторические эпохи», сдвигает отношения во внутреннем мире дискурса, обрекая его на асимметрию синтагматических и парадигматических отношений. Ориентированная на «смежности» метонимическая риторика и на «сходства» — риторика метафорическая строят свой эксперимент, выдвигая на первый план соответственно внутритекстовые связи знаков «по горизонтали» или «по вертикали» и включая дискурс в новые коммуникативные конвенции.
В параграфе 3.1. Общие замечания утверждается, что на фоне соссюровской традиции Р. Якобсон выступил основоположником альтернативного представления о категориях синтагматического и парадигматического в художественном дискурсе — рассмотрения синтагматики и парадигматики как отношений in praesentia, как двух взаимообусловленных механизмов построения дискурса (ср. развитие идей Якобсона в работах Ю.М. Лотмана, Б.М. Гаспарова и др.). Формулируется посылка дальнейшего исследования: риторически маркированный дискурс может создаваться как (а) игра на поле синтагматики, т.е. со «смежностями» — линейностью, последовательностью, комбинаторикой дискурсивных знаков — и (б) игра на поле парадигматики, т.е. со «сходствами» — повторяемостью, эквивалентностью, подобием, идентичностью дискурсивных знаков; это находит отражение в двух разнонаправленных процессах — вторичной синтагматизации и вторичной парадигматизации, которые характерны соответственно для метонимической и метафорической моделей авангардизма.
В параграфе 3.2. Метонимия: синтагматический дискурс обосновывается логика системных метонимических преобразований в раннеавангардистском дискурсе; рассматриваются коммуникативные установки раннего авангардизма и их влияние на дискурсивную гипертрофию связей «по смежности».
3.2.1. «Прочитав, разорви!..»: коммуникативные компетенции адресата. В метонимической риторике раннего авангардизма под сомнение ставится возможность адресата декодировать сообщения. Художественные дискурсы, организованные «по смежности», изменяют «грамматику адресата», стремясь как к идеалу к максимально сложному, «затрудненному» чтению и принуждая читателя совершить восхождение к автору. Коммуникативная стратегия футуризма и постфутуризма имеет сильный апеллятивный характер и содержит послание «Пойми меня!»: адресат принуждается к тому, чтобы совершить «чтение-действие», входящее в полный резонанс с новой поэтической конвенцией, которая декларируется автором (ср. заключительный пассаж манифеста А. Крученых и В. Хлебникова «Слово как таковое»: «Речетворцы должны писать на своих книгах: прочитав, разорви!»). Авангардистское стремление видеть в читателе креативного коммуниканта, со-автора, со-деятеля ведет к тому, что закономерным ответом на послание «Пойми меня!» становится реплика «Я тоже так могу!»; производная такой установки — характерные для филологических штудий первой половины 1920-х гг. (Г. Винокур, Б. Арватов) попытки проследить регулярность зауми в практической речи, тем самым увидев в любом говорящем автора-авангардиста.
Привлекая читателя к процессу со-творчества, предлагая ему новые условия декодирования дискурса, ранний авангардизм создает особую концепцию книги. При том что здесь художественные тексты сопровождаются метатекстуальными комментариями, «прием» почти никогда не дается читателю в готовом виде — реципиент вынужденно включается в процесс поиска ключа, «отгадки», т.е. в (ре)конструирование приема, дешифруя авторскую логику. По словам И. Терентьева («17 ерундовых орудий»), «это не ключ к пониманию поэзии: это отмычка, потому что всякая красота есть красота со взломом». «Ключ» и «отмычка» используются Терентьевым как метафоры декодирования: «ключ» — это процесс декодирования художественного дискурса, основанный на имеющихся у читателя конвенциях; «отмычка», соответственно, — это знак невозможности войти в «закрытый» дискурс и вместе с тем знак поиска, подбора новых кодов-«ключей». Этот тезис обосновывается в работе на примере анализа одного из фрагментов «Орудий…», где в образных рядах Терентьевым шифруется полемика формалистов с Потебней о сущности поэтического языка.
3.2.2. Транс(де)формация: вторичная синтагматизация и «тело» текста. Метонимическая риторика авангардизма реализует проект по вторичной синтагматизации дискурса: «слово как таковое» открывает в себе неограниченные возможности вступать в новые комбинаторные отношения, а дискурс получает способность формировать новые связи; звуко-буквенная рядность, создающая «тело» текста, его материальный облик, транс(де)формируется в дискурсе на основе принудительных связей «по смежности».
3.2.2.1. Пробел как знак «смежности». В перечне транс(де)формативных приемов раннеавангардистского поэтического языка особый статус приобретает такое средство визуализации стиха, как пробел. Предельным выражением «поэтики пробела», несомненно, стала 15-я «Поэма Конца» из гнедовского цикла «Смерть искусству. пятнадцать (15) поэм», в типографском варианте представляющая собой чистый лист. В менее радикальных экспериментах пустое белое поле страницы вступает в активное взаимодействие со звуко-буквенной фактурой футуристского текста, и «незаполненность», «вакуумность» участвует в создании его «тела». Когда пробел смещается из конца строки в ее середину, втягивается в звуко-буквенный ряд, видимая вертикаль графики стихотворной речи вступает в конфликт с силой горизонтальный связей: закон «единства и тесноты стихового ряда» (Ю.Н. Тынянов) приостанавливает парадигматические связи в пользу синтагматических связей «по смежности». У С. Третьякова («Веер»), А. Крученых («Лакированное трико»), Д. Бурлюка («О зацвети…»), В. Гнедова («А ла тырь…») пробел получает новое значение — он уже не знак разъединения строк, а напротив, знак соединения элементов в строку.
3.2.2.2. «Начало» и «конец» в метонимическом дискурсе. Метонимическая и метафорическая риторики заставляют авангардизм по-разному решать проблему текстогенеза, принуждают к неодинаковой концептуализации начала и конца текста, разрушают равновесие между ними. В метонимическом дискурсе раннего авангардизма сохранение сильных связей «по смежности» позволяет тексту двигаться к концу: конец — обязательное условие его существования, даже если он лишен привычной текстуальной материи (такова семиотизация вербальной пустоты в «Поэме Конца» В. Гнедова). На фоне этого начало утрачивает свою семиотическую значимость: использование авангардистами особой визуализации текстового пространства (например, в «железобетонных поэмах» Каменского, когда заглавие втягивается в контекст, а его идентификация как маркера начала в высшей степени произвольна) и экспериментальный «подхватывающий» синтаксис (постановка в открывающую текстовую позицию союзной конструкции, иногда с предшествующим отточием, которая создает эффект не «начинающегося», а «продолжающего» дискурса) лишают реципиента возможности однозначного выбора «точки чтения», того, что следует рассматривать как начало текста.
3.2.3. Грамматический эксперимент и кризис линейного письма. Призыв В. Шершеневича «Ломать грамматику» («22=5») вскрывает парадоксальную сущность метонимической риторики. Когда дискурс балансирует между грамматической правильностью и отклонением от нее, это динамизирует контекстуальные связи; если же грамматическая девиация столь сильна, что делает невозможным ее однозначное «исправление», то контекстуальные связи рушатся и линейность дискурса осознается как кризис.
3.2.3.1. Грамматическая компрессия контекста. Сила контекстного притяжения знаков ощущается авангардистами как грамматическая избыточность служебных слов, прежде всего предлогов. Использованием этой простейшей стратегии аграмматизма, состоящей в исключении из контекста отдельных предлогов, отмечены уже первые поэтические опыты авангардистов — например, «беспредложная поэтика» Д. Бурлюка. Как показывается в работе, Бурлюк регулярно исключает из контекстно-грамматических связей предлог «в» («Родился [] доме день туманный» («Ор. 4»); «Упало солнце [] кровь заката / <…> / Лишь туча саваном седым / Повиснет [] небесах над ним» («Ор. 5») и мн. др.), однако в таких контекстах пространственная семантика и грамматическая однозначность настолько прозрачна, что «потерянный» предлог легко восстанавливается. В то же время у В. Шершеневича («Лечь — улицы. Сесть — палисадник. Вскочить — небоскребы до звезд», «Принцип поэтической грамматики») исключение предлогов с пространственной семантикой, допустимых в данном контексте («на улицы», «в палисадник», «на небоскребы»), и замена их тире — иконическим знаком графической протяженности дискурса — ведет к возникновению множественных толкований: семантика текста зависит от того, восстанавливает или не восстанавливает реципиент соответствующие позиции предлогов.
3.2.3.2. Словотворчество: грамматика vs. морфемика. Вопрос о грамматике дискурса приобретает особое звучание в связи с раннеавангардистскими словотворческими опытами. Словотворчество проецирует принцип «смежности» с текста на слово, заставляет измерять слово теми же критериями, что и текст (ср. реализацию такого подхода к слову/тексту в моностихах В. Каменского «Золоторозсыпьювиночь» и «Рекачкачайка»). В работе доказывается, что, с одной стороны, метонимическая установка принуждает неологизм вступать в «тесные» грамматико-синтаксические отношения (тексты В. Гнедова и В. Хлебникова); с другой — словотворческая игра способна разрушать контекстуальные связи «по смежности» и создавать дискурс «по сходству», превращая его в открытую морфемную серию (стихотворения «Ю» и «Четыре времени» В. Каменского). Словотворчество демонстрирует, как авангардизм уже на самых ранних стадиях испытывает кризис линейного письма.
В параграфе 3.3. Метафора: парадигматический дискурс анализируется феномен «замороженной селекции» (М. Ямпольский) в текстах обэриутов как отражение коммуникативной установки на ослабление дискурсивных компетенций автора.
3.3.1. «…не будем больше говорить»: коммуникативные компетенции адресанта. Сильная апеллятивность, свойственная раннему авангардизму, в позднем авангардизме оборачивается прямо противоположной коммуникативной стратегией — отказом от контакта с читателем, при котором невозможность диалога с реципиентом оставляет дискурсу лишь одно —трансформировать коммуникацию в автокоммуникацию. В метафорической риторике формируется устойчивый мотивный комплекс «коммуникация как смерть/насилие». У обэриутов смерть персонажа-коммуниканта иконизирует невозможность дальнейшего письма, становится знком исчерпанности дискурса. Коммуникация в этом случае воспринимается как «репрессивный» акт: слово в его особой орудийной функции есть средство уничтожения коммуниканта (таковы отождествление «verba» и «res» — реплик персонажей и наносимых ими друг другу ударов, причинения увечий и т.п. — в текстах Д. Хармса или мотив «безголовости» — обезглавливания персонажа как прекращения коммуникативного акта — у А. Введенского).
Разрушая коммуникативность как таковую, риторический проект позднего авангардизма смещает акценты с адресата на адресанта и декларирует дискурсивную «инфляцию автора», его неспособность к построению связных контекстов, а в предельном случае — демонстративный отказ от письма, ср.: «Сегодня я ничего не писал. Это неважно» (Д. Хармс, «Голубая тетрадь. № 16»), «Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу» (Д. Хармс, «О Пушкине»); «Писать ничего не пишу, чего и Вам желая», «Стихов я не пишу, чего и Вам желаю» (из писем А. Введенского Д. Хармсу).
3.3.2. «Линия метафоры» и серийность дискурса. В основе обэриутского нарративного эксперимента лежит новая конвенция: не смена событий, но их дублирование; не динамика нарратива, но его серийность. Сюжет, явление синтагматическое par excellence, предстает в теоретико-философских рефлексиях обэриутов как категория нелинейная, обнаруживающая внутреннюю парадигматику; структурным минимумом такой парадигмы будут, к примеру, два взаимоотрицающих события, как об этом говорил Л. Липавский: «Сюжет — несерьезная вещь. <…> Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой, вроде — я вышел из дому и вернулся домой».
Обэриуты создают нарративы, в которых различение сюжетных знаков затруднено, а события оказываются вариантами одного инварианта. Показательный пример превращения нарратива в «серию» — хармсовская миниатюра «Случаи» («Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой…»). Введение новых сюжетных функций, вполне традиционно для Хармса, в данном тексте постоянно обнуляется, а видимое множество событий сводится к инварианту «умереть»: исходная функция, которой наделяется первый вводимый в текст персонаж Орлов («умер»), и финальная функция, приписываемая Перехрёстову («вытолкали со службы»), с точки зрения сюжета уравниваются. Использование глагола «умереть» в предложениях 1—4 задает своеобразную матрицу: сюжетная функция каждого героя, независимо от ее конкретной лексикализации в тексте («умер», «тоже умер», «умер сам собой», «упала с буфета и тоже умерла»), воспринимается только как «смерть»; подчиняясь этой инерции, сема 'умереть' воспринимается как включенная в сюжетные функции «спиться и пойти по дорогам», «перестать причесываться и заболеть паршой», «нарисовать даму с кнутом в руках и сойти с ума», «быть вытолканным со службы». Такая инфляция события замыкает сюжетное пространство на ноль, ускользающий нарратив «топчется на месте» и существует лишь de visu. При этом нарушение серийности, «выпадение» из парадигмы, переход к новым — линейно-хронологическим — связям есть одна из наиболее устойчивых и узнаваемых «фобий» позднего авангардизма.
Метафорическая риторика, препятствующая контекстуальности, ставит дискурс перед необходимостью использовать начало как единственную моделирующую категорию. Автор у обэриутов способен начать текст, но лишен возможности его завершить; он вынужден создавать сюжет, нанизывая начала разных историй, ни одна из которых не развертывается в полноценный нарратив («Пять неоконченных повествований» Д. Хармса). Узнаваемой приметой обэриутского дискурса становится отсутствие конца, открытая длительность либо же «механистическое» прерывание текста: «всё» / «вот, собственно, и всё» / «и т.д.» (Д. Хармс), «конец» (Д. Хармс, А. Введенский).
3.3.3. Союз — «ген сюжета»? В позднем авангардизме грамматика усиливает семиотический конфликт между связями in praesentia и in absentia — необходимостью линеаризовать дискурс и невозможностью это сделать. Распадение отношений «по смежности» в метафорическом дискурсе обостряет внимание к словам так называемого «коммуникативного пласта» языка, главное назначение которых — обеспечивать связность и последовательность дискурса. Вхождение этих единиц в пространство дискурса в качестве нарративных операторов сопровождается пересмотром грамматических конвенций в пользу конвенций нарративных и созданием текстовых ситуаций с ощутимым отклонением от «нулевой степени» высказывания. В идиолекте Д. Хармса слова «коммуникативного пласта» языка в роли нарративных операторов (опять/снова, тоже/также, нет, всё, а, но и др.) призваны разрушать нарратив ради наррации, быть мнимыми знаками повествовательных связей. Союз «а» (в значениях «А инициальный», «А рекурренции» и «А квазифинала») в хармсовском письме приобретает сигнальную функцию: он становится знаком нарративного нарушения, легко опознается читателем как препятствие к развертыванию сюжета.
В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, делаются основные теоретические и практические выводы, намечаются перспективы дальнейшей разработки темы. Отмечается, что дихотомия метафора / метонимия как основа языка риторического моделирования может быть спроецирована на более широкое поле объектов и использована для анализа историко-литературных эволюций, особенно в смежные с авангардизмом «риторические эпохи». Предложенный в работе метод исследования рассматривается как допускающий не только эволюционно-типологическое, но и поэтологическое приложение — в сопоставительном анализе идиостилей, сюжетов, стиховых структур и мн. др., т.е. тех областей поэтики, где проявляется глубинное противопоставление метафорического и метонимического «полюсов».