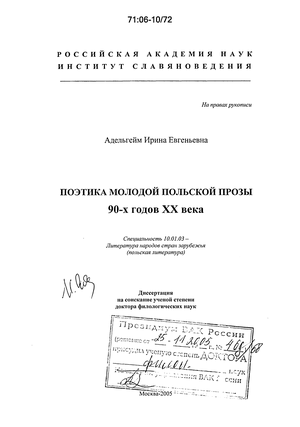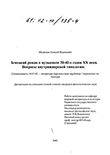Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Между «переломом» и «продолжением» 26
Глава II. Пространство и время: на границе общего и личного 53
1. Между центром и периферией: пространство польской современности 53
2. Между польским и непольским 61
3. Между Mitteleuropa и Европой 77
4. Между памятью и временем: традиции ностальгической прозы 87
5. Между сном и явью: оптика сновидения 119
6. Между утопией и антиутопией 130
7. Между детством и зрелостью. Феномен инициации 144
Глава III. Конструкция текста 178
1. Между событием и словом: сюжетное и несюжетное повествование 178
Жанровые мутации сюжетной прозы 181
Бесфабульное повествование 202
2. Между фрагментом и целым 222
3. Между автором, повествователем, героем и читателем 232
4. Между текстом и метатекстом 247
Глава IV. Герой: на пути к новой концепции человека 296
1. Между предметом и знаком: предметный мир и психология героя 296
2. Между сознанием и подсознанием: проблемы миро- и самоощущения 326
Глава V. Между модернизмом и постмодернизмом 363
Заключение 379
Библиография 395
Справки об авторах 411
Примечания 419
- Между «переломом» и «продолжением»
- Между центром и периферией: пространство польской современности
- Между событием и словом: сюжетное и несюжетное повествование
Введение к работе
Диссертация посвящена художественному феномену молодой польской прозы 1990-х годов, который только начинает исследоваться российской полонистикой. По тематике этого периода в последние несколько лет был опубликован ряд статей ', большая часть которых принадлежит автору данной работы. Она же является автором единственной на данный момент монографии, касающейся непосредственно темы диссертации: «Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года». Социокультурный аспект той части молодой прозы, которая обратилась в 1990-е гг. к военной теме, а также основные вопросы социологии польской культуры этого периода освещаются в монографии В. Я. Тихомировой «Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте 1989-2000» 2. В самой Польше молодая проза 1990-х гг. по мере своего возникновения находилась в поле постоянного внимания текущей критики, а с середины десятилетия стала и материалом литературоведческих исследований \ В силу слишком маленькой временной дистанции по отношению к объекту исследования в этих работах используется методологический подход, получивший в польской филологии название «протосинтеза» («protosynteza»). В отличие от «синтеза» («synteza»), протосинтез представляет собой целостную характеристику эпохи или литературного течения, создаваемую во временных рамках самого описываемого исторического этапа, т. е. подведение итогов, предварительность и неокончательность которых «заданы» изначально. Протосинтез, таким образом, оказывается на грани истории литературы и литературной критики - в положении между, что накладывает отпечаток на характер интерпретации (этим же словом определяется и сама ключевая ситуация времени 1990-х годов, породившая определенный катастрофизм сознания молодой прозы и ставшая, в сущности, главным описанным ею переживанием). Подробнее о специфике критики и литературоведения, исследовавших польскую молодую прозу конца века, будет сказано ниже.
Для научной рефлексии «извне» - в данном случае для российской полонистики -польская проза 1990-х годов безусловно представляет значительный интерес и как типологическое явление в ряду других литератур постсоциалистических стран, переживших сходные исторические катаклизмы, и как уникальный опыт, связанный с особенностями истории уже непосредственно Польши и ее литературы. Различные аспекты, в которых может быть изучена проза этого периода в научной традиции отечественной филологии, существенно обогатили бы российскую полонистику в области польского XX века, итоги всестороннего историко-литературного анализа которого до 1990-х гг. в общем контексте литера-
тур Центральной и Восточной Европы подведены в соответствующих главах коллективных трудов «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» и «История литератур западных и южных славян» 4. Обращение отечественной полоиистики к периоду конца XX столетия представляет немалый интерес и для аналогичных исследований других литератур постсоциалистического пространства, открывая возможности выявления типологических закономерностей развития художественного языка в более широком контексте, а также для создания сравнительных исследований, касающихся мировой литературы конца XX века. Таким образом, выбор молодой прозы Польши 1990-х гг. в качестве предмета диссертационного исследования объясняется неразработанностью и научной актуальностью этого периода для отечественного литературоведения.
В конце 1980-х гг., когда в Восточной и Центральной Европе рухнул социалистический строй и непригодными оказались как привычные формы жизни, так и их объяснения, литературам этих стран предстояло выполнить задачу обновления языка, с одной стороны, ломая и отвергая неработающие формы и изжившие себя представления и понятия, с другой - массированно внедряя в общее культурное сознание новые их образцы.
К созданию литературных шедевров, которых во все времена ждет от литературы ее читатель и которые случаются нечасто (но с них, закрепляющих формы нового языка, начинает свою жизнь новая созидательная инерция), должен быть, прежде всего, готов язык-как на уровне создающих литературу писателей, так и на уровне воспринимающих ее читателей. В периоды исторических сломов, как показывает опыт истории литературы, эта подготовительная задача ложится, в первую очередь, на молодые силы, вливающиеся в литературный процесс. Определение «молодая проза», «молодая поэзия» и т. д. «присваивается» новой генерации писателей (как правило, действительно молодых по возрасту, хотя порой сюда включают и тех, кто запоздал с дебютами, в частности, по причине выпадения их эстетики из до сих пор общепринятой).
Вот почему, обращаясь к литературе Польши последнего десятилетия XX века, представляется правомерным из живого потока ее реальности выделить в качестве особого явления прозу, за которой в польском литературоведении и критике закрепилось терминологическое определение «молодая» (хотя, сегодня возможно было бы уже называть ее просто «новой», поскольку именно она заняла в текущем литературном процессе ключевые позиции и, по сути, стала синонимом польской прозы конца века). В ней отчетливее всего проявились «множественные усилия» (Ю.Н. Тынянов) авторов по созданию нового художественного языка, адекватного переживаемому времени. Эти усилия, материализующиеся на уровне поэтики, реконструируются из самих литературных текстов, вне которых не мо-
гут быть описаны и осмыслены. Такое описание и осмысление и является целью данного исследования.
Молодая проза вошла в культурное сознание своего времени и была им востребована и отрефлексирована как некий текстовый массив, имеющий в непосредственном восприятии «исторического читателя» (Л.Я. Гинзбург) очевидную общность задач и эстетики, прежде всего, ощущаемую им как отступление от прежних образцов художественности, доведенных предшествующей литературой до автоматизма.
Это текстовое пространство состоит из произведений авторов разной индивидуальности и разного уровня художественности, но общностью новизны, всегда остро ощущаемой читателями-современниками, предлагает язык переживания новых проблем сознания. Оно обладает определенной общностью структуры, которая, подобно отдельному тексту, может быть путем анализа разложена на образующие ее взаимосвязанные планы. Только в процессе такого анализа могут быть выявлены смыслы и их контексты, которые молодая проза ввела в общее сознание как формы и понятия нового языка. Избранный диссертанткой путь научной рефлексии представляется продуктивным, так как смыслов вне поэтики не существует, а реальное вхождение нового языка и его усвоение происходит через текущую литературу - особой целостности ее воздействия на читателя.
В данной работе предпринята попытка выявить и описать основные парадигмы поэтики этой прозы именно как единого по своей эстетике текстового пространства. Автор ставил перед собой конкретную исследовательскую задачу: выявить те, условно говоря, «матрицы» языкового переживания ситуации слома, в которых молодая проза предлагает читателю образцы своей художественной рефлексии, своего видения времени, своего понимания задач литературы. В то же время автор стремился по возможности избежать потерь при рассмотрении индивидуального писательского своеобразия и отдельных произведений, составляющих единый литературный организм.
Текущая проза как складывающаяся система художественного языка всегда является адаптационным - эстетическим и психологическим - ответом на идущие в реальной исторической жизни изменения понятий и представлений. Способ эстетического переживания в новой прозе, вызванный теми или иными переменами, обычно воспринимается повседневным сознанием читателя как перелом, застой или даже тупик.
При описании поэтики молодой прозы в концепции данного исследования учитывалось то обстоятельство, что опыт Польши - часть общей картины закономерностей создания и бытования нового художественного языка в условиях пережитого достаточно большой культурной территорией слома 1980-90-х гг. Знание о том, как формируется язык пе-
реживания такого слома, имеет немалое теоретическое значение - и в отношении литературы самой Польши, и в отношении аналогичного опыта других культур. Осмысление над генезиса и функций «словаря» смыслов, который этот новый язык вводит в культурный обиход, может способствовать пониманию происходящего в сознании и структуре чувствования человека, оказавшегося в зоне резких перемен. В истории же самой Польши XX века этот слом и заново - после межвоенного двадцатилетия - обретенная независимость в известной мере возвращают литературу и рефлексию над ней к периоду 1918-1939, когда литература также адаптировала своего читателя к реальности нового художественного языка, за которым стояла новая историческая реальность. Этот процесс был резко оборван Второй мировой войной, а затем политической экспансией СССР, направившей ход развития польской литературы в другое русло. В известной мере в последние 10-15 лет Польша на новом историческом витке отчасти вернулась к моменту того «обрыва», хотя и в другом историческом времени, у которого при сходной типологии процессов иные реальные условия «старта» и иные «стратегии» в отношении будущего. Тем не менее, между этими двумя моментами есть определенное сходство, позволяющее с новой стороны увидеть сложную логику развития культуры. Автор диссертации исходил из того, что в концепции исследования литературного процесса XX века следует, с одной стороны, иметь в виду всегда присутствующую внутреннюю, сложно детерминированную (и «изнутри», и внешним контекстом культуры в целом) логику развития самой литературы. С другой - необходимо учитывать «насильственность» процессов, навязываемых литературе вследствие резких общественных перемен, также задающих в определенной степени ее движение, и характер видимого только во временном развороте процесса интеграции конкретного опыта польской литературы в европейский и мировой культурный контекст. Для этого и необходимо описание каждого из моментов развития ее художественного языка, осуществляющегося в единстве текстового пространства литературы. Таков проблемно-методологический контекст исследования, потенциально открывающий новые направления в изучении польской прозы конца XX века.
Автор диссертационного исследования в своей монографии «Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка» 5 (М., «Индрик», 2000) предпринял аналогичную попытку описания психологической прозы межвоенного двадцатилетия. Данная работа, посвященная эстетическим результатам 1990-х годов в молодой прозе, в известной мере продолжает тот «сюжет» истории польской литературы, показывая через анализ поэтики целого пласта литературы определенного времени механизм создания нового «словаря» языка переживания, или психологического
языка, формируемого текущей прозой. Такое единство видения совершающихся в литературе выборов пути также определяет научную актуальность и новизну работы.
Происходящие в языке польской прозы после 1989 г. перемены были восприняты некоторыми ее польскими интерпретаторами как тупик. Если принять положение Ю.Н. Тынянова, который писал, что «у истории ... тупиков не бывает. Есть только промежутки» , то можно сказать, что литература - как часть исторической жизни человечества и один из важнейших его интеллектуальных языков - не знает в своем существовании и развитии ни перерывов, ни разрывов, ни тупиков. Они всегда - аберрация нашего зрения и наших чувств. Развитие литературы идет «одновременно многими путями» и «одновременно завязываются многие узлы»7. В концепции данной работы ключевым для понимания логики исторического развития является понятие литературного промежутка. В историко-литературном аспекте исследование как раз и посвящено поэтике промежутка. Это понятие заслуживает теоретического и практического интереса еще и потому, что феномен молодой польской прозы конца XX века - тот самый случай в истории литературы, когда на определенном этапе развития оказываются ценны не просто «готовые вещи», которые могут быть удачны или не очень, а то, что они своей совокупностью приближают реальность новой плодотворной художественной инерции движения, означающей новый этап в существовании художественного языка. Анализируя молодую прозу как некую общность текстового пространства, можно попытаться увидеть, как и на каких путях это происходит.
В литературном процессе - его естественном протекании и воздействии на читателя постоянно изменяющегося художественного языка - далеко не всегда и не сразу можно с определенностью выделить первый, второй и другие ряды составляющих его в тот или иной текущий момент конкретных художественных произведений. В глазах современников литература зачастую имеет иную иерархию эстетических и общественных ценностей, чем она определяется в глазах потомков. Как заметил Т. Элиот, классик может быть «узнан» только из исторической перспективы, которая устанавливает и культурные каноны. Но место и роль писателей, которые, по выражению М.Л. Гаспарова, «в классики не вышли», в деле создания и закрепления нового художественного языка тем не менее значительны, так как лишь общие усилия подготавливают и приятие первых имен, и даже само их появление. По этому поводу В. Шкловский в свойственной ему парадоксальной форме заметил, что наследование в литературе идет не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. Часто это «родство» бывает и более отдаленным, и более причудливым, неожиданным по результатам. Реальное развитие литературы - процесс куда более сложный, противоречивый и драматичный, чем эстетически «дистиллированное» движение первых имен, каким порой
представляется из исторического далека ее путь. Для естественного формирования и функционирования художественного языка чрезвычайно важными и актуальными оказываются тексты, которые спустя двадцать-тридцать лет выпадают из круга активного чтения, оставаясь в курсивах и петитах историй литератур. Научная же рефлексия рано или поздно обнаруживает, что многие стилистические открытия, связывающиеся в каноническом представлении с теми или иными первыми именами, оказались во многом подготовлены как раз теми, кого история позже «сочла лишним». Чтобы в литературе произошло что-то значительное, ей необходимы, как писал Ю.Н. Тынянов, «множественные усилия» и «непрояв-ленные негативы» (т. е. как раз литература второго-третьего ряда). Это положение как реализующийся в данной работе методологический и содержательный принцип представляется принципиально важным и достаточно новым (чаще при выборе объекта исследования того или иного периода литератур в качестве критерия используются довольно произвольно определяемые соображения «художественной ценности» произведений, установленной более поздним временем и его несколько искривленной по отношению к реальности перспективой).
Текущая же литература, как уже говорилось, рождается, прочитывается и поначалу воздействует на художественное сознание и язык своего времени как поток текстов, образующих общий контекст, минимально расчлененный в своем естественном живом бытовании на иерархические ряды и уровни. Читателю-современнику она нужна в такой своей избыточности, неокончателыюсти, разноуровневости, прежде всего, для того, чтобы помочь в первом приближении структурировать хаотические впечатления от меняющейся на глазах действительности. Из прочитанных текстов он получает определенный набор представлений и сценариев поведения, чувствования - эмоциональных и эстетических ориентиров, помогающих выбитому из привычной колеи сознанию адаптироваться к переменам понятийного языка времени и обрести эстетическое самоощущение.
Литература периода перелома - как звено в развитии художественного языка - возникает поначалу, с одной стороны, из читательской потребности «накрыть словом» меняющуюся жизнь, дав ее образ и одновременно образец рефлексии над ней, с другой же -из накапливающейся внутри самой литературы необходимости и неизбежности в изменении художественного языка. При этом и в общем, и в индивидуальном сознании одновременно сосуществуют и взаимодействуют тексты, которым суждена долгая жизнь, и тексты, которые умрут вместе с породившим их историческим мгновением. Но в момент своего появления и те, и другие оказываются востребованы временем. Первые при этом не всегда сразу и по достоинству бывают оценены, а вторые в своей короткой судьбе на самом деле
имеют зачастую куда большую зону воздействия, чем те, что остаются в статусе образцов художественности надолго, и именно они порой реально закрепляют происходящие сдвиги.
По замечанию С.С. Аверинцева, книги текущей литературы делятся для читателя «не на хорошие и плохие» (по своему художественному уровню), а на «необходимые и на те, без которых можно обойтись», причем «книги необходимые бывают несовершенны и -наоборот» 8. О том же самом - но уже относительно филологии как «науки понимания» -пишет и М.Л. Гаспаров, по мнению которого, научный подход к изучаемым текстам отличается от избирательного подхода критики (стремящейся к установлению — порой на основании личного приятия или неприятия той или иной эстетики — иерархии уровней) именно своей принципиальной безоценочностыо, поскольку от «пристрастности» исследователя, ставящего во главу угла собственные вкусовые предпочтения, страдает историческая подлинность знания. «Как охотно, - пишет Гаспаров, — мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко!»9. Те художественные открытия, которые мы позже отдаем в единоличное владение классикам, в момент своего рождения складываются из коллективных усилий писателей разного уровня.
В сложной коммуникации литературы и читателя последний выполняет функцию необходимой обратной связи. В связи с этим встает и одна из острейших проблем литературного XX века - феномен не прочитанных вовремя текстов. Не пройдя в восприятии читателей стадии своего рода «естественной современности», соотнесенности текста с породившей его повседневностью, т. е. стадии «узнавания» с неизбежными приятиями-неприятиями, и будучи прочитанными в другое время отдельные произведения или литературное наследие того или иного писателя в целом нередко выполняют в другом времени функцию уже только художественных импульсов, оказывающихся более актуальными для его писателей, чем читателей. А то и вовсе остаются только фактами истории литературы. Объективное присутствие этих пропущенных и с опозданием возвращенных звеньев развития художественного языка осуществляется в литературной системе другого времени через интертекст. Тексты литературных «учеников» вводят в оборот язык «учителей», готовя тем самым его приятие и признание. В реальной истории формирования языка польской литературы, в противоречиях диалектики питающих его традиций и новаций недопрочтенные вовремя имена и художественные системы - В. Гомбрович, Б. Шульц - актуализируются сегодня именно через молодую польскую прозу.
Принципиальным для данного исследования является и понятие литературного поколения, закрепленного в истории литературы общностью исторического «места и времени» (возрастом, сходством социального и культурного опыта, временем и условиями дебю-
тов, типологией созданных текущей критикой литературных репутаций и т.п.). Общеизвестно, что в любой отрезок времени в литературе присутствуют, сосуществуя в отношениях разной степени сложности «притяжений» и «отталкиваний», три силы, достаточно условно называемые старшим, средним и молодым поколениями. Движение их постоянно, и историческая роль каждого незаменима. Но в периоды кардинальных исторических сломов, когда рушатся сами опоры бытия и литература стремится найти язык для рождающегося нового зрения, межпоколенческие отношения осложняются порой до конфронтации и декларации полного отторжения. Тогда приход молодого поколения и его художественный выбор воспринимаются одними как оптимистическое свидетельство перелома, обещающего немедленное обновление языка и открытие им «окончательной» художественной истины, а другими - как обрыв традиции, ведущий в тупик. В развороте же истории это время, когда еще действует - хотя бы на уровне сложившегося стереотипа восприятия - инерция одного художественного языка (на которую работают, в основном, старшее и среднее поколения, тиражируя старые формы и одновременно «оберегая» от молодого экстремизма само ощущение художественной целесообразности и критериев), а в молодой литературе идет изживание прежней инерции и начинается активная подготовка почвы для создания языка, адекватного новому видению и переживанию.
Материалом данного исследования стали 126 книг различных прозаических жанров 48 авторов (см. «Список анализируемых произведений»), относимых польскими критикой и читателем к молодой прозе. В России в подавляющем большинстве эти имена и тексты практически неизвестны, поскольку переводов современной польской прозы на русский язык все еще слишком мало. Автор стремился по возможности представить в работе весь спектр составляющих анализируемое художественное явление молодой прозы жанров, тематики, стилей, и рассматриваемые в диссертации произведения можно считать репрезентативными в свете поставленной задачи исследования поэтики молодой прозы и выявления ее основных парадигм. Наличие большого количества текстовых примеров, что для данной работы является принципиально важным, демонстрирует, как возникают и какими поступают к читателю «единицы» того особого психологического языка 10, каким является литература - в данном случае, молодая польская проза - и в которых закрепляется и транслируется читателю мироощущение и эстетика этого поколения.
Литература любого периода, являющаяся для своего времени текущей, всегда существует параллельно с интерпретирующей ее критикой, которая имеет дело со структурой произведения в его первоначальном значении, не обросшем еще напластованиями более поздних прочтений. Именно текущая критика дает возможность увидеть процесс освоения
нового художественного языка в реальной сложности и противоречивости приятия или отторжения его форм.
Данное обстоятельство особенно важно иметь в виду при обращении к исследованию опыта иноязычной литературы, так как в этом случае рефлексия неизбежно подвергается смещениям, связанным с контекстом восприятия. Некоторые исследователи склонны игнорировать это обстоятельство как несуществующее или маловажное, некоторые, напротив, - абсолютизировать, доказывая, что в смысле своей приближенности к объективной картине анализ чужой литературы никогда не может быть равноценен рассмотрению того же материала, проделанному в рамках собственной культуры. Действительно, как бы хорошо ни был осведомлен исследователь в материале иноязычной литературы, невозможно обойти то обстоятельство, что, воспринимая ее в ином контексте, иной личной культурно-исторической апперцепции, иных ментальных представлениях и понятиях, он невольно и неизбежно проецирует на изучаемый объект культурный опыт и систему понятий, за которыми стоит другая историческая, бытовая, психологическая и т. д. реальность. По словам М.Л. Гаспарова, исследователь чужой культуры способен поэтому скорее охватить общую картину происходящего, обнаружить точки схождения с опытом своей культуры, чем увидеть реальное место, смысл, значение и генезис тех или иных частностей, которые эту картину реально составляют, которые «узнаваемы» только изнутри носителями того же культурного языка и поэтому, прежде всего, попадают в поле зрения при рефлексии над своей литературой.
Вот почему позиция исследователя другой литературы - сознательно или нет - всегда устанавливает особую точку обзора, имеющую свои преимущества и недостатки. Приближению подобного видения к действительной картине при анализе иноязычной литературы (особенно современной) может способствовать постоянное внимание к рефлексии над ней «изнутри» - учет контекста, в котором эта литература создавалась и функционировала, и постоянное соотнесение с этой информацией собственных наблюдений и выводов. Видение «изнутри» во всей противоречивости закономерностей и случайностей отражает текущая критика, через которую и возникает реальная возможность отчасти совместить план «извне» с планом «изнутри», обеспечив новый, продуктивный ракурс.
Молодая польская проза конца XX века развивалась в тесном взаимодействии с критикой, осмысляющей текущий литературный процесс в его внешних и внутренних связях с изменяющимися формами жизни и одновременно переживающей аналогичные изменения в собственном языке. В сущности, предметом профессионального внимания последней было то же самое смятенное сознание современника, что и у прозы, но уже отраженное
в порожденных им художественных текстах. Критики являлись такими же «жертвами» исторического перелома, как прозаики и их герои. Таким образом, в реальности литературной ситуации Польши 1990-х гг. проза и критика неотделимы друг от друга в решении единой задачи становления и закрепления в общем культурном сознании нового художественного языка. Поэтому голоса польских критиков и литературоведов, писавших в 1990-е гг. о прозе, что называется, по горячим следам, включены в «сюжет» исследования не только как материал по историографии вопроса, но и как важная часть общего литературного процесса.
Первое, что обращает на себя внимание, это то, что поначалу голоса критиков старшего и младшего поколения, выступавших на тему молодой прозы, словно бы сознательно чередовались (так, за книгой Мечислава Орского «А стены пали. Книга о новой литературе» (1995) последовала «первая монография о литературе тридцатилетних» (как было заявлено на обложке) - «Временное перемирие. О творчестве так называемого поколения "бруЛьона" (1986-1996)» (1996) молодых критиков Ярослава Клейноцкого и Ежи Соснов-ского; затем опять взял слово ученый старшего поколения - Станислав Буркот, выпустивший исследование «Польская литература в 1986-1995 годах» (1996); после чего появилась первая из многих последовавших за ней книга о 1990-х годах молодого критика и литературоведа Пшемыслава Чаплиньского «Признаки перелома. О польской прозе 1976-1996» (1997); в том же году вышли «Жажда перемен. Заметки о современной прозе» (1997) автора среднего поколения Ежи Яжембского и «Погода портится, или несколько соображений по поводу неприятной литературы» (1997) молодых исследователей Рафала Групиньского и Изольды Кец; кроме того, были изданы «Путь к себе. Избранные сюжеты литературы после 1989 года» (1997) Лешека Шаруги и вторая книга М. Орского - «Образы себя и мифологии (краткое описание проблем литературы 1990-х годов» (1997).
Начиная же с 1998 г., когда молодая проза заняла практически все польское литературное пространство, книги о ней выходили исключительно из-под пера молодых. Это -«Дебюты и возвращения. Чтение в период перелома» (1998) Дариуша Павелеца; «С другой стороны. Критические записки» (1998) Кшиштофа Униловского; «Двадцать лет с литературой. 1977-1996» (1998) Яна Томковского; «Профессия: читатель. Заметки о польской прозе 1990-х годов» (1999) Дариуша Новацкого; «Польская литература 1976-1998. Путеводитель по прозе и поэзии» (1999) Пшемыслава Чаплиньского и Петра Сливиньского; «Карета из дыни» (2000) Кинги Дунин; «Драконий глаз. Литература так называемого поколения «бруЛьона» по отношению к реальности III Речи Посполитой» (2000) Павла Дунина-Вонсовича; «Возвышенная печаль. Ностальгия в прозе девяностых годов» (2001) и «Непостоянные периферии. Наброски о литературе 1990-х годов» (2002) П. Чаплиньского; «Про-
за освобожденного поколения. 1989-1999» (2002) Уршулы Гленск; «Колонисты и кочевники. О новейшей прозе и литературной критике» (2002) Кшиштофа Униловского; «Бестактные повествования. Формы авторефлексии в польской прозе девяностых годов» (2002) Войцеха Броварного. Как видно из этого списка, обращает на себя внимание количество критических книг, своего рода «рефлексивный бум». При этом уже сами названия говорят о направлении молодой критической мысли - парадоксальности их видения - и неизбежных при нахождении внутри ситуации аберрациях зрения.
Поскольку речь идет о неустоявшейся, постоянно меняющейся картине текущего литературного процесса, возраст авторов исследований играет немаловажную роль. Следует отметить, что наиболее спокойными и толерантными (что не означает - более глубокими) оказывались работы старшего поколения, оценивающего новую прозу с позиции своей этики и эстетики, ощущаемой «назад» дистанции между языком своим и языком нового поколения, в отличие от книг сверстников молодых прозаиков, которым требуемую здесь дистанцию соблюсти, видимо, оказалось значительно сложнее.
Итак, литературоведческие работы, освещающие исследуемый период, стали появляться с середины 1990-х гг., когда возникла потребность не просто фиксировать литературные факты (появление новых книг), но и ввести временную координату - хоть и крохотную, но дистанцию. При этом исследователь, обращающийся к теме текущей литературы, почти всегда попадает в абсурдную ситуацию - пока издается книга, появляются новые произведения, уже известные читателю, но еще «не учтенные» литературоведом. Другими словами, подобная рефлексия всегда оказывается «временно трактуемым целым» и - «про-тосинтезом». В таком виде она поступает к читателю и закрепляет в его сознании определенные литературные репутации как тенденцию к иерархии.
Свой отпечаток на специфику критических и литературоведческих рефлексий, которые снабжали интерпретационным языком читателя и определяли те или иные установки восприятия, нередко накладывала двойная, а то и тройная роль их авторов. Как правило, они сами - активно комментирующие текущий литературный процесс критики, а порой и писатели (это состояние было названо «попыткой изнутри аквариума описать то, что делается вокруг» !2).
Чтобы правильно оценить характер рефлексии «изнутри», представляется целесообразным обратиться к структуре работ о современной польской прозе. В них зачастую используются опубликованные ранее рецензии и статьи «по ходу дела» ,3. Большинство авторов специально отмечают, что практически не изменяли старые тексты - те даются лишь с минимальными купюрами и стилистической правкой. Это повышает историческую цен-
ность подобных книг как своеобразных собраний «моментальных снимков», отбор которых спустя время делается с учетом актуальности. «Если даже мой ответ на данную публикацию глуп или неактуален, это не значит, что он устарел - проблема по-прежнему актуальна»14, - такова позиция критика-исследователя. Прочтение критических выступлений спустя несколько лет после их написания - а именно это должно происходить с подобной книгой, вводящей в читательский оборот заново и в новой концентрации то, что возникало и бегло прочитывалось по мере написания раньше - имеет немалый смысл, поскольку дает представление о литературном и критическом сознании того, на глазах становящегося прошлым времени и об одном из образцов или вариантов языка этого сознания.
Хотя критика, по словам одного из ее представителей, - жанр неизбежно временный, обрекающий как пишущего ее, так и читающего на блуждания по запутанным следам, именно она, как показывает опыт истории литературы, всегда фиксирует то, чем новый художественный язык отличается от прежнего: несовпадения со сложившимися стереотипами острее всего чувствует современник перемен.
Наконец, можно считать, что самый жанр сборников рецензий, перемешанных с предварительными итогами в виде некоторых общих выводов, есть компромиссное решение проблемы объединения историко-литературного очерка с анализом отдельных произведений и выведения общей траектории типологии поэтики периода в целом. Эта позиция критики и литературоведения - при всем неизбежном балансировании между - подразумевает историческую компоненту, не позволяя литературоведческому исследованию замыкаться в функции самодостаточной «игры в бисер». Фрагментарность таких работ, во-первых, дает возможность создания своеобразного интерпретационного гипертекста. Разнообразные литературоведческие сюжеты, связанные друг с другом личностью их автора, динамично сосуществуют в пространстве одной книги, а «расстояния» между ними заполняет читатель собственными ассоциациями и аллюзиями, создавая из этих элементов рефлексивной мозаики свою подвижную картину.
Бросается в глаза и популярность пограничного жанра «записок», «заметок» (книги Е. Яжембского, Р. Групиньского и И. Кец, К. Униловского, Д. Новацкого, П. Чаплиньского), выражающего ощущение невозможности, находясь внутри временной ситуации, быть объективным. Фрагментарность жанра передает фрагментарность, временность, моментальность, текучесть, сиюминутность самой литературной ситуации и вытекающей из всего этого непреодолимой неполноты знания критика и литературоведа о современной ему литературе. Он словно бы еще больше уменьшает и без того недостаточную временную дистанцию, подчеркнуто избегает претензий на некое целое, поскольку убеж-
ден, что 1990-2000 - период хаоса («свежие явления, в половодье которых потерялся не один рецензент»15; «Как охватить образ литературы в жидком состоянии, который у многих исследователей ассоциируется с мало обещающим хаосом?» |6), предварительного знакомства, но никак не синтезов («специфика новой ситуации заключается ...в невозможности выделить доминирующие в описании иерархии» ,7).
Обращает на себя внимание стремление откровенно декларировать частность взгляда, индивидуальность личной «истории литературы», тяготение к жанру своего рода читательской автобиографии, читательскому дневнику. Ощущение субъективности связано с невозможностью отстраниться от собственного недавнего прошлого.
Отсюда идея современной польской прозы как путеводителя «по стране, еще только познаваемой общими усилиями» ее читателей 18 у П. Чаплиньского и П. Сливиньского. Отсюда и метафоры жанра («клиповый характер» исследования у Томковского, «наезды камеры» у Яжембского) и своего рода «оправдания» авторов во вступлениях, объясняющие, чем не являются их книги: «Не синтез польской прозы» ,9; «Никогда не собирался учесть каждую исписанную бумажку за последние двадцать лет» 20; «не монография, не синтез, не учебник, не история литературы, разве что ее попытка, сознающая свою офаниченность и часто преображающаяся в литературную критику»; «некоторые процессы и понятия <...> избранные авторы и анализ отдельных произведений» ; «дать описание важнейших явлений, а не коллекцию фамилий и названий»22; «.не целостная панорама - наверняка в книге не хватает информации о многих исключительно интересных литературных явлениях» 23; «лишь собрать необходимую информацию о новых произведениях и авторах» 24; «Мы не верим в то, что кому-то доступна абсолютная истина, но верим в ее поиски. Эта книга -стимул к подобным самостоятельным поискам» 25; «Публикация не является, и не может-по причине слишком короткой дистанции - являться замкнутой, целостной картиной периода» 2б; «мелкие замечания на тему будущей, а собственно, отчасти уже написанной историко-литературной работы, посвященной польской прозе 1990-х годов» 2?.
Важной чертой этого литературоведения становится и взаимная полемика исследователей, включаемая в текст книг (у Чаплиньского в «Непостоянных перифериях» и Уни-ловского в «Колонистах и кочевниках» даже специальные главы). Следует отметить, что мало кто способен здесь на толерантность: редкий ее пример - Яжембский, из молодых лишь П. Чаплиньский. Многие критики стараются сразу отмежеваться от «популярных проблем» (Яжембский, Новацкий), задаваясь вопросом - как избежать затертых формул, пусть даже правильных? Описать заново прозаический опыт 1990-х годов невозможно, од-
нако следует пытаться найти «щель в едва завязавшемся историко-литературном дискурсе, просвет между уверенностью и сомнениями» .
Наконец, неотъемлемая черта этих книг - «открытый финал», выдающий амбивалентность стремления - оценивать или описывать, нетерпеливо прогнозировать или спокойно ждать. Последняя подглавка вступительной главы книги Новацкого так и называется- «Прогнозы», Я. Томковский в своей книге прямо говорит о конкретных ожиданиях критики - второго, третьего и пр. романов, повторения успеха первой книги того или иного прозаика. В силу отсутствия дистанции Групиньский и Кец допускают возможность ошибки: «Мы представили в нашей книге тех авторов, в которых верим. Не исключена ошибка <...>» 29. Почти везде присутствует момент представления о том, что «нужно» и «не нужно» литературе, как «должно быть» и как «не должно быть» (так, «не должно», например, быть постмодернизма, который принято упрекать в «иностранном» происхождении, нарушении устоявшейся литературной периодизации, несерьезности, неоднозначном отношении к массовой культуре, подрыве «исконно польских» или «исконно европейских» понятий и ценностей, неспособности и нежелании отражать новую польскую реальность, препятство-вании идентификации читателя с героем). Все это еще раз доказывает неразрывную связь «протосинтезов» с задачами и возможностями критики. Наиболее же плодотворным, как представляется, прогнозом здесь может быть открытость любому возможному повороту литературного процесса: «как всегда, появятся сюрпризы, десятки сюрпризов» 30. «Сегодня литература молодых - открытая книга: в ней может запечатлеться новый вариант реализма, психологическое течение, гротескно-абсурдистская литература, эмоциональная, катастро-фистская. Постмодернизм, очевидно, будет заключаться в том, что ни одна из этих возможностей не станет доминирующей, они будут сосуществовать и проникать друг в друга» 3(, - пишет Буркот.
Итак, в «текущее» литературоведение на этом этапе активно проникает стиль критики - «потребность оценивать заслоняет <„.> анализ» п. К оцениванию склонны почти все авторы. К. Униловский даже использует метафорику соревнования, рейтингов, литературных соревнований и пр.33, Р. Групиньский и И. Кец используют категории психологические («неприятный», «надменный», «суровый»), призванные подчеркнуть творческий индивидуализм нового поколения и т.д. Намеренно избегает критических фиоритур П. Чаплиньский, за что подвергся критике34. Именно Чаплиньский пытается наметить дистанцию историка литературы, отойти на нее, найти золотую середину между перспективой критика, участвующего в литературном процессе, и историка литературы, стремяще-
гося к установлению определенной дистанции, между личным переживанием и историко-литературной объективностью.
По временному охвату материала эти работы можно разделить на три группы. Прежде всего, это книги, посвященные исключительно периоду после 1989 г. («Жажда перемен» Е. Яжембского, «Погода портится» Р. Групиньского и И. Кец, «Путь к себе» Л. Шаруги, «Образы себя и мифологии» М. Орского, «Дебюты и возвращения» Д. Павелеид, «С другой стороны» и «Колонисты и кочевники» К. Униловского, «Профессия: читатель» Д. Новацкого, «Карета из дыни» К. Дунин, «Драконий глаз» П. Дунина-Вонсовича, «Возвышенная печаль» и «Непостоянные периферии» П. Чаплиньского, «Проза освобожденного поколения» У. Гленск, «Бестактные повествования» В. Броварного. Другая группа исследований начинает анализ современного литературного процесса с обращения к предшествующему периоду 1980-х гг. («Временное перемирие» Я. Клейноцкого и Е. Сосновского, «А стены пали» М. Орского, «Польская литература в 1986-1995 годах» Ст. Буркота). Третья касается периода с 1976 года, когда «большая и постоянно увеличивавшаяся группа польских писателей разорвала пуповину, связывавшую их с системой»35 («Признаки перелома» П. Чаплиньского, «Польская литература 1976-1998» П. Чаплиньского и П. Сливиньского, «Двадцать лет с литературой» Я. Томковского). Вторая временная граница, в силу объективных обстоятельств, чаще всего является случайной- это просто момент окончания работы над монографией, но никак не завершение периода.
Различаются работы и по широте охвата материала.
С одной стороны, это книги, предметом анализа в которых является весь литературный процесс 1990-х годов (или шире). Так, М. Орский в «А стены пали» рассматривает процессы и тенденции в новейшей литературе в целом (хотя акцент сделан на прозе), противопоставляя позицию «этики» (у среднего поколения) позиции «эстетики» (у поколения молодого). Книга Ст. Буркота «Польская литература в 1986-1995 годах» задумана как продолжение предыдущей его работы - «Польская литература в 1939-1989 годах» (1993), и потому систематизирует материал и по поэзии, и по прозе, и по драме за обозначенный период (в 2003 г. исследователь объединил эти две книги, расширив при этом временные рамки, в издании «Польская литература в 1939-1999 годы»). Я. Томковский в книге «Двадцать лет с литературой» ставил цель осветить основные явления периода в целом. «Польская литература 1976-1998» П. Чаплиньского и П. Сливиньского дает удачное сочетание описания типологии процессов в литературном быте, а также прозе и поэзии в целом, и отдельных «портретных фрагментов». В том же, что касается прозы, она полностью повторяет концепцию книги П. Чаплиньского «Признаки перелома». Кинга Дунин в «Карете из дыни» рассматривает отношения литературы
1990-х годов со СМИ. Л. Шаруга в книге «Путь к себе. Избранные сюжеты литературы после 1989 года» ставит задачу «указать несколько уже явно наметившихся путей, ведущих к новому литературному образу Польши» 36. Исследователь рассматривает и прозу, и поэзию, причем разных поколений, но исключительно в преломлении проблемы пространства («Кресы», малая родина, образ отчизны и т.д.).
Другие книги посвящены исключительно прозе, рассматривая отдельные ее явления или пытаясь наметить классификацию. Так, П. Чаплиньский в «Признаках перелома. О польской прозе 1976-1996», по подходу наиболее близких автору настоящей диссертации, стремится «найти и проанализировать значимые тенденции польской прозы этого периода», учитывая эстетическое сознание, понимание задач литературы, особенности поэтики. Композиция книги вытекает из поставленной автором задачи («Я ищу следы перелома. Я ищу их в том, что заканчивается, и в том, что начинается» зт): два больших раздела - «Признаки конца» (1976-1989) и «Признаки начала» (1989-1996). Исследователь отмечает возрождение фабулы, воплощение в новой польской прозе идеи метафикции, выделяет три варианта авторской позиции («ремесленники», с их культом писательского профессионализма; «насмешники», пародирующие жанры и стили; «имморалисты», использующие тон провокации, исповедующие свободу от культурных мифов, табу) и три варианта самоощущения героя (являющегося ответом на вопрос «Откуда ты?»: «Не отсюда», «Отсюда», «Ниоткуда») и т. д. Появляется в критике попытка описать основные явления литературного быта и сознания, вернуться на другом витке к социальным факторам и укоренить свою позицию в реальности (вступительная глава к работе К. Униловского «С другой стороны», которую автор дополняет затем рядом ранее опубликованных рецензий). Яжембский в «Жажде перемен» выбирает другое построение книги, перемежая «более общие наблюдения с более частными комментариями» 38 и рассматривая лишь избранные проблемы и избранные произведения писателей разных поколений. Выбор исследователя обусловлен скорее социальными факторами - то, что «служит "общественной терапии"» - художественный аспект остается на втором плане. Подобным образом другой автор старшего поколения, М. Орский, ставит в «Образах себя и мифологиях» во главу угла этические категории, как и в первой своей книге, утверждая, что новая польская проза отбросила идею нравственного долга. Орский также включает в книгу ранее публиковавшиеся рецензии на произведения отдельных прозаиков молодого и среднего поколения. Д. Новацкий в книге «Профессия: читатель. Заметки о польской прозе 1990-х годов», давая во вступительной главе представление об общей литературной ситуации, основных изменениях, произошедших после 1989 года, далее помещает старые рецензии на прозаиков разных поколений,
сгруппированные вокруг нескольких проблем (тема малой родины, ситуация поляка за границей; удачи-неудачи авторов; автобиографизм, ирония; проблемы массовой литературы). П. Чаплиньский в «Возвышенной печали» рассматривает связь ностальгии с возвышенностью, порожденной тоской по ушедшему времени, по идеальному пространству и настоящему. Свою задачу автор видит в объяснении причин изобилия ностальгических произведений в современной польской прозе («ностальгия - путь к возвышенности, а возвышенность рождается из надежды уберечь смысл, убиваемый постоянным опытом утраты» 39) через показ внутреннего разнообразия ностальгических произведений. Отсюда конструкция книги: излагая свою позицию во вступительной главе и вступительных подглавках к каждому разделу, он помещает далее (публиковавшиеся ранее) интерпретации отдельных произведений, отчасти схему нарушающих. В другой своей книге - «Непостоянные периферии. Наброски о литературе 1990-х годов» П. Чаплиньский выдвигает идею не равенства в литературе периферии и центра (всех смыслов, стилей и жанров), а непостоянства самого явления периферийности.
Другие авторы сосредотачивают свое внимание исключительно на творчестве молодого поколения. Такова книга Я. Клейиоцкого и Е. Сосновского «Временное перемирие», авторы которой анализируют роль среды «бруЛЬона» в создании новых идей и распространении литературы тридцатилетних, подчеркивая зависимость литературы от факторов общественных, политических и культурных. Неслучайно один из рецензентов назвал это исследование «реалистическим экспериментальным романом, изнутри изображающим писателей молодого поколения на фоне общественных и мировоззренческих перемен» 40. В сущности, вся молодая критика берет на себя в определенной степени задачи очерковой прозы - называния, описания конфликтных моментов современной социальной жизни, блиц-исследования своего рода «социологии поэтики». Так, например, Р. Групиньский и И. Кец в «Погода портится», по их собственным словам, попытались «указать на то, что в молодой литературе они сами считают наиболее интересным и ценным» 4|, дав при этом общую картину литературной жизни. «Вот повесть о молодой польской литературе, повесть о том, как она освобождалась от навязываемых ей влияний и зависимостей, как выходила из мрачной тени коммунизма, а также авторитета современных "пророков", бойцов "второго круга обращения" и "Солидарности". Это повесть о победе этой литературы над национальными стенаниями и схемами <...>»42, - подводят итог авторы. П. Дунин-Вонсович в «Драконьем глазе» включается в спор о реалистической ценности молодой польской прозы, понимая реализм как наличие реалий современной Польши и разделяя авторов, согласно их отношению к Ш Речи Посполитой, на либералов, романтиков и анархи-
стов. Книгу отличает еще и то, что в одном ряду рассматриваются не только молодая проза и поэзия, но и, например, современные песни. Кроме того, Вонсович вводит в поле зрения широкого читателя много малоизвестных имен. У. Гленск в «Прозе освобожденного поколения» также анализирует только молодое поколение, рассматривая при этом художественную литературу «как специфический источник информации об окружающем мире» 43. Воспроизводя по текстам самый образ ментальности поколения, исследователь отмечает основные ее черты - равнодушие к sacrum, нестабильность межчеловеческих связей, склонность к опредмечиванию другого человека, наркотики как реалию быта, детабуиза-цию, отсутствие сколько-нибудь ясных и осмысленных нравственных иерархий. Гленск постоянно сопровождает свой анализ литературной картины социологическими данными, что позволяет сопоставить прогнозы и тенденции социологов и конструкции, предлагаемые младшим поколением писателей. В\ Броварный в «Бестактных повествованиях» рассматривает молодую прозу 1990-х годов, с точки зрения явления авторефлексии. Исследователь анализирует большое количество произведений, отражающих темы и явления, количественно доминирующие в прозе 1990-х и подчиненные выделяемым ученым трем типам авторефлексии.
В критике 1990-х г. г. возникла также необходимость разграничить жанр рецензии и собственно критику. Так, Униловский отделяет взгляд рецензента, у которого горизонт сужается до анализируемого произведения, от взгляда критика, который обязан рисковать и моделировать собственную концепцию или образ литературы 44. Очевидно, следствием ощущения особой фрагментарности литературоведческого языка и его возможностей является распространенность в польском литературоведении жанра бесед, дуэтов, антологий. В 1998 году вышла книга «Уроки письма»45, плод коллективных усилий критиков и литературоведов - своего рода антология высказываний о процессе, целях, стимулах творчества. Она могла бы стать своего рода манифестом молодых авторов, однако здесь представлены различные поколения, вплоть до самых старших. В 1999 году П. Чаплиньский и П. Сливиньский издали «Контрапункт. Беседы о книгах» 46 - диалоги двух критиков и несколько интервью, своего рода «дебаты», на манер телевизионных (одна сторона в них -представители определенной нелитературной среды, взгляда, поколения, другая - писатели, поэты, критики, литературоведы), касающиеся нескольких тем (республиканских ценностей, литературного быта и задач литературы, проблем конъюнктурности, феминизма). В 2000 году появилась книга, в которой о новой литературе говорят сами писатели «Литературный салон. С польскими писателями беседует Габриэла Ленцка» 47 - «оригинальный портрет польской литературы последнего десятилетия, написанный самими писателями,
т. е. коллективный автопортрет» . В нем представлены разные поколения и величины - от старейших и крупнейших (нобелевские лауреаты В.Шимборская и Ч. Милош, а также КБрандыс, Г. Херлинг-Грудаиньский, Ст. Лем, Сл. Мрожек, Я. Ю. Щепаньский, Р. Капущиньский) до дебютантов 1990-х (Ст. Хвин, О. Токарчук, М. Тулли, 36. Крушиньский). В 2002 году Станислав Бересь издал «Историю польской литературы в беседах. ХХ-ХХ1вв.», продолжив традицию популярных в Польше развернутых интервью с писателями (в разное время были опубликованы подобные беседы с В. Гомбровичем, А. Ватом, Г. Херлингом-Грудзиньским, Ю. Стрыйковским, Ст.Лемом, Т. Конвицким, Т. Ружевичем и другими). Книга Береся - сознательно скомпонованное собрание автопортретов, складывающихся в образ современной польской литературы. Здесь звучат голоса наиболее значимых фигур всех поколений последнего столетия - и «классиков», и писателей менее известных: от Ч. Милоша и Ст. Лема до молодых - А. Болецкой, 36. Крушиньского, А. Стасюка, О. Токарчук, М. Гретковской. В 2003 году вышел второй том «Бесед в новом столетии» (эта серия продолжила трехтомные «Беседы под конец века»), в который, в частности, вошли и интервью с писателями младшего поколения.
Наконец, следует отметить сборники статей о прозе 1990-х годов. «Спорные проблемы современной польской литературы» (1999) касаются ее лишь отчасти (статьи Я.Томковского «Похороны и эксгумация. Польский роман в 1976-1996», Г.Борковской «Стереть старую штукатурку с памятника польской литературе. О "молодой" женской прозе»). Полностью посвящены новой польской прозе сборник статей молодых литературоведов «Миры новой прозы» (2001), рассматривающих творчество некоторых дебютантов 1990-х гг., и второй том двухтомной «Польской литературы. 1990-2000» (2002), предметом анализа в которой стали темы, мотивы, произведения, их поэтика и создатели, литературная критика и ее спор о самом переломе - классицизм, традиции контркультуры, феминизм, духовность, метафизические мотивы, аркадия, политические проблемы, свобода, изображение ПНР, Кре-сы, малая родина, мотив старости, литература факта, научная фантастика и т. д. Сверхзадачей авторов стал пересмотр некоторых интерпретаций известных произведений.
Добавим также, что очень кратко касаются феномена молодой прозы и авторы историй польской литературы: Р. Матушевский в «Польской литературе 1939-1991» (1992), М. Домбровский в «Польской литературе 1945-1995. Основные явления» (1997), Ст. Стабро в «Польской литературе 1944-2000. Наброски» (2002).
Наконец, несмотря на декларируемое отсутствие дистанции по отношению к литературе 1990-х годов, уже появились и справочные издания, посвященные этому периоду. Прежде всего, это «Еще один Парнас. Словарь польской литературы, год рождения после I960»49 (1995). Молодая польская литература показана здесь через творческие биографии ее создате-
лей, статьи о важнейших периодических изданиях и новых течениях. «По возможности мы пытались объяснить, кто есть кто <..>, кто что пишет, а иные произведения даже пересказать. Мы также пишем о журналах, в которых выступает новая литература, и о самых популярных упорядочивающих ее терминах»50, - объясняют свою позицию составители. Это своего рода книга-манифест, написанная от имени «нас» (т. е. молодого поколения, к которому относятся и составители словаря), с элементами откровенного эпатажа, но обращенная к читателю и выполняющая функцию связующего звена в процессе коммуникации. В 2003 году вышла «Летопись литературной жизни. 1976-2000. События. Дискуссии. Итоги»51, составленная молодыми учеными П. Чаплиньским, М.Лечиньским (1975), Э. Шибович (1977), Б. Варкоцким (1977). Это уникальное издание, собравшее информацию об истории польской литературы последней четверти века. Год за годом в нем фиксируются факты, составляющие литературную жизнь во всех ее проявлениях: наиболее громко прозвучавшие книги, сведения о рождении и упадке периодических изданий, материалы о дискуссиях критиков, присуждении наиболее престижных премий, данные об издательском рынке, информация о смерти литераторов и пр. «Летопись» таким образом объединяет три области - историю и социологию литературной критики и литературоведения, летопись событий и состояние рынка.
Критика, материалом рефлексии которой стала молодая проза 1990-х, оказывается, таким образом, для нее самой и читателя не просто ее интерпретацией, но и самозначимым текстом - своего рода прозой о литературе, описывающей реальные формы ее существования. Это совершенно новая ее культурная ипостась.
Отметим также, что несмотря на то, что польские литературоведы, как было показано, в той или иной степени прослеживают ряд линий развития молодой прозы, целостной картины этой прозы в плане комплексного анализа ее поэтики на данный момент не создано.
Теоретически и методологически данная работа опирается на труды отечественных филологов, посвященных общим и частным проблемам поэтики (Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, ЛЛ. Гинзбург, С.С. Аверинцев, МЛ. Гаспаров, Б.А. Успенский, А. П. Чудаков и др.), отечественных и зарубежных теоретиков литературы (И. Ильин, Ж. Женетт, Р. Барт, Ж. Деррида, Ф. Лежён, П. Во, Г. Р. Яусс) и на работы отечественных полонистов (прежде всего, В.А.Хорева, Е.З. Цыбенко, А.Б. Базилевского, В.Я. Тихомировой). В разработке выбранной для исследования темы автор стремился к конструктивному совмещению сравнительно-исторического и типологического, структурного подхода к поэтике и формам бытования художественного языка, исходя из положения, что современность есть часть исторического процесса, и именно такое ее видение позволяет аргументированно говорить о типологии явлений.
Основные положения диссертационного исследования изложены в монографии «Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года» (М., «Индрик», 2005, 34а.л.), ряде статей52, апробированы в выступлениях на международных конференция: «Литература стран Восточной Европы и политические переломы рубежа 80-90-х гг.» (1997, Москва, ИСб РАН, тема доклада «Молодая проза Польши на переломе: поиски форм самовыражения как путь эстетической адаптации»); «Литературы стран Центральной и Юго-Восточной Европы 1990-х гг. Прерывность-непрерывность литературного процесса» (1999, Москва, ИСб РАН, тема доклада «Поэтика польской прозы 90-х: гипноз постмодернизма и реальные проблемы «выживания» литературы»); «Как соседи видят друг друга: поляки в глазах русских - русские в глазах поляков» (1999, Варшава, Институт славистики ПАН, тема доклада «Русский «бум» Иоанны Хмелевской: Postscriptum к «польскому мифу». Парадоксы и аберрации узнавания как реальность литературной коммуникации); «Россия -Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре» (2001, Москва, ИСб РАН, Институт литературных исследований ПАН, тема доклада «Личное пространство чужой территории: «Волчий блокнот» Мариуша Вилька и стереотип России»); «Круглый стол», посвященный проблемам современных литератур стран ЦЮВЕ (2003, Москва, ИСл РАН, тема доклада «"Прикосновение к судьбе". Герой молодой польской прозы после 1989 г.»); Дни российской науки в Польше (2004, Варшава, тема доклада «Европейскость» и пространство Центральной Европы в самоощущении новой польской прозы»); «Национальная идентичность литератур Центральной и Юго-Восточной Европы в условиях глобализации» (2004, Москва, ИСл РАН, тема доклада «Между миром и домом: язык пространства в литературном сознании современной Польши»); «Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура» (2004, Москва, ИСб РАН, тема доклада «Проблема "незрелости" в молодой польской прозе 1990-х годов»); «Круглый стол», посвященный проблемам современных литератур стран ЦЮВЕ (2004, Москва, ИСл РАН, тема доклада «О польской прозе поколений '70-80»). Текст диссертации обсужден в Центре по изучению современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН,
Концепция, обоснованная во «Введении», разрабатывается в пяти главах диссертации. Первая глава посвящена проблеме «переломности» 1989 г., чертам новой реальности и литературного быта Польши 1990-х гг., факторам, повлиявшим на формирование ментальносте младших поколений писателей, расстановке литературных поколений в исследуемый период. Во второй главе рассматривается главная компонента мироощущения молодой прозы - переживание амбивалентности пространства и времени как среды обитания. В третьей главе текстовое пространство молодой прозы рассматривается как определенное
соотношение структурообразующих элементов. Четвертая глава посвящена ключевому для литературы вопросу - пониманию человека, которое она воплощает в своих героях, а также исследуются чрезвычайно значимый для молодой польской прозы вещный мир и его разнообразные функции. В пятой главе речь идет о бытовании в Польше понятия и явления постмодернизма. В «Заключении» подводятся итоги исследования. Чтобы даты появления тех или иных произведений, а также годы рождения авторов не загромождали текст неизбежными повторами или, наоборот, не оказывались пропущенными там, где они должны по логике изложения быть, в конце работы помещены «Справки об авторах» (краткие биографические данные, сведения о получении премий и пр.) и библиография, в которую вошли список анализируемых произведений с указанием первой публикации, информации о наличии переводов на русский язык и выходных данных изданий, по которым приводятся цитаты, а также перечень теоретических и литературно-критических работ, на которые ссылается автор диссертации. Авторы исследуемых произведений указаны в алфавитном порядке, тексты - по году первой публикации (в круглых скобках). Далее следуют выходные данные издания, по которому приводятся цитаты. Имеющиеся другие переводы на русский язык даны курсивом. В самой диссертации после цитаты указывается (в квадратных скобках) автор, порядковый номер произведения по списку и номер (номера) страницы или, если автор уже назван в тексте, - только порядковый номер произведения и страница (страницы). Многие критические отзывы на молодую прозу, появлявшиеся сначала в периодике в виде статей или рецензий, несколько позже, как уже говорилось, вошли в отдельные книги критиков, посвященных молодой прозе. В диссертации эти отзывы, как правило, приводятся по книжным изданиям. Цитаты из анализируемых произведений и критических работ даются в переводе автора исследования. Исключение составляют: «Ханеман» и «Гувернантка» Ст. Хвина, «Монолог из норы» и «Песни пьющих» Е. Пильха (переводы К. Старосельской), «Вайзер Давидек» П. Хюлле (перевод В. Климовского), «Где собака зарыта» А. Видеманна (перевод Ю. Чайникова), «Страстописание» и «Метафизическое каба-ре» М. Гретковской (перевод Е. Янус), «Польско-русская война под бело-красным флагом» Д. Масловской (перевод И. Лаппо).
Между «переломом» и «продолжением»
Долгий и бурный спор в польской критике и литературоведении - является ли переломным для польской литературы 1989 год («с 1989 года в польской литературоведческой мысли на всех ее уровнях ... от ежедневной газеты до специальных научных изданий -идут дебаты о переломе. Они принимают форму вопросов и утверждений, оценок и сомнений, анкет и серий интервью, но в центре - неизменно поиск признаков перелома» 53) - завершился выработкой временного «компромисса». Искомый перелом был назван «беспереломным» 54 (а также «переломом консервативным» 55, «консервативным новаторством, революцией в рамках приличий» 56). Критика тут же иронически поместила эти термины в контекст аналогичных словосочетаний - таких, к примеру, как бескофеиновое кофе и безалкогольное пиво57. «Вместо собственно перелома, перелома на полную катушку, перелома масштабов перехода от современности к постсовременности мы столкнулись с явлением туманным, смутным, путающим следы» , - подвел итог один из ведущих молодых критиков молодой прозы П. Чаплиньский.
Естественно, что обнаружив первые заметные признаки перемен в литературе и литературном быте (стремление к провокации, ироническое отношение к романтическому мифу «польскости», отход от «польских» проблем вообще и пр.), критики и литературоведы с энтузиазмом заговорили о переломе: «мы - свидетели завершения эволюции форм» 59; «На вопрос - "Какие явления в польской литературе завершились, исчерпали себя?" -можно ответить однозначно и просто: все! Мертва вся прежняя модель функционирования литературы»60; «Просто конец. Конец всему»61; «Литература ПНР закончилась»62 и пр. Один из исследователей даже предположил, что свою роль при этом сыграла «своего рода интеллектуальная конкуренция: нельзя же уступить в быстроте реакции и точности описания экономистам, историкам, политологам или социологам» 63. И в самом деле, после 1989 года в Польше вышло немало работ64, в которых делалась попытка дать цельную картину совершающегося или даже совершившегося перелома - политического, культурного, ценностного и пр. И это - не считая бесчисленных публикаций в прессе. Интересно, что к этой проблеме вновь вернулись критики и литературоведы почти десятилетие спустя: «В культурном значении, как и в ... политическом и экономическом, 1989 год представляет для
Польши безусловную цезуру ... » 65; « „. начинается повесть о новой литературе. Повесть о том, как она начала освобождаться от ярма патриотического стереотипа, национальной символики» и т. д.
Однако и в начале, и в конце 1990-х гг. звучали также скептические голоса противников механического подчинения литературной хронологии политическим событиям. Подобный подход ассоциировался у этих критиков с самыми худшими литературно-критическими традициями ПНР («литературно-критической манипуляцией» 67) и непризнанием имманентного развития искусства: «1989 год не означает никакого перелома в литературе, в частности, потому, что это лишь продолжение процесса, чьи корни уходят в "оттепель", - с искусственными водоразделами, выискиванием ложных ориентации, формированием неотличимых друг от друга "поколений"» 68. Наиболее категорично высказывался другой ведущий молодой критик, К. Униловский, которому претила «уверенность, будто смена строя непременно порождает новую литературную ситуацию и новые художественные явления» 69 и который, призвав не путать «смену парадигм с переменами внутри парадигмы» 70, утверждал, что «литература тридцатилетних .„ сама создала миф о том, что якобы народилась ex nihilo на рубеже 1989 и 1990»71. Униловского поддержал Р. Мельхорский: «Следовало бы вспомнить школьную истину: вступление в литературу очередного поколения, то есть перелом в смысле смены генераций - факт, который я не собираюсь опровергать, - не есть синоним перелома во всей польской литературе в целом» .
Критик, эссеист, писатель Ю. Корнхаузер вносил свои коррективы, утверждая, что «отчетливая граница между двумя литературными эпохами» еще не была заметна в 1990-м году, и перелом «возможно, наступил примерно в 1992 году, когда вышла первая серия поэтических дебютов, изданная фондом "бруЛьона"» 73 [«бруЛьон» - «поколенческий» журнал, который начал издаваться в 1986 г. нелегально, вскоре стал ассоциироваться с литературной провокацией, а к 1989 г. приобрел репутацию весьма скандального издания нового литературного поколения новой Польши. В переводе с польского «brulion» - «черновик», и, по словам главного редактора журнала Р. Текели, это был «черновик всей польской культуры». Журнал практически перестал выходить к середине 1990-х годов]. К. Униловский же, напротив, утверждает, что к концу 1990-х годов какие бы то ни было иллюзии относительно перелома должны были развеяться.
Примерно таким оказался разброс точек зрения на литературную ситуацию последнего десятилетия XX века, которое началось тем не менее с кардинальных перемен в жизни Польши — иначе откуда все эти бурные дискуссии? Говоря о хронологических вехах того или иного периода, не следует забывать, что любые границы в истории литературы условны. Они сами - в той или иной степени «результат договора» (термин польского исследователя А. Хрушчиньского74), т.е. статистически возобладавшего мнения, авторитетности той или иной точки зрения. «Каждый раз, пытаясь описывать литературу XX в., мы наталкиваемся на барьеры эпох, периодов и этапов. Разумеется, они строятся не на пустом месте: одни навязаны историческими событиями (например, даты: 1918, 1939, 1945, 1956, 1968, 1976, 1989), другие - результат рефлексии историков над эволюцией литературы, хотя также явно детерминированной внешними относительно нее самой событиями (1905, 1932, 1976)»75.
Исторический перелом - революция, война, смена строя - разумеется, не вызывает автоматически немедленных изменений в искусстве. Нередко они происходят раньше, как предвестники перемен исторических, иногда - позже, как их последствия. Однако в любом случае исторический катаклизм меняет положение и восприятие литературы, ее позицию по отношению к внелитературной реальности - политике, финансам, общественном бытии, всевозможными потребностям и запросам публики.
Между центром и периферией: пространство польской современности
Психологически человек всегда неотделим от пространства своего существования. Разделенное с социумом и глубоко личное, оно определяет большинство его внешних и внутренних проблем. Объективно существующее пространство порождает бесконечное число вариантов его восприятия, оказывает влияние на психику, поведение, зачастую обнажая внутренние противоречия и комплексы. Пространство - не декорация человеческой жизни, а ее соучастник.
Личный опыт, сознание и писательское зрение молодых польских прозаиков формировались на фоне ослабления макросоциальных связей. Возможно, поэтому большинство этих писателей довольно долго избегали в своих произведениях и самих реалий польского пространства, и неразрывно связанных с этим пространством польских «проклятых проблем» (и даже, как категорично утверждал А. Фьют, «польских имен» 195).
Появляющийся же образ постсоциалистической Польши весьма мрачен. Рассказчик повести П. Хюлле «Мерседес-бенц. Из писем к Грабалу» противопоставляет юношеский романтизм борьбы за независимость наступившей затем прозаической реальности: «фестиваль свободы, ветер с моря, которым мы так патетически захлебывались, сменившийся ... неизбежным политическим болотом, мукой повседневности, поэзией афер, эпикой обманов, ярмаркой тщеславия, словом, нормальной жизнью»). Более того, он проводит параллель между нацистской Академией практической медицины с ее доктором Шпанне-ром - и Академией сегодняшней с ее доктором Элефантом, который, «давая шанс выжить, ... исходит не из национальности или вероисповедания, а лишь из финансов, чистых и стерильных банкнот...» [44; 123, 67-68].
Словно ощущая, что абсурд постсоциалистическогой повседневности невозможно изобразить реалистически, М. Сеневич и П. Семён вводят в повествование элементы мистики и гротеска. Показательно, что М. Сеневич воплощает в романе «Четвертое небо» идею страха перед «захлестывающим» Польшу западным капитализмом в фантасмагорической картине, рисующей пришествие современного дьявола, а П. Семён называет свой роман, рисующий контрасты современной польской жизни, политически-финансовые махинации, возрождение национализма, нищету и нуворишество и пр., «Finimondo», т.е. «судный день».
Город. Реальный опыт большинства молодых польских писателей - преимущественно городской, а урбанизм - условие их жизни и ее качество. Характерная для большей части молодой польской прозы критика города и символизируемой им цивилизации восходит еще к романтизму и не раз возрождалась в культуре, обновляя «топос города-чудовища, города-джунглей, несущего гибель как человеческой индивидуальности, так и человеческому сообществу, обращающемуся в разобщенную толпу, легко поддающуюся коллективному гипнозу и страдающую нравственной безответственностью» 96.
Повествователь романа К. Варги «Каролина» называет свой город «душным, липким и грязным» [121; 5]. Героиня же «Этим летом в Завротье» X. Ковалевской определяет свои «расхождения» с городом как этические, а не эстетические: ее угнетает не уродство стандартных новостроек, а то, что в них, словно в бесчисленных зеркалах, штампуется и, тем самым, обесценивается человеческая жизнь: « ... повторяющиеся, совершенно одинаковые... Коснешься любовника на одиннадцатом этаже, машинально глянешь в окно — твой жест копирует пара на седьмом этаже соседней многоэтажки»; «Многоэтажное блаженство! Под скрип диванов, обитых одной и той же искусственной тканью! Многоэтажная оргия!» Даже исключения здесь носят массовый характер: «Только одно окно не хочет погаснуть. Всегда найдется исключение, в каждой многоэтажке. Но на целый город таких негасимых окон - десятки, а может, и сотни» [51; 95-96, 98]. Они лишь подчеркивают безликость существования жителя мегаполиса. К. Варга говорит о техногенном «городе-галактике Билла Гейтса» [116; 13], героиня рассказа О. Токарчук «Ариадна на Наксосе» (сб. «Игра на разных барабанах») сравнивает многоэтажный дом с «гигантским кубиком Рубика» [108; 232]. Время здесь лишено конкретики и неповторимости каждого дня («пять тысяч одинаковых утренних часов») и, в конце концов, замирает: «часы на башне показывали четверть четвертого неведомого дня» [Стасюк, 94; 11, 16]).
Уродство современного города видится метафорой уродства всей современной жизни: « .„ ничего, кроме эха среди камней, грохота мусоровозов, криков, свиста ветра в трамвайных проводах, подземных стонов поездов, завывания машин и визга тормозов на поворотах» [Стасюк, 94; 64]. Стасюк дает почти апокалиптический образ: «Последний Суд и Воскресение из мертвых в гигантских масштабах крупнейшего в городе перекрестка. ... подъезжали трамваи - "Фа", "Сахар укрепляет", воскресшие погружались в них, словно восставшие из мертвых мумии, и отправлялись навстречу приговору» [89; 32]. Этот жутковатый, пугающий и завораживающий город-муравейник представляется погруженным под землю (буквально или метафорически): «Фасад, ... казалось, вот-вот провалится под землю»; «дома все глубже врастали в землю» [Стасюк, 94; 13, 26]; «дно цементного оврага»; «пропасть подземного перехода» [Стасюк, 89; 14, 28]; «стекавшая под землю живая река лиц, рук и ног» [Хвин, 15; 198]; «город, который ... каждый год миллиметр за миллиметром погружался в химеру собственных мифов» [Хюлле, 44; 111]; «Каждый город-это руины» [Струмык, 100; 22].
Пространство героя этой прозы, резонирует на переживаемое им состояние, и принимает форму и звучание этих эмоций. Город предстает лабиринтом: по сути, кошмарно-фантасмагорический образ польской столицы из антиутопии писателя старшего поколения М. Лукашевича «Варшавская Атлантида» не слишком сильно отличается от Варшавы, описанной в далекой от фантастики прозе А. Стасюка. К. Варга в повести «Парни не плачут» сравнивает «кошмарные муравейники»-города с лабиринтами эвакуационных выходов, по которым движутся «тени мертвых жителей да злодеи» [116; 128]. Герой единственного современного романа Ст. Хвина «Золотой пеликан», поначалу воспринимавший город как доброжелательную, естественную, обжитую и понятную среду обитания, во время внутреннего кризиса склоняется к антиурбанистическому видению мегаполиса-молоха: «Лифт шумел за стеной, опуская в омут серого дня очередные партии несчастных»; «Город был подобен окутанной прозрачной кисеей шахматной доске с неведомыми правилами игры» [15; 144,205].
Между событием и словом: сюжетное и несюжетное повествование
Во второй половине 1970-х годов польский роман в значительной степени утратил свою былую популярность во всех «кругах обращения» - официальном, подпольном и эмигрантском. В официальной печати препятствием являлась цензура, наиболее яркие достижения эмигрантской литературы на тот момент относились к прошлому, что же касается «самиздата», то здесь художественная проза уже «на старте» проигрывала документальной - любой необработанный материал казался более ценным, нежели самое изощренное сюжетное повествование: задача слова виделась в том, чтобы оставить свидетельство времени, и самый прямой путь к этой цели, по мнению читателя и критики, лежал через документалистику.
Е. Анджеевский, Л. Бучковский и некоторые другие писатели, а также исследователи тогда публично заявляли о своем недоверии к романной форме. Вышедшее еще в 1971 году исследование Т. Бурека носило выразительное название «Вместо романа», а ближе к 1980-м годам - в очередной раз - заговорили о «смерти романа», все чаще уступавшего место «сильве», эссе, интервью-реке, дневникам или «лжедневникам». Польский роман и в самом деле переживал кризис. По замечанию современного польского литературоведа Я. Томковского, «читатель мог - почти не рискуя ошибиться - угадать, какой будет следующая книга Стрыйковского, Бучковского, Парпицкого, Лема. Сенсация казалась столь же маловероятной, как и серьезный провал» 305. Бытовало мнение, что молодое поколение прозаиков по своим масштабам значительно уступает предыдущему, которое теперь также находилось не в лучшей форме. Читатель ощущал некоторую исчерпанность романной схемы, основанной на военной теме (проза Б. Войдовского, Вл. Одоевского, В. Мысливского, Т. Конвицкого, М. Бялошевского), исторических сюжетах (проза Л. Бучковского, А. Кусьневича, Т. Парницкого, В. Терлецкого), галицийских мотивах. Существовала потребность в современном романе - психологическом, политическом, социальном, функции которого, как обычно в подобные периоды, взяла на себя тогда в этом смысле более оперативная текущая беллетристика, имевшая своего читателя.
Но в то время, как от польского автора читатель требовал прежде всего достоверности - дат, имен, фактов, необработанного материала - от зарубежного писателя он готов был принять любые, самые сложные повествовательные конструкции. И на конец семидесятых приходится настоящий бум в Польше латиноамериканской литературы, возродивший веру в возможности художественной прозы и оказавший немалое влияние на дальнейшее развитие польской культуры: ведь сложное смысловое пространство, образующееся в результате перевода и его прочтения в новом, иноязычном контексте, неизбежно становится, в свою очередь, фактом художественного языка другой литературы.
Это явление оказалось поистине беспрецедентным в истории польского восприятия зарубежной литературы - впервые предметом обожания стала проза целого континента. Это был период, когда польские переводы появлялись с минимальным для социалистической Польши опозданием (год-два). Интересно, что роль критики была здесь минимальной- комментаторами выступали сами переводчики. Естественно, быстро появились и польские последователи Кортасара и Маркеса, эссеисты, пишущие «под Борхеса» и пр. По-своему «поощряла» интерес к латиноамериканским писателям сама власть, поскольку эти прозаики, в основном придерживавшиеся тогда левых взглядов, казались цензуре «безопасными». Но, в первую очередь, страстное увлечение прозой А. Карпентьера, X. Кортасара, В. Льосы, X. Л. Борхеса, Э. Сабато, Н. Фуентеса, Г. Гарсия Маркеса и других объяснялось потребностью читателя в элитарной и одновременно увлекательной прозе, на создание которой он, как уже говорилось, парадоксальным образом не мог «благословить» писателя-соотечественника (по замечанию П. Чаплиньского и П. Сливиньского, кризис фабулы в эти годы связан также с тем, что литературу призывали говорить правду, отражая обыденный жизненный опыт - а одной из черт социалистической действительности была статичность306). В это же время «ходила» в «самиздате» и проза Б. Грабала, М. Кундеры, драматургия Гавела, которые также явились эстетическими импульсами и катализаторами. Свою роль в эволюции литературного сознания и языка сыграло и чуть более позднее увлечение широкого польского читателя литературой США - творчеством Дж. Барта, Д. Бартелми, Р. Кувера, Т. Пинчона, У. Гэддиса, X. Мэтью, С. Беллоу, К. Воннегута, Дж. Хокса, Дж. Ирвинга.
По словам П. Чаплиньского, главным «эффектом» подобного читательского опыта оказалось не только «расширение возможностей жанра, категории достоверности, искусства иронии, ошеломляющего остранения казавшихся устаревшими романных приемов и традиций», но и «возрождение сюжетной прозы как таковой, психологический импульс к описанию мира, созданию адекватного опыту XX века аналога реалистического ... рома на и завоевание прозой новых позиции в системе культурных ценностей» .
В середине же 1980-х годов начинается процесс, обратный тому, что происходил во второй половине 1970-х: если тогда документальная проза вытеснила со сцены художественную, то теперь, после очередного всплеска «литературы факта» (в частности, оказавшегося реакцией на введение военного положения, интернирование деятелей культуры и т.д.) и «прививки» латиноамериканской и американской прозы, ориентированное на документалистику течение, в свою очередь, начинает переживать явный кризис. Доминировавшие в польской прозе критерии - в основе своей идеологические - приводят ее к статистически накапливаемой невозможности создать необходимую психологическую и художественную дистанцию между автором, повествователем и читателем, к коммуникации на уровне очевидности, а нередко и к поверхностной описательности и злободневности (ярким примером оказывается книга Т. Конвицкого «Подземная река, подземные птицы», 1984, именно в этом смысле уступающая по уровню его знаменитому «Календарю и клепсидре», 1976).
В это же самое время, как уже говорилось, некоторые дебютанты, ощущая исчерпанность предлагаемых современной польской литературой ролей писателя, попытались выйти за рамки прагматики политической борьбы, идеологически маркированной позиции повествователя. Однако те же обстоятельства, которые подтолкнули молодых авторов к художественному эксперименту, помешали им быть услышанными. Читатель, хотя и начавший «уставать» от этически-идеологической нагрузки литературы, в силу исторических обстоятельств был еще не готов отойти от парадигмы, в которой традиционно развивалась польская культура - отделить литературу от политического протеста, «освободить» писателя от роли нравственного наставника общества. Р. Шуберт, М. Солтысик, 3. Огиньский, Ю. Лозиньский и другие представители «художественной революции», исповедовавшие идеи перенесения акцента с того, о чем говорится, на сам речевой акт; «непрозрачного» языка (призванного заменить дискурс репортажа), эстетики (а не этики) и самодостаточности литературы, практически потерпели фиаско: молодых прозаиков обвиняли, с одной стороны, в политическом конформизме, с другой, во вторичности, подражании западным авторам. Итак, отказываясь тогда от «национального кода», писатель практически утрачивал возможность быть услышанным.
Поэтому 1989 год, по словам П. Чаплиньского, польской прозе был «просто необходим, ибо освободил ее от прежних установок, тем самым предоставив шанс измениться. Вероятно, новая проза обошлась бы и без подобного катализатора, поскольку дебютанты второй половины 1980-х застали, с одной стороны, литературу, созревшую для пародии, с другой - плодородную почву несбывшихся надежд» 308. Иными словами, польская проза обошлась бы и без помощи политики, хотя обновление, видимо, шло бы медленнее и не подстегивалось подобным общественным энтузиазмом в отношении себя. Свидетельством того, что к 1989 году польская литература была готова к переменам, может служить то, что уже в 1987 году появился «Вайзер Давидек» П. Хюлле, а в 1988 - «Признания создателя потаенной эротической литературы» Е. Пильха - книги, оказавшиеся своего рода ориентирами для двух направлений развития прозы в последующие полтора десятилетия. В этих произведениях «можно увидеть две основные реакции прозы на сложившуюся к концу 1980-х годов ситуацию»: «на антивымысел новая проза отреагировала усиленной литературностью, метафикциональностью, которая вскоре дала две тенденции. Первая противопоставлена прежней бессюжетности и предлагает читателю привлекательную фабулу, вторая возникла как отрицание «непосредственности» [прямолинейности описания реальности] и пошла по неэпическому пути» 309. Итак, после 1989 года несюжетность («фабулярная засуха», по выражению одного из критиков) в значительной степени уступила место сюжетности, «прозрачный» язык, главной задачей которого было «протоколирование» действительности - языку метафорическому, самоценному, привлекающему к себе внимание читателя, наконец, «коллективная», заданная априори этика - этике индивидуальной и нередко провокационной.