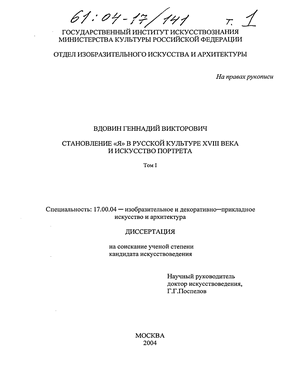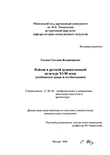Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 От "личного" к "личному". К проблеме эволюции психологической проблематики русской портретописи XVIII- начала XIX века 21-80
Глава 2 От "замещения" к "двойничеству". Портрет и зритель в России XVIII века 81 - 145
Глава 3 От "работника" к "гению". Рождение автора в русской портретописи XVIII века 146 - 184
- От "личного" к "личному". К проблеме эволюции психологической проблематики русской портретописи XVIII- начала XIX века
- От "замещения" к "двойничеству". Портрет и зритель в России XVIII века
- От "работника" к "гению". Рождение автора в русской портретописи XVIII века
Введение к работе
Я связь миров повсюду сущих, Я крайняя степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начальна божества: Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь — я раб — я червь — я бог! Но, будучи я столь чудесен, Отколе происшел?— безвестен; А сам собой я быть не мог.
Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, обещание сдержала. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительных своих исключений.
Вообще, не потому ли философам и психологам не удавалось найти «седалище души», что его искали внутри, тогда как она, душа, вовне, мягким, воздушным покровом облегает «нас». Но зато и удары, которые наносятся ей, — морщины и шрамы на внешнем нашем лике. Вся душа есть внешность. Проблема бессмертия была бы решена, если бы была решена проблема бессмертного овнешнения. Г.Г. Шпет Русскую портретопись XVIII в., равно как и всю отечественную культуру позапозапрошлого столетия в целом, нельзя назвать малоизученной областью истории искусства. С «открытием» мирискусниками российского художества «галантного», как думалось, века, увидели свет сотни работ, посвященных как отдельным вопросам и монографическим темам, так и стилевой эволюции, историко-художественному процессу вообще. Но эту область гуманитарии не минула судьба всех общественных наук XX столетия. Она, также как и многие.другие дисциплины, вынуждено отошла от главного своего предмета — собственно человека. Причин тому немало — и внутренних, принадлежащих логике развития науки, обусловленных неизбежным этапом формализации гуманитарии, пришедшимся на конец XIX-XX в., и внешних, связанных с грандиозными политическими и социальными катаклизмами нашего столетия.
Последняя треть XX века отмечена «возвращением» гуманитарии к человеку, возвращением, значимым для всех гуманитарных отраслей-знания. Таковы работы Д;С. Лихачева; Ю.М; Лотмана, С.С. Аверинцева, АЛ. Гуревича, И.П. Вейнберга, А.В. Михайлова... Однако, фиксируя энергичное изучение человека в русской медиевистике, с одной стороны, и пристальное внимание к ней ученых, исследующих XIX в., с другой, мы вынуждены отметить отсутствие интереса к этому вопросу в отечественной новистике. Мало занимает она не только искусствоведов, но и историков, филологов, философов. И хотя подступы к теме продуктивно осваивались Ю.М. Лотманом и учеными его школы , опытов исследования проблемы «Я» в российской культуре XVIII в. по сию пору нет .
Между тем, проблема человека для изучения русской культуры раннего Нового времени более чем актуальна. Главной причиной тому — явление в культуре XVIII века, принявшей на себя, как известно, функции эпохи Возрождения в России; человека как такового, собственно человека. Ведь отделение нововременного «Я» от средневекового «мы» — нерв всякого национального Возрождения, когда бы и где бы оно ни состоялось.
Нынешнее обращение историков искусства к проблеме человека в культуре XVIII столетия вызвано к жизни как объективными, так и субъективными причинами. Субъективно то, что ни филологи, ни историки, ни философы не выказывают достаточного интереса к теме. Объективно же то, что именно история искусства и, в первую очередь, история портретописи «выгодны» для ее изучения. Ведь в отличие от литературы позапозапрошлого века, где человек очень еще абстрактен, схематичен, придуман, в отличие от истории отечественной философии, которая, во-первых, еще не разработана, а, во-вторых, трудно изучаема в силу особой склонности русской мысли не столько к философии, сколько к философеме, именно портретопись- XVIII- века хорошо- изученная- эмпирически и в достаточной степени сохранившаяся, отразила облик героя столетия, сохранила его для потомков, зафиксировала процесс «вочеловечивания» культуры, запечатлела ту самую «душу», что «вовнйевншйешиаеЕГжеловеку как к таковому, к облику его и образу, к его месту в мире и роли в нем, к самоощущению его, самопредставлению, самосознанию — главная причина кризиса, переживаемого в последнее время историей русского портрета. Надежды 1970-х — 1980-х гг., связанные с обращением искусствознания к проблемам «примитива» (в том числе и портретного), к вопросам провинциального портрета, увы, не оправдались. Ожидания того, что изучение иных состояний «Я», зафиксированных в провинциальном, купеческом, мещанском и др. видах портрета, даст импульс к поискам не только формальных отличий этих портретных форм от «эталонных» (столичных), но и к осмыслению разности мироощущений, самомнений, ментальностей, бытовых клише и пр. оказались тщетными. Иначе и быть не могло, поскольку проблема человека не может быть решена с помощью вельфлинианской и поствельфлиниан-ской методологий. Она настоятельно требует того подхода, что обозначается аморфным понятием «психоисторический», но позволяет исследовать наш предмет, то есть «душу», которая «есть внеш ность», подкрепив анализы методами исследований других гуманитарных наук.
Ясно, что работа, посвященная человеку в России XVIII века, состоянию героя эпохи, его облику, отраженному в зеркале портре-тописи, не может не быть психоисторической, опирающейся не только на разнообразные источники, но и на разнообразные методы, выработанныегуманитарией: Очевидно также, что, обращаясь к подобной теме, мы вынуждены строить лишь модель, схему процесса. Всякая модель всегда условна, всегда приблизительна, всегда лишь стремится охватить многообразие явлений. Первая модель условна еще более, как всякий начальный опыт. Но она необходима, актуальна именно потому, что изучение истории русского искусства по-запозапрошлого века вообще и истории отечественной портретопи-си в частности достигли теперь той критической точки, дальнейшее движение от которой невозможно без опытов решения проблемы
Подобный «психоисторический» поворот искусствоведческой штудии накладывает определенные ограничения на возможности искусствопонимания в традиционном, устоявшемся его виде. Неминуемо, как кажется, игнорируется проблема художественного качества, живописного совершенства, уровня «столичности» манеры. Ставится, казалось бы, знак равенства меж «ремеслом» и «маэстри-ей», «мастеровым» и «эталонным», «обыденным» и «высоким». Но, в действительности, избранный аспект может позволить по-новому увидеть самое художественное качество. Ведь, если цель портрета как такового и впрямь исторически стремится к запечатлению своеобычия фиксируемого «Я», то мало-мальски приближенная к исторической действительности схема процесса «вочеловечивания» культуры позволит иначе увидеть то, что имеет давно сложившуюся репутацию, позволит другими глазами взглянуть именно на это своеобычие, отраженное портретным зеркалом, позволит смотреть на героя эпохи не только нашим (современным) зрением, но и «их», позволит, если не сойти с порочного пути психологической модернизации исторического облика, то, хотя бы, приостановить этот слишком уж далеко зашедший" процесс. Другое же ограничение избранной методы заключено в том, что невозможно, конечно же, рассмотреть при первом приближении весь ход процесса «гоминиза-ции» во всей его глубине по бескрайним пространствам России, по всей его широте многомиллионной Руси. Не создав первой модели, мы не можем обратиться к рождению и утверждению будущей «личности» во всех классах, слоях, социальных группах, хотя изначально ясно, что процесс этот шел среди крестьянства иначе, нежели среди купечества, в «третьем слое» не так, как у властьимущих, у провинциального дворянства не так, как в «столицах»... Мы вынужденно строим нашу модель по общественной «элите», по культурному «авангарду», иногда лишь предполагая ход процесса в иных слоях, источники к изучению которых куда как менее обширны.
Проблематика «Я» в русской культуре XVIII века настоятельно требует привлечения широкого круга источников: мемуаристики и газетной хроники, эпистолярного жанра и философских сочинений, медицинских трактатов и теологических опусов, камерфурьер-ских журналов и, само собой, произведений изящной словесности. Известная скудость русского материала в сравнении с западным, с одной стороны, и энергичное вхождение России в общеевропейское братство, сопровождавшееся известным параллельным процессом «гоминизации» в Европе, с другой, принуждают нас подчас обра щаться за аналогиями к западноевропейским источникам (в первую очередь к философским и литературным). Среди них нельзя не отдать предпочтения немецким и, отчасти, французским. Первым — как наиболее отрефлексированным и систематизированным в смысле философском. Использование их правомерно еще и потому, что стилевая и, более того, историко-художественная эволюция германского мира ближе всех-остальньіх ісрусской. Французские же источники и образцы интересны как своего рода общеевропейские эталоны позапозапрошлого столетия. Но мы отдаем себе отчет в том, что привлечение к интерпретации психологического процесса в России инокультурных источников (в особенности немецких3), сколь бы схожими не представлялись процессы, чревато нарушением «ментальносте» и «идеологии» в пользу последней, чревато излишней кристаллизацией того, что в Германии уже «стало», «застыло», «состоялось», в России же еще (если не «всегда») «магма», чревато перевесом немецкой «уже-философии» перед русской «еще философемой» (или «всегда-философемой»4?). Но, отдавая себе отчет в опасностях избранного пути, мы не располагаем пока иной дорогой. Мы вынуждены идти по избранной, пытаясь удержаться на зыбкой грани «выговоренного» и «невыговоренного», «идеологии» и «ментальносте», «сказанного» и «подразумеваемого», «слова» и «намерения» Сама наша цель — понять, как из аморфного средневекового «мы» явилось нововременное деятельное и рефлексирующее «Я»,. как из родового «тела» явилась «самость» — осложняется именно «идеологией», именно «словом», выговоренным не единожды.
Ведь на протяжении нескольких столетий одной из главных преград к изучению эволюции «Я» в культуре и искусстве был ран-небуржуазный в генезисе миф «вечных истин». И, хотя борьба с ним заняла немало времени в развитии различных школ и направлении (от этики и истории марксизма до герменевтики, от «опоязовцев» до семиологов), миф продолжает существовать и функционировать, пока есть предпосылки к его «цветению», пока бытует «гиперпсихологизм», давно уже ставший отнюдь не союзником в изучении истории культуры, но тормозом в нем. Десятилетия тому назад было ясно, что «болезненный кризис современного человечества связан с трудностью выхода из психологической эпохи, эпохи субъективизма, замкнутого индивидуализма, эпохи настроений и переживаний, не связанных ни с каким объективным и абсолютным центром»5. Век как понятно — «чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, и все общие понятия, и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий — психология»6 (здесь и далее курсив мой — Вд., подчеркивания же — авторские).
«Всему назначена цена своя и свой жизни срок», — сказано некогда мудрецом. Оставя цену философам, обратимся к истории, к «жизни сроку», к сроку тех самых «вечных истин», возраст которых при ближайшем рассмотрении не превышает нескольких столетий. Традиция беспощадной поэтической эксплуатации таких максим, как «тайна вечно женственного», или же «бездны души», или же «очарование детства» породила иллюзию их надысторического предсуществования, их неподвластности времени. Парадоксально, но именно романтики, столь остро ощутившие необратимое течение времени, осознавшие историю как процесс, не только не довели свое открытие до конца, а, напротив, во всеуслышание, куда как громче предшественников постулировали неизменность «общечеловеческого», константу родового, дооформили возрожденческую в истоке идею «вечных истин». И нам, живущим в начале XXI столетия и воспитанным на многих романтических идеях, трудно расставаться с иллюзиями,- мучительно сознавать, например, что у эллинов не было ни понятия, ни слова, обозначающего «совесть» , что категория «честь» в предыдущих редакциях не имеет ничего общего с тем, что под нею подразумеваем мы8, что пресловутому «очарованию детства» едва исполнилось двести лет9, что исторически развивается сама любовь , что даже расхожее словцо «переживать» явилось нам совсем недавно11, что термин «психологическое» в толковании сколько-нибудь приближенном к нашему появляется в европейских словарях лишь в середине XVIII века12... Однако, как справедливо заметил еще Марк Блок, слово не всегда рождается вместе с понятием. Они отнюдь не близнецы. Понятие же — далеко не всегда повивальная бабка слову13. И потому, обращаясь к временам «допсихо-логическим», исследователь испытывает немалые трудности в интерпретации того или иного героя, того или иного поступка, того или иного портретного образа.
Необходимость же, возможность, да и интерес изучения психологической проблематики в России XVIII столетия обусловлены двумя обстоятельствами: хронологическим, тем, что все исследователи процесса «гоминизации» — от В.И. Вернадского, Тейяра де Шар дена, Анри Брёйя, Мишеля Фуко до Эрвина Панофского и А.В. Михайлова14 — так или иначе, фиксируют именно рубеж XVIII-XIX столетий как важнейшую границу «психозоя» в Европе; с позиции национально-культурной — тем, что русская культура Нового времени, переживающая уплотнение эволюции, наложение этапов, ускорение темпов являет собой, в известном смысле, идеальный «полигон» для опыта интерпретации процесса, занявшего в иных европейских традициях несколько столетий. (По точному поэтическому слову — «Россия — опытное поле...»).
В- сложившихся- искусствоведческих; да и вообще гуманитарных воззрениях на психологическую проблематику культуры сосуществуют две крайние, на поверхностный взгляд исследовательские позиции. Некая «гиперпсихологическая», во-первых, наделяющая всякий портретный образ всякой эпохи всем тем, что может думать и чувствовать наш современник. И, во-вторых, своеобразная «умол-чательская», неравнодушная, казалось бы, к вопросу о неподобии «их» и «нас», но выносящая все этическое, психологическое и пр. за скобки. Между этими полюсами — красочный спектр более или менее радикальных точек зрения и «фигур умолчания». Однако, конфронтации меж ними нет, поскольку сторонники «умолчания», не давая сколько-нибудь внятного ответа на вопрос о становлении «Я», отрицая, таким образом, эволюцию «внутреннего», невольно становятся сторонниками «гиперпсихологизма». В конечном счете, и те, и другие переводят проблему из границ исторического знания в область этического («Сами участники грозного пира, // Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира...»?), где ответ задан и предрешен.
По сути, обе позиции доводят до логического завершения (логического абсурда?) недопонятую мысль М.М. Бахтина о «вненахо-димости» исследователя. «Великое дело для понимания — это вне-находимостъ понимающего — во времени, в пространстве, в культуре — по отношению к тому, что хочет творчески понять, —писал Бахтин, — Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже»15. Однако, один только взгляд со стороны, будь назван он «вненаходимостью», будь он, в интерпретации В.Б. Шкловского, назван «остранением», задавая систему ценностей эпохи исследователя, не учитывая системы ценностей эпохи изучаемой, не совмещая «вненаходимость» с «находимостью», «остра-нение» с «погружением», ведет к демиургическому чувству превосходства над изучаемым, приводит к исторической модернизации исследуемого, навязывает прошлому современные принципы, сегодняшние понятия, нынешние категории...
В действительности же нетрудно убедиться в том, например, что обретение некоей «нервической» проблематики бытовым клише Нового времени происходит достаточно поздно. Наблюдательней-ший М.И. Пыляев красноречиво свидетельствовал: «Женские нервы в конце столетия (XVIII — Вд.) не были еще известны, хотя и тогда прекрасные половины падали в обмороки. Обмороки в это время вошли в большую моду и последние существовали различных названий: так, были обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, вапёры Омфалы, «обморок кстати», обморок коловратности и проч., и проч. Нервы стали известны чуть ли не в двадцатых годах нынешнего (то есть XIX — Вд.) столетия; стали входить они в моду вместе с искусственными минеральными водами...»16..Конечно, не следует полагать, будто нервы, отделенные от сухожилий, то есть открытые анатомически еще на рубеже IV-III вв. до н.э. Герофилом Хелкедонским и Эрасистратом, были и в самом деле неведомы до 1820-х гг. Им просто не придавали того значения, что романтики, поголовно страдавшие нервическими расстройствами и маявшиеся «аневризмами», да и не могли еще придавать . Ведь только в 17 г. французский медик Ж. Астрюк высказывает предположение о том, что мозг — центр всех нервных волокон; только в 1747 г. швейцарец А. Галлер намечает основные положения теории раздражимости; только в 1784 г. чех Й. Прохаска открывает прямые связи нервного рецептора и двигательного нерва, объясняя тем самым рефлекс и отличая, наконец, сознательное движение от рефлекторного; только-в-1826-г. немецкий"физиолог И: Мюллер формулирует теорию «специфической энергии органов чувств»... Всем этим открытиям, равно как и многим другим, предстоит соединиться в более или менее целостную научную дисциплину, в психологию, лишь в начале XIX века. И далеко неслучайно это романтическое открытие психологии идет параллельно поискам в области психологизации живописи и литературы, быта и драматургии, философии и библеистики, истории и даже архитектуры... — психологизации культуры в целом.
Что же до XVIII столетия, до его обыденных и научных взглядов, то оно едва различает «нервы» и «фибры», полагая их синонимами, подразумевая под ними некие сосуды, волокна, жилы, а под самим нервным процессом — нечто схожее с кровообращением. В дальнейшем судьбы этих слов разойдутся: одно поднимется едва ли не до высоты понятия «душа», другое же опустится до обозначения крупноволокнистого кожзаменителя («фибровый чемодан»), сохранив память о былом величии лишь во фразеологизме «всеми фибрами души». Пока же они — ближайшие родственники, и родство это красноречиво свидетельствует нам отсутствие «трагинервической» проблематики в эпохе. А.Т. Болотов уведомлял своих читателей: «Жизненными духами, или жизненными соками называется наисуб-тильнейшее, или наитончайшее жидкое вещество, находящееся в наших нервах, или чувственных жилах; почему некоторые и называют оное нервным соком, которое название и всего кажется приличнее. Сок сей весьма пылкой, или так называемой летучей натуры; почему и может он с чрезвычайной скоростью придти в движение и почти в самое то же мгновение ока паки успокоится и остановится. Но в чем он собственно состоит, то изъяснить трудно, а то только известно,- что он-чрезвычайно нужен, что отделяется от крови, и что происходит сие наиболее во время сна»18. То же читаем у Гер дера: «Нервный сок, если только он есть (!), служит здоровью нервов и мозга; не будь сока, и они превратились быв бесполезные вервия и сосуды»1 .
За всеми доказательствами такого рода, а их можно множить, черпая примеры из медицины, мемуаров, философии, беллетристики, писем, физики, камерфурьерских журналов, объявлений, словарей, газетной хроники и проч., неминуемо встает вопрос об эволюции «внутреннего» вообще, и зависящей от нее эволюции портрето-писи. В конечном счете, вопрос может быть при помощи М. Фуко сформулирован таким образом: в самом ли деле «человек всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего познания?»20 в самом ли деле рождение человека в России — заслуга Нового времени? в самом ли деле эпоха национального Возрождения «вочеловечивает» культуру? в самом ли деле «Я» в России столь молодо, что ему нет еще и двух столетий?..
В становлении той особи, что называем мы теперь «новоевропейским индивидом», в процессе перехода от средневекового «мы» к нововременному «Я», в развитии модели портрета и его зрителя от поведения ритуализованного к поведению психологически моти вированному, в истории трансформации живописца от ремеслен ника к творцу с достаточной ясностью видятся три основных этапа «явления традиции» и «обещания ею лица»: становления персоны (уже не «я червь», но еще «я раб»), становления индивидуальности или же «самости» («я царь»), становления личности («я бог»). И подобно-тому, как в художественной- ситуации России XVIII" века накладываются друг на друга этапы, пройденные до того западноев ропейской традицией и переживаемые «сейчас», идет стремитель ное развитие с «перепрыгиванием» через стадии, с частым возвра щением к уже «пройденному», но не окончательно «усвоенному», та же неравномерность развития характеризует и все иные области культуры, культуру в целом, стиль мышления героев эпохи, философскую проблематику времени, образ и облик субъекта, модель жизнестроительства... «Дворянская; Россия все делала развитием спеша. Подростки были студентами, молодые люди пол ковниками. Ранняя половая жизнь, ранние военные и гражданские карьеры, ранняя власть над живыми людьми. Опыт мысли приходил к ним преждевременно, и умы, не загруженные опытом бытия и быта, работали напряженно,— справедливо отмечает Л.Я. Гинзбург. — В быстроте единичных развитии отражена —революционной потенцией порожденная — небывалая интенсивность исторического движения»21. Нагоняющая Россия XVIII столетия волей-неволей вынуждена была почти одновременно разрешать, по крайней мере, три антропологические проблемы:
антропофизическую («персональную»), актуальную для всякого Возрождения поисками лада меж цельным еще субъектом (нерефлексирующей «персоной») и универсумом; психофизическую («индивидуальную»), мучившую еще совсем недавно совсем недавно западноевропейскую мысль XVII века вопросами об отношениях «Я» и мира; наконец, психофизиологическую, задававшую Европе XVIII столетия загадки отношений «Я» и тела, чрева-тую будущей психологической («личностной») проблемой . Такое прохождение в кратчайшие сроки этапов, занявших в иных национальных традициях по меньшей мере четыре века (XV-XVIII), обусловило синтетичность проблематики; сводной стороны, и пестроту картины, неизбежность (если не законность) исторических «протуберанцев» («отряженных к нам ... решительнейших исключений»), с другой.
В конечном счете, структура работы диктуется, во-первых и, в-главных, задачей рассмотреть восхождение «Я» на небосклон отечественной культуры XVIII века по трем важнейшим его ступеням-состояниям («персона», «индивидуальность», отчасти «личность», расцветающая в полной мере в XIX-XX столетиях), во-вторых же, триединством «Я» в портрете (модель — зритель — портретист). Все это обусловливает трехчастность построения работы, где первая глава посвящена модели («кто изображен?») и ее внутренней эволюции; вторая — отношениям зрителя и портретируемого («для кого и для чего изображен?»); третья — эволюции портретиста (того, кто изобразил) и его самоощущения. Каждая из глав — опыт описания развития каждого из портретных «Я», некий черновик-этюд для чьей-то будущей куда как более фундаментальной работы. Последовательность же построения обусловливается социокультурной ситуацией в России позапозапрошлого века, где куда как более важно кто изображен и для кого это сделано, нежели то, кем написан портрет.
Работа не могла бы состояться без заинтересованной критики И.Л. Бусевой-Давыдовой, Е.Н. Вдовиной, А.В. Лебедева, О.А. Мед-ведковой, Ю.А. Пелевина, Г.Г. Поспелова, Л.Ю. Савинской, И.М. Сахаровой, Н.В. Сиповской, В.Т. Шевелевой, чью помощь, заставлявшую додумывать, досказывать, доделывать, доформулировать вспоминаю с признательностью.
От "личного" к "личному". К проблеме эволюции психологической проблематики русской портретописи XVIII- начала XIX века
Обращаясь к малоизученной предыстории «Я» в русской культуре, отметим, что его самоопределению, отделению от «мы» был посвящен едва ли не весь протовозрожденческий процесс в XVII веке. И особую роль в этом обособлении сыграл раскол в православии. Не единожды уже отмечено, что средневековье как эпоха во всякой национальной традиции заканчивается конфессиональной реформацией. Подобные религиозные смуты не только и не столько трансформировали веру и обрядность, сколько впервые ставили каждого перед персональным выбором между «прежним» и «новым», между средневековым «Бог и мы» и нововременным «Бог и Я». Таков при всем своем своеобычии и русский раскол — запоздалый итог затянувшегося средневековья, где «староверы» обращаются лишь к «совершенному в прошедшем», полагают «божественное в старине», ведают, что «в настоящем ничего божественного не происходит», уверены, что «все божественное уже произошло», знают, что «надо лишь беречь, а не творить истину»1, где «нововеры» так или иначе пытаются встать на путь «нового благочестия», намереваются истину творить, стремятся к чуду внутри себя, хотят искать Бога в себе, открывают возможность персонального совершенствования. В конечном, счете,-русское протовозрождение поставило-каждого перед-выбором между «прежним» и «новым», мистическим и рациональным, «неподобием» и «подобием»... И этот выбор имел чрезвычайно важные последствия не только для развития искусства отечественной портретописи, но и для всего процесса становления «Я» в России.
Как и для всякой новоевропейской культуры, для России Нового времени значимо сосуществование двух философских антропологии, определивших и отношение к человеку вообще, и эволюцию портретной живописи в частности: «платонической», с тезисом души как самодостаточной субстанции (откуда очень легко «выводится» бессмертие, но очень трудно дается соединение души с телом) и «аристотелевской», где актуально утверждение души как энтелехии, как «формы тела». Своеобычие российской ситуации перед лицом иных европейских культур заключается в развитии по зеркально отраженному пути. Отечественный XVIII век, взявший на себя функции Возрождения, актуализирует, в отличие от иных, от западноевропейских возрождений не «платоническую», а «аристотелевскую» традицию. Быть может причина такой логики развития - особенности восточного христианства, вообще, и русского Средневековья, в частности, опиравшихся на платоническую в генезисе линию. Так, даже сам механизм мышления Древней Руси - аллегореза, постижение уподоблением («так как»), «подобно тому, как», «похоже на то, как», «словно как», «будто как» и пр. ) - восходит в своем истоке к методологии платоновских диалогов. Краеугольным же камнем стиля мышления западного Средневековья была, по преимуществу, ста-гиритовская логика, достигшая своей кульминации в феномене схоластики. Соответственно, если западные возрождения реставрировали «широту» Аристокла, прозванного Платоном и утверждали неоплатонизм, то для- Возрождения- в- России- актуальна- реабилитация-Стагирита. Для древнерусской традиции платоническая в истоке мысль о принципиальном неподобии тварного и горнего, внешнего и внутреннего, земли и занебья, видимости и сущности, мнимого и эй-доса обусловила, помимо всего прочего, и своеобычие иконописи, и невозможность портрета как жанра и правила, как системы и взгляда. Для мучительного Нового времени России — времени бунта против платонизма, против неподобия, против невозможности рационального постижения, против иррациональности и алогизма, остро стоит задача овладения аристотелевской логикой; и, в первую очередь, задача усвоения тезиса «мы воспринимаем, что видим и слышим» («О душе», III, 2, 425в12). (Зря ли, сказать кстати, во второй половине XVII и в XVIII в. так активно переводится Аристотель и бессчетные его эпигоны; до Платона же очередь доходит нескоро, едва к исходу XVIII столетия?3). Для решения грандиозных задач; стоящих перед Россией, является «Я», отделенное от «мы». Это персонализированное «Я» может быть фиксировано в портретописи только через энтелехию, только через «форму тела».
Становление персоны, отделение «Я» от «мы» притом, что едва «отпочковавшееся» «Я» помнит, чтит, припоминает бывшее и нынешнее «мы», связано с ним тысячей крепчайших нитей, составляет проблематику позднего отечественного средневековья, проблематику пред- и ранневозрожденческую. Для России это XVII — пер вая половина XVIII века. Это всего лишь один,из начальных этапов развития того феномена, что много позже самоназовется «личностью». Вместе с тем для Руси это финал, последняя стадия затянувшейся «первой эпохи», определявшейся Шеллингом через методологию трансцендентального идеализма, как движение «от изначального ощущения до продуктивного созерцания», как «Я», являющееся «ощущаемым для. самого себя, а-не ощущающим: самое-себя», как «Я», мыслящее себя субъектом вообще. Очевидно, что «ощущение для самого себя» не есть еще собственно «сознание» в личностном и психологическом смыслах. Точное наблюдение B.C. Соловьева над словом «сознание» и его семантикой относится не только к особенностям «национального характера» вообще, но и в первую очередь к состоянию «Я» в «первую эпоху», длившуюся в социальных низах многие столетия: «По духу русского языка слово сознание связано с мыслью об отрицательном отношении к себе, о самоосуждении. Активного глагола сознавать вовсе нет в народной русской речи, а есть только возвратный сознаваться. Сознаются люди в своих недостатках, грехах и преступлениях; сознаваться в своих добродетелях и преимуществах так же противно духу русского языка, как и духу христианского смирения»4. Достоинства же, в которых сознается герой «персональной» эпохи— изначальны. Герой не стал, как будет происходить с людьми будущих «психологических» времен и по сию пору происходит с.нами, но родился и таковым «сгодился» (характеристики и робкие попытки автохарактеристик XVII — первой половины XVIII века строятся на константе «таков сызмалу был»). Врожденные качества, то есть свойства («свойство — еже кто что имать особо» — фиксируют азбуковники) и обусловливают персону, перво-«Я», не имеющее еще личных качеств, перво-«Я», для которого «свойство» и «якость» («якость — качество») суть синонимы.
От "замещения" к "двойничеству". Портрет и зритель в России XVIII века
Русский портрет XVIII в. во всем многообразии видов и форм - предмет неослабевающего интереса историков искусства. Изучаемый не одним поколением исследователей, он открывается нам «вершинами» (изначально) и «фоном» (последние десятилетия), «формой» (издавна) и «содержанием» (редко), символикой (еще реже) и «психологическими подтекстами» (излишне часто). Некая вне-эстетичекая функция портрета в его отношении к зрителю и обществу в целом (по крайней мере до времени изобретения фотографии) теоретически осознавалась всегда, но не далее псевдотеоретических рассуждений о «проблеме сходства». Между тем, если согласиться, что «первоначально специфическая задача портрета лежит вне искусства и заключается в удовлетворении прагматического требования соответствия оригиналу как его двойник»1, то с неизбежностью следует предположить особое бытование двойника в социуме, предположить специфическую (не только «сходственную») задачу портретиста, возможность преобладания внеэстетических функций над натуроподобием в портретах риторических культур и допсихо-логических эпох. И очевидно, что анализ будто бы «нехудожественных» сторон такого художественного явления как портрет может быть интересен не только для искусствознания, но и для других гуманитарных наук.
«Икона не является идолом, а потому не есть двойник; но икона и не просто образ,-так. как-это прежде всего-сакральная-вещь. Изображенная там по известному канону личность, конечно, не портрет. Икона, как вещь, вместе с изображением есть представитель и заместитель святого, а потому сакральна, а портрет ни за кого не представительствует, никого не замещает» , — писал Н.И. Жинкин в 1928 г. и эта точка зрения надолго утвердилась в отечественном искусствознании, по сию пору высокомерно делящем живое тело культуры на «чистое» (сакрально-художественное, принадлежащее истории и теории искусства) и «нечистое» (не-творческое, «касательное до ведомства» этнографии).
Между тем, еще Иосиф Владимиров - автор одного из первых русских трактатов об искусстве - замечает, что «не знамении бо ради и чюдес подобныя персони святых или прочих человеков писати обыкоша любомудрии, но истиннаго ради образаи вечности их воспоминания за небытную любовь к тем»3. И «такову воображению», написанному «по первообразному подобию», «честне покланяемся и любезно целуем»4. Потому-то «на тыя персони яко на самых показывают и выславляют»5.Симеон Полоцкий рассказывает соотечественникам, что «во окрестных странах людие (...) царей своих образов не презирают, но и вельмож в забвении не полагают (...) и образы их написуют, овии победы над главою венчающия, овии ж сущим в сане поклоняющаяся и начальств чтомым»6. А вла-стьимущие там «не довольствуют венцы и диадамы и багряницы цвет, числими ж законы и дани начальствуемых множества сплеска ти сами царства, но требуют и поклонения им, от него к честнышга возмнятся, не да сами покланяемы бывают точию, но и во творения ж (...) да будет честь им испольншая и совершеншая» . Скупые све » дения о портретах в России XVI-XVII вв., посылавшихся куда-либо или откуда-либо получаемых (чаще всего с матримониальными це о лями-) свидетельствуют, что смысл таких подарков не только - в разглядывании и оценке внешности претендентов (условность сходства осознавалась), но и в представительствовании за отсутствующих, в замещении их. Сами понятия «персона» и «образ» прямо указывают на равенство изображаемого и изображения в социуме.
Исторические корни функции замещения - в первобытности и древности, где «повсеместно принимается основная идея магии, согласно которой имя предмета таинственным образом равноценно самому предмету; в шумерской (и не только шумерской — Вд.9) мифологии боги «создают» предмет, произнося его имя. Поэтому знание имени предмета означает для мага власть над этим предметом»1 , а «через имя магическое воздействие на человека оказать столь же легко, как через волосы, ногти или другую часть тела. Первобытный человек считает свое имя существенной частью самого себя и проявляет о нем надлежащую заботу»11. На протяжении столетий человек ощущает свою непосредственную, кровную связь с именем, а тем более со своим подобием, изображением. (Две эти ипостаси «Я» долго сосуществуют, дублируя друг друга в замещении на аверсах и реверсах монет, медалей, в живописных и графических портретах, в других портретных формах). «Заместители» способны, как думалось, на самые разнообразные действия: от покровительства до убийства . Вплоть до середины XVIII в. в различных концах просвещенной Европы судят предметы, животных, изобра жения, «заместителей», предполагая в них злую и деятельную волю13. С точки зрения такого авторитета в области изучения древности и ее «атавизмов», как Ф. Боас, даже сейчас, «если молодой человек увидит, что на его фотографию плюют и затем рвут ее, он будет глубоко возмущен» и «во времена моего студенчества это завершилось бы дуэлью»14.
Возражая Боасу, Д; Лукач- замечал,- что-«Боас «всего-лишь» просмотрел, что ни один современный человек не верит, будто его личная судьба зависит от подобных действий; хотя он и может почувствовать себя уязвленным, но не ощутит угрозы своему физическому существованию и ущерба, как ощущал бы человек магического периода»15. Между тем, «почувствовать себя уязвленным» - не что иное, как ощутить ущерб своей чести, своему достоинству, своей репутации, своему..., своей... - всему тому, что так или иначе составляет «Я», что значит в нем, по современным понятиям, ничуть не менее, чем собственно тело, то есть в итоге ощутить ущерб себе.
По сути, функция замещения - один из всеобщих механизмов сознания и культуры; процесс превращения не-человека в человека есть процесс осознания «Я», а следовательно — и разделения «Я» и «не-Я», «Я» и «вне-Я», «Я» и «внешнеположенного». Освоение же этого «внешнеположенного», процесс познания возможен только через создание «заместителей», а потом и «двойников», через наречение и определение объектов: вещь — название вещи — изображение ее, «Я» — мое имя — мое изображение, другой — его имя — его изображение... В этом смысле весь процесс становления культуры есть развитие функции замещения и работа ее в русской культуре имеет давнюю традицию.
От "работника" к "гению". Рождение автора в русской портретописи XVIII века
Рождение автора - самый таинственный из процессов становления «Я» в Новое время. Если внутреннее развитие модели портрета и эволюция его зрителя так или иначе восстанавливаются по разнообразным и разнохарактерным письменным источникам и по самой портретописи, реконструируются по тем или иным речениям портретируемых и предстоящих, то портретист - фигура едва ли не самая молчаливая, едва ли не самая безгласная в России позапозапрошлого столетия. Речь «портретного» еле слышна среди велеречивых заказчиков, словоохотливых позирующих, косноязычных оценивающих, едва различима, да и то лишь к концу века среди текстов куда как более разговорчивых архитекторов, исторических живописцев, скульпторов, неизменно занимавших верхние ступени иерархической жанровой системы. В результате, источниками для рассмотрения эволюции автора в портретном жанре, помимо скупых и однотипных контрактов, а также редких автопортретов и портретов мастера кисти другого художника, может служить лишь сам холст, разглядываемый с пристрастием. Многое могут сказать техника, степень ее особости, во-первых, и модель подписи портретиста, та формула представления зрителю через сигнатуру, которой он пользуется в данную эпоху, во-вторых.
Путь исследования положения автора в обществе «безмолвствующего большинства» через модель сигнатуры уже был опробован в отечественном-искусствознании1. Ограничились, однако, социологическим аспектом изучения авторства, хотя исследования эволюции сигнатуры могут быть использованы и в других методологических «изводах», в том числе, и в избранном нами. Сам предмет нашего интереса -состояние автора в до-авторские и начально-авторские времена - при недостатке и скудости источников, ведет к опытам интерпретации сигнатуры, к анализу модели подписи.
Начальная (для нас) эпоха развития «Я», собственно «Ego» еще не знающая — эпоха Средневековья - не знает и автора. Это, строго говоря, до-авторское время. Оно не знает творца, ибо для нее есть лишь Творец. Не знает собственно нового, ибо для нее есть лишь освященные традицией Закон и Благодать. Не знает критики, ибо для нее существует только Вера, требующая истолкования, и безверие, обреченное проклятию. С точки зрения историко-философской можно сказать, что предмет еще не отделился от субъекта, субъект же, в свою очередь, целостен и внутренне бесконфликтен. Строго говоря, субъект Средневековья еще и не субъект: так, по словам Фомы Аквинского, выражающим средневековый взгляд и задающим его систему ценностей, существуют «четыре элемента, к которым надлежит относиться с любовью, и это: Бог, ближний, наше сословие и мы сами» (Summa Theologiae. II, 2, Q,XXV. А. 12). Наконец, Средневековье не знает субъекта и инъекта еще и потому, что отсутствует пока и сам объект, ибо Первосущий выше объективного, а предмет и субъект еще не отделены друг от друга2. Закономерно, что до-авторское время не ведает и творчества в нашем понимании. Эпоха, основанная на программном принципе «обличения вещей невидимых»3, эпоха, вновь и вновь пытающаяся явить видимое лицо невидимого, незнакома с творчеством как с попыткой особого рода объективизации4. Если и можно говорить о каком-либо творческом акте в эти времена, то это скорее откровение и, соответственно, тиражирование открывшегося. Такое откровение требует от мастера сколь можно адекватного воспроизведения открывшегося и не допускает каких-либо существенных отклонений от явленного. («Мы не изобретаем ничего нового», - с достоинством говорит один из средневековых мыслителей.) Сумма откровений составляет, в конечном счете, свод канонов, восходящих к первообразцу и summa theologkKoe положение вещей противоречит самой идее авторства: мастер безвестен, а художество не отделено от ремесла. Все это хорошо видно и по отсутствию подписей в памятниках средневековой культуры, составляющему ее правило, и по мифологизации сохраненного имени, цель которой - причислить мифологизируемого к сонму «сподвижников» того, кто один лишь истинно Творит («И вот Я творю все новое». Исх. 43,19), и по толкованиям азбуковников, еще и в XVII в. поясняющих, что «архитектон» суть всего лишь «начальный древодел» и «большой плотник», что «зодчий» - только «здатель храминам, еже есть каменщик», что «художество» - не более чем «хитрость и ремесло рукоделия». (Быть может поэтому «иноземцы», попадающие в Россию XVII в., где среди «безмолвствующего большинства» все еще царит до-авторство, с поражающей нас легкостью отказываются от сигнатуры, от имени и, как правило, следуют местному обычаю не подписывать своих произведений?). Следующий традиции, вслушивающийся в откровение, не изобретающий «ничего нового» до-автор не наделен еще талантом, хотя в Средневековье бытует понятие «талана» («талани»), понимаемое как удачный (добрый) случай подобный барышу, выигрышу, везению. Персонифицированная Талань — персонаж многих сказок - сильнее людской Участи, Удачи, Доли, которыми беззастенчиво помыкает, поскольку человек - ее «раб». Эта Талань подобна курице. Она несет золотые яйца, осыпает избранника золотом. Ее можно поймать, зажарить, съесть, причем и жареная Талань сохраняет свои волшебные свойства5. Сказать короче, в XVII в., в Пред-Возрождении в русской культуре речь все еще идет не об избранничестве и благодати, а о заменяющей их борьбе за некий материализованный или персонифицированный дар6.
До-авторство, равно как и общая невыделенность «Я» из «мы» («мира», общины), стимулируют артельную (цеховую) организацию мастеров и мастерства, где связь мастера и подмастерья воплощает в себе опыт всех предшествующих поколений, опыт тиражирования данного в откровениях. Ведь помимо экономических и технологических плюсов артельной организации, она, воплощая коллективный опыт и традицию, гарантирует соблюдение канона, спасает откровением от несанкционированного выхода за границы свода правил, пресекает возможность авторства и обусловливает, в конечном счете, социальное положение художника, который на протяжении столетий — от древности до Возрождения - «ремесленник, пребывающий в одной корпорации с седельниками и переплетчиками»7.