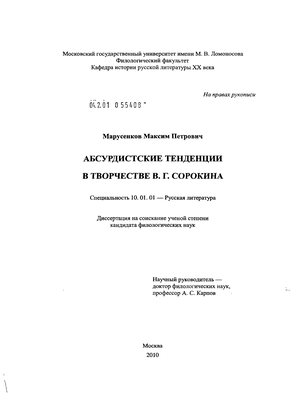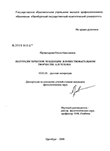Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Заумь 71
1.1. Теоретико-литературная преамбула 71
1.2. От «Заплыва» до «Капитала»: рецепция «классической» зауми 81
1.3. Заумный язык будущего в романе «Голубое сало» и книге «Пир» 119
1.4. «Трилогия»: заумь как прием остранения 131
Глава 2. Гротеск 135
2.1. Теоретико-литературная преамбула 135
2.2. Гротескная модель советской действительности в романе «Норма» 142
2.3. Поп-артовский гротеск сборника «Первый субботник» 173
2.4. Роман «Голубое сало»: российская история в зеркале гротеска 181
Глава 3. Абсурд 188
3.1. Теоретико-литературная преамбула 188
3.2. Абсурдистские антипьесы В. Г. Сорокина 201
3.3. Роман «Сердца четырех»: апофеоз абсурда 217
3.4. Абсурд жизненного бытия в романной «Трилогии» 231
Заключение 248
Библиография по творчеству В. Г. Сорокина 253
Список использованной литературы 292
- От «Заплыва» до «Капитала»: рецепция «классической» зауми
- «Трилогия»: заумь как прием остранения
- Гротескная модель советской действительности в романе «Норма»
- Абсурдистские антипьесы В. Г. Сорокина
От «Заплыва» до «Капитала»: рецепция «классической» зауми
«Заплыв» был впервые опубликован в составе романа «Голубое сало» в 1999 г. Некоторое время спустя он был издан в качестве самостоятельного произведения, открыв авторский сборник «Утро снайпера», а затем дал название сборнику ранних произведений Сорокина. Однако создан был этот рассказ, по свидетельству писателя, на заре его творчества: «Первый мой рассказ „Заплыв" появился ... в 1980 году»301; «Его одобрили люди, которых я очень уважал: Кабаков, Булатов... И я стал писателем»302.
«Заплыв», несомненно, занимает центральное место в раннем творчестве Сорокина. Созданный на высочайшем художественном уровне, этот рассказ содержит целый ряд черт, которые получат дальнейшее развитие в зрелой поэтике писателя. В частности, литературный дебют Сорокина совпал с его первым обращением к заумному языку.
Как уже отмечалось, в «Заплыве» изображается некое идеальное тоталитарное государство, в котором важнейшие идеологические цитаты регулярно подвергаются «водному транспортированию»: тысячи пловцов с факелами в руках синхронно плавают по ночам, образуя необходимые фразы. Этим способом на глазах у граждан государства «перевозятся» целые главы. Транспортировка «первой степени сложности» цитаты из Книги Равенства и показана в «Заплыве».
В кульминационный момент рутинную процедуру нарушает непредвиденное событие: главный герой рассказа Иван Монахов по обыкновению сжимает жестяной конус факела, чтобы на мгновение избавиться от охватившей руку свинцовой боли, и шов на доселе прочном корпусе расходится. Объятый пламенем, герой разрушает стройные ряды пловцов, РІ ВСЯ вторая половина цитаты распадается на светящиеся точки. Вопреки ожиданиям, уцелевший остаток фразы приобретает в глазах зрителей новый, еще более значительный смысл, и они встречают пловцов «громоподобной овацией». В финале рассказа выясняется, что все это «представление» было заранее спланировано правящей элитой государства.
В «Заплыве» Сорокин создает художественный эквивалент «идеальной» тоталитарной культуры, воплощая ключевые интенции как советского, так и нацистского культурного проекта. Рисуя завораживающее зрелище тысячи пловцов, медленно плывущих ночью с факелам в руках, составляя громадные светящиеся цитаты, писатель создает образ, органичный для обеих культур.
Дело в том, что образ факельщика играл важную роль в культуре Третьего рейха, символизируя проводника новой жизни. Так, по бокам главного входа в Рейхсканцелярию стояли две бронзовые скульптуры нагих атлетов, выполненные Арно Брекером. Один из них держал в правой руке факел, олицетворяя нацистскую партию, а другой меч, олицетворяя немецкую армию303. Новобранцы СС, этой военной элиты Рейха, ежегодно проходили ритуал посвящения: 9 ноября в 10 часов вечера, в годовщину «пивного путча», они давали клятву о «покорности до смерти». Место было освещено факелами, символизирующими «мучеников» путча . Можно вспомнить и известные кадры возжигания олимпийского огня из фильма «Олимпия» Лени Ри-феншталь. Культ красоты атлетически сложенного тела, процветавший в нацистской Германии, получил в этом фильме наиболее полное выражение.
Преклонение перед телесной красотой присуще и изображенной в «Заплыве» культуре, хотя оно носит принципиально иной характер. От непосильных нагрузок, вызванных необходимостью на протяжении пяти часов держать в вытянутой руке шестикилограммовый факел, правые руки пловцов-факельщиков становятся почти вдвое толще левых. В нацистской культуре такая диспропорция считалась бы уродством, так как нарушала античный идеал гармонично развитого тела, на который ориентировался А. Гитлер. Однако для Ивана Монахова это знак превосходства над «гражданскими»: «С ранней весны и до поздней осени он носил рубашки с короткими рукавами, выставляя напоказ свою мощную руку. Это было очень приятно» .
Ощущение превосходства над остальными гражданами рождается у Монахова не только в силу осознания почетности своей профессии. Важнее другое: непропорционально развитая правая рука сближает пловца с представителями правящего класса, так называемыми «Обновленными». Подобно языческим богам, они являются миксантропами, то есть обладают как чело веческими, так и животными чертами. Нам известно, в частности, что Великий Преобразователь Человеческой Природы Андреас Капидич (который, вероятно, был основателем данного государства), имел витые рога, а некий Горгэз обладает крыльями. Иначе говоря, в изображаемой культуре объектом почитания является не плотская красота как таковая, а «красота» обновленного в форме миксантропизма человеческого тела. Поэтому любая телесная деформация может восприниматься носителями этой культуры не как уродство, но скорее наоборот, как знак символической сопричастности Обновленным. Тем более если эта деформация возникла вследствие участия в агитационно-массовых мероприятиях, составляющих ядро тоталитарной культуры данного государства.
В такой буквальной, гротескной форме в «Заплыве» воплощена ключевая как для раннесоветского, так и для нацистского режимов идеология улучшения и преодоления человеческой природы, создания нового человека, сверхчеловека. С христианской точки зрения она носит глубоко еретический характер, а изображенное в рассказе обновление человеческой природы является скорее деградацией, откатом к языческому мировоззрению.
Как известно, и советский, и нацистский режим враждебно относился к христианству, стремясь поставить на его место сакрализованную государственную идеологию. Применительно к культуре, изображенной в «Заплыве», правомерно говорить не просто о сакрализации, но о наличии подлинной го-сударствообразующей религии, в основе которой лежит идея обновления и преодоления человеческой плоти. В рассказе упоминаются «золотые обелиски Храма Преодоления» и «Канал имени Обновленной Плоти», а один из центральных для этой культуры текстов — книга Аделаиды Свет «Новые люди».
Религиозность изображаемой культуры помогает понять, почему цитата из Книги Равенства носит абсурдный характер. Сакральные и, в особенности, магические тексты нередко обладают загадочным, таинственным смыслом. «Магически мощное слово, — писал по этому поводу П. А. Флоренский,— не требует ... непременно индивидуально-личного напряжения воли, или даже ясного сознания его смысла»306. «Религиозная поэзия почти всех народов написана на ... полупонятном языке», — отмечал В. Шкловский , рассматривая тексты этого типа в качестве одного из генетических источников заумного языка.
«Трилогия»: заумь как прием остранения
В начале 2000-х гг. Сорокин сменил свои художественные приоритеты. «„Лед" — это первый для меня роман, где на первом месте не форма, а содержание», — заявил писатель в интервью сайту «Грани.Ру»401. Последовавший за «Льдом» роман «Путь Бро» в еще большей мере отвечал новым художественным принципам: «Наверное, это первый роман, в котором меня интересует только содержание, сама история как таковая»402. Написав роман «23 000», Сорокин завершил свое самое объемное произведение, построенное на новых художественных принципах.
Несмотря на это, заумный язык не потерял для писателя значимости. При попытке передать слова «сердечного языка», на котором разговаривают люди Света, средствами «убогого» земного языка возникает фонетическая заумь, что подтверждают заумные имена героев: — Это экстатическое перечисление имен «новорожденных» братьев и сестер можно было бы включить практически в любую книгу Крученых, без риска нарушить ее стилистическую целостность. В «Трилогии» Сорокин вновь прибегает к использованию заумного языка в его изначальной сакральной функции. Поэтому существует преемственность между содержанием гностического неомифа, положенного в основу «Трилогии», и концепцией остранения В. Б. Шкловского, сыгравшей существенную роль в теоретическом обосновании феномена зауми.
«Музыка Вечной Гармонии», в которую вслушивается основатель Братства Света, сообщает ему следующее: «Люди стали жить умом, закабалив себя в плоти и времени. Развитый ум породил язык ума. И человечество заговорило на нем. И язык этот, как пленка, покрыл весь видимый мир. Люди перестали видеть и ощущать вещи. Они стали их мыслить (курсив мой — М. М.). Слепые и бессердечные, они становились все более жестокими» [Трилогия, 84]. Ударившись грудью о божественный лед, Бро заново открывает для себя мир и забывает язык людей: герой начинает «говорить сердцем» и видеть окружающее духовным зрением.
Как известно, первые подступы к концепции остранения Шкловский сделал в работе «Воскрешение слова» (1914). Его хрестоматийная статья «Искусство как прием» (1917), в которой появилось само понятие и его теоретическое обоснование, фактически лишь развивала основные положения вышедшей ранее мини-монографии. В этой статье Шкловский практически не касается деятельности футуристов, однако, как показывает «Воскрешение слова», сама концепция остранения была во многом вызвана к жизни творчеством «будетлян» и, прежде всего, использованием ими заумного языка в качестве новаторского художественного приема. В промежутке между двумя упомянутыми работами Шкловский пишет статью «О поэзии и заумном языке» (1916), которая стала первым обстоятельным опытом исследования феномена зауми. В ней Шкловский утверждает заумный язык как один из способов вывода вещи из автоматизма восприятия, причем значительная часть статьи посвящена исследованию зауми как языка сакрального общения.
«Сейчас старое искусство уже умерло, новое еще не родилось, — писал Шкловский в „Воскрешении слова", — и вещи умерли, — мы потеряли ощущение мира ... . Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм»403. В статье «Искусство как прием» потеря ощущения мира объяснялась процессом автоматизации: «Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим»404. «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь, — заключал Шкловский. — Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны. ... И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием „остранения" вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно»405.
Сходство между «Музыкой Вечной Гармонии» и концепцией Шкловского несомненно, однако не менее существенно и различие. Для Шкловского автоматизация — процесс хотя и негативный, но закономерный, даже универсальный, и, что существенно, обратимый; именно для этого, по мысли ис следователя, и существует искусство. Для людей Света потеря ощущения вещей является одной из главных причин существования зла в мире: «Потому что человек был величайшей ошибкой. Как и все живое на Земле» [Трилогия, 84]. Таким образом, Сорокин переводит искусствоведческую концепцию в область этики и онтологии.
С точки зрения Шкловского, «вывод вещи из автоматизма восприятия совершается в искусстве разными способами», одним из которых постоянно пользовался Л. Н. Толстой: «Прием остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз происшедший»40 . Именно в таком стиле — с явной опорой на Толстого — выдержаны последние главы «Пути Бро» (как и отдельные фрагменты романа «23 000»), когда престарелый Бро начинает «видеть» земной мир своим сердцем: «Война мясных машин окончилась. Страны Льда и Свободы победили. Страна Порядка проиграла. Ее мясные машины клубились устало и отчаянно. Они убивали и погибали. Вождь исполнил мучительное желание своей жизни: он героически проиграл великую войну. Забравшись глубоко в землю, он убил себя металлом из железной трубки. Победившие мясные машины судили помощников вождя. Их подвесили за шеи на веревках, чтобы они не могли дышать. И помощники вождя задохнулись» [Трилогия, 228] и т. д.
Кроме заумных имен героев, концепт заумного языка нашел в «Трилогии» еще одно воплощение. В. Шевцов обратил внимание на то, что «многочисленные курсивы, рассыпанные по тексту (романа „Путь Бро" — М. М.) ... десемантизируются, приобретая свойства витгенштейновского „индивидуального языка" — этакой „незаумной зауми" или скорее словесной ико 408ны» .
Как было сказано выше, люди Света изъясняются между собой на сокровенном языке, «говоря» сердцами. «Язык ума», на котором общаются люди, не в состоянии передать всю полноту духовной жизни членов братства. Когда люди Света прибегают к человеческому языку, они обычно вкладывают в его лексемы совершенно особый, им одним ведомый смысл. Существенно, что этот смысл носит не столько индивидуальный, сколько сакральный характер, так как истинное значение употребленных таким образом слов в принципе недоступно пониманию обычных людей — его могут прочувствовать только люди Света.
Гротескная модель советской действительности в романе «Норма»
«Норма» — это первое крупное произведение Сорокина. Раздробленная, находящаяся на грани самораспада композиция романа позволила писателю свободно манипулировать самыми разными стилями и жанрами. Гротескная образность используется в первой, третьей и седьмой частях произведения, а также во вступлении и заключении, образующих самостоятельный микросюжет. Введением этих рамочных компонентов автор преследует ряд важных художественных задач.
Во-первых, история изъятия у некоего Бориса Гусева текста «Нормы» призвана убедить читателя в том, что перед ним якобы опасная антисоветская книга, имеющая для КГБ исключительную важность448.
Во-вторых, вступление и заключение выполняют традиционную функцию, придавая роману завершенный характер. Это обстоятельство принципиально важно для «Нормы» как произведения с отсутствием единого сюжета, разветвленной структурой и жанровой неоднородностью.
В-третьих, во вступлении появляется эксплицитный читатель — тринадцатилетний школьник. Введение эксплицитного читателя — часто встречающийся прием в прозе Сорокина, но в данном случае персонаж очевидно не способен сколько-нибудь адекватно осмыслить произведение449. Другими словами, в «Норме», так же как, например, в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», эксплицитный читатель выступает в роли несостоятельного читателя. В результате основной текст произведения заключается в своего рода остраняющую рамку.
Остраняющий эффект также вызывает описание того, как выглядит роман: «Папка серого картона. Содержит... 372 машинописных листа. Название „Норма". Автор не указан» [I, 11]. Очевидно, именно в таком виде «Норма» попадала к первым читателям. Тем самым на первый план в произведении выдвигается не эстетический объект, но артефакт. Как пишет по этому поводу И. Скоропанова, «Сорокин настраивает читателя на восприятие всего, что тот прочитает, как художественного текста, дает понять, что его интересует сфера эстетики»450.
Всячески подчеркивая, что его роман — это не более чем «буквы на бумаге», Сорокин вместе с тем стремится создать ощущение предельной достоверности происходящего. Описание ареста Гусева начинается с протокольно-точного указания времени: «Бориса Гусева арестовали 15 марта 1983 года в 11.12...» [I, 9]. В повествовании возникают характерные приметы эпохи: оперативник заполняет бланк на понятых на «подвернувшемся» журнале «Америка», во время обыска у диссидента изымают третий том «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына в издании «ИМКА-Пресс». В том, как папка с текстом романа переходит от одного сотрудника КГБ к другому, проявляется типичный для брежневской эпохи бюрократизм.
Однако вместо высокопоставленного начальника, на стол к которому, по логике развития событий, должна была попасть «Норма», роман алогично оказывается в руках подростка, выносящего произведению окончательную оценку: «четыре». Достоверная, приближенная к жизненной реальности ситуация внезапно переходит в абсурд; правдоподобные и фантастические мотивы тесно переплетаются в пределах одного текста.
Во вступлении гротескные черты были лишь пунктирно намечены автором. В полную силу они заявят о себе в последующих частях произведения.
М. Липовецкий предлагает рассматривать «Норму» как произведение, выдержанное строго в соц-артовской традиции451. Эта точка зрения вызывает сомнение уже при обращении к первой части романа, в которой отсутствуют явные стилизации. По мнению И. Скоропановой, в этой части «Нормы» Сорокин имитирует «код бытовой и производственной прозы»452. Однако сложно представить себе, чтобы в рамках названных жанровых традиций было возможным изображение секса (тем более лесбийского), описание спора о художественных стратегиях П. Пикассо и М. Дюшана или употребление об-сценной лексики.
На самом деле Сорокин просто рисует картины из жизни самых разных слоев населения, начиная с номенклатуры и интеллигенции и заканчивая рабочими и преступниками. Писатель стремится к точному и всестороннему воссозданию жизненной реальности. Но наряду с этим он вводит в повествование лейтмотив, ставящий под сомнение достоверность описываемого.
Речь идет об употреблении в пищу некой «нормы», которая фигурирует в тексте романа как обыденная реалия советского времени. Фантастический характер этого образа становится очевидным лишь в середине первой части, когда неожиданно выясняется, что с самого начала в повествование был вплетен совершенно невероятный мотив обязательного поедания всеми героями кала.
При этом действие не теряет правдивости. Более того, потребление брикетов «нормы» описывается Сорокиным с такой же реалистичностью, с какой писатель рисует жизнь и быт эпохи. В результате фантастический мотив кажется столь же правдоподобным, как и все происходящее, и все с тем происходящее невозможно в действительности.
Созданию иллюзии достоверности способствует, прежде всего, фрагментарный характер первой части. За счет этого возникает впечатление, буд-то описываемые сцены вырваны непосредственно из потока жизни. Это ощущение усиливается еще и тем, что писатель часто открывает повествование словами персонажа, представляющими собой промежуточную реплику в диалоге.
Диалог, с которого нередко начинается действие, является центральным предметом изображения и главным средством психологической характеристики героев. В некоторых эпизодах повествовательная часть практически сведена к ремаркам. К развернутым описаниям Сорокин прибегает только в тех случаях, когда персонаж остается наедине с собой.
Это придает первой части романа драматургический характер. По словам В. Е. Хализева, в пьесах жизнь «говорит как бы от своего собственного лица: между тем, что изображается, и читателем нет посредника-повествователя. Действие воссоздается в драме с максимальной непосредственностью. Оно протекает будто перед глазами читателя» .
Сорокин стремится к передаче на письме всех особенностей идиолекта героя. На страницы произведения врывается подлинная устная речь с пар-целляциями («Отчаянная баба. Люблю таких. С ними хоть сопли на кулак мотать не надо... А как внешне, ничего?» [I, 75]), прерванными синтаксическими конструкциями («Аааа... Что-то я... действительно... во, две двушки... звони... или, может, мне?» [I, 74]), стяжениями и выпадениями звуков («щас», «эт», «пшел»), тщательно фиксируемыми автором междометиями («ага», «аааа», «мммм»). Писатель активно использует разговорную и жаргонную лексику («кокнуть», «сбацать», «сварганить»), обсценные слова и выражения («Ага. Я, бля, не опомнился ни хуя, а он пиздык, бля, аж, искры, бля...» [I, 24]), иноязычные вкрапления («гив», «уоз лайт грин»).
Абсурдистские антипьесы В. Г. Сорокина
Как известно, феномен абсурдизма нашел наиболее полное выражение в драматической форме. Это верно и применительно к творчеству Сорокина: в пьесах его «метод спрессовывается и проявляется с наибольшей обнаженностью»584. По этой причине в сорокинской драматургии ярче всего проявились собственно постмодернистские черты его творчества. Такие пьесы, как «Юбилей», «Дисморфомания» и «Dostoevskyrip», составляющие своеобразный триптих, построены на существующих, а не стилизованных, как это обычно бывает у Сорокина, дискурсивных образцах (соответственно, Чехова, Шекспира и Достоевского), которые последовательно демонтируются автором. Готовые текстовые фрагменты занимают важное место и в других пьесах Сорокина («Землянка», «С Новым годом»), тем или иным образом подвергаясь стилистической деформации. Деконструкция как определенная форма работы с наличными дискурсами, быть может, получила в этих произведениях наиболее адекватное художественное воплощение.
Критическо-иронический, деконструктивно-деструктивный характер своего драматического творчества неизменно подчеркивал и сам автор: «Любая пьеса, построенная на классических принципах, — пьесы Шекспира, пьесы Чехова и соцреалистические монструозные пьесы типа "Заседания парткома" и "Сталеваров", например, у меня всегда вызывали тотальную скуку. ... Во время просмотра этих пьес, еще мальчиком, когда нас водили во МХАТ, я начинал фантазировать и думал, что бы я сделал, чтобы оживить эти пьесы. И придумывал разрушительные ходы, которые оживляли бы ситуацию. Во всех своих пьесах я продолжал воплощать этот принцип .. . »585. В сущности, идентичную характеристику своим пьесам Сорокин дал и спустя почти десять лет после приведенного высказывания: «И „Капитал", и мои ранние пьесы были написаны как реакция на советскую жизнь и на советский театр. Это попытка не то чтобы взорвать его, но вскрыть, как запаянную кон со/ сервную банку, где скопился спертый воздух» .
Первым драматическим опытом Сорокина, вероятно, была пьеса «Пельмени»587. Это произведение можно рассматривать в качестве эскиза драматических сочинений писателя 1980-х гг., так как воплощенные в «Пельменях» абсурдистские приемы будут вычленяться и скрупулезно разрабатываться Сорокиным в последующих пьесах. В «Землянку» перейдут лишенные развития и информативности диалоги, в «Доверие» — своеобразная супрасинтаксическая заумь, в «Дисморфоманию», а затем и в «Dostoevskyrip» — неожиданное перевоплощение персонажей. «Пельмени» также остаются единственной пьесой Сорокина, существующей в двух значительно расходящихся между собой редакциях. Завершив первоначальный текст пьесы в 1986 году588, Сорокин вернулся к этому произведению десять лет спустя, изменив концовку второй части и заново написав третью589. Ни в первой, ни во второй редакции пьеса не членится на акты, хотя в ней отчетливо выделяются три части, маркированные сменой места действия.
«Пельмени» открываются натуралистической зарисовкой позднесовет-ского быта. Дежурный обмен репликами между отставным прапорщиком и его женой в процессе изготовления пельменей продолжает эксперименты Сорокина по имитации живой, неолитературенной речи. Внешне оставаясь стенографически достоверным, диалог Ивановых местами вплотную приближается к абсурдистской коммуникации:
Атмосфера советского мещанства сгущается в сцене бытового садизма, закономерно переходящей в абсурдный ритуал. В состоянии алкогольного опьянения прапорщик, ранее плотоядно лепивший «лысеньких» «новобранцев», заставляет жену участвовать в извращенно-пародийной инсценировке приема в армию. «Я, Пробкова Спичка, родилася в ведре, потом росла в старом месте, а после окончила в сорок шестом году банку из-под говна. А потом работала возле плинтуса в грязном углу, а в пятьдесят седьмом году пе реехала в Пашкину кружку, где устроилася машинистом», — излагает Иванова свою «автобиографию» «ровно, без запинки» [СС-1, II, 506]. О хорошем знании героиней этого нелепого ритуала свидетельствует и процесс дальнейшего экзаменования:
Выдержав экзамен, Иванова приводится к «присяге», опустив левую руку в ночной горшок с мочой своего мужа, а правую положив ему на голову. Выкрикнув ряд бессвязных фраз, Иванов окатывает жену мочой, завершая обряд инициации.
Моральное и физическое унижение, которому подвергает жену герой, с одной стороны, мотивировано ритуальной природой происходящего: воинская присяга является рудиментом инициации, нередко предполагавшей мучительные испытания. С другой стороны, рукоприкладство Иванова можно рассматривать в качестве парафраза традиционных для армии «неуставных отношений».
По окончании ритуала герой «без всяких признаков опьянения» приводит себя в порядок. Внезапное протрезвление Иванова окончательно дискредитирует возможность рационального объяснения произошедшего (сильное опьянение, приведшее к помрачнению рассудка), переводя пьесу в сугубо абсурдистское измерение.
Во второй части произведения Иванова появляется «в форме полковника», но со «стрижкой как у рекрута» — полупародийная инсценировка неожиданно оказывается легитимной. В этой части «Пельменей» герои общаются друг с другом на причудливом арго, впоследствии подробно разработанном Сорокиным в пьесе «Доверие»:
ЧЕЛОВЕК В ОЧКАХ. Отлично (подходит к шкафу, открывает его, достает черный дипломат, открывает, кладет в него носки). Все будет о кей, Лев, все. Только надо как можно побольше оттянуть по механике, по детскому. Все будет хорошо. Я договорился, так что вам нечего беспокоиться. Главное — Витюша по густоте нормально, так что беспокоиться нечего592.