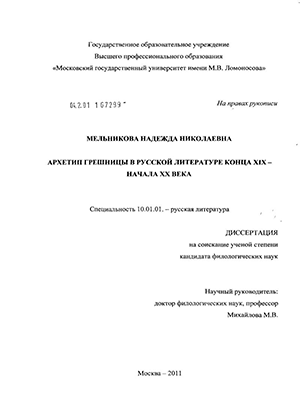Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Архетип грешницы в литературе: теоретические аспекты 54
1. Представление о грехе в русском языковом и художественном сознании 54
2. Образы грешниц в литературе как предмет литературоведческого анализа: к истории вопроса 67
Глава 2. Национальное своеобразие воплощения архетипа грешницы (на примере русской и латиноамериканской литератур) 105
1. Модель «падение — раскаяние — страдание — искупление — спасение» как архетипическое ядро в текстах о грешницах 105
2.1. Русский след в латиноамериканской «вариации» образа грешницы: влияние идей Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского 124
2.2. Русские истоки романа М. Гальвеса «Нача Регулес» и традиции русской литературы в дилогии М. де Карриона «Честные» и «Нечистые» 139
Глава 3. Топос женской греховности в русской литературе XIX — начала XX века 164
1. Понятие «бордельное пространство» в соотношении с «топосом» и «локусом» 164
2. Конкретно-исторический и художественный уровни воплощения «бордельного пространства» 175
3. Девиантное поведение личности в рамках «бордельного пространства». Маргинальность его статуса 200
4. «Бордельное пространство» как пространство игры 229
5. Соотношение дискурсов «дома» и «бордельного пространства» 250
Заключение 323
Библиография 344
Приложения I
- Образы грешниц в литературе как предмет литературоведческого анализа: к истории вопроса
- Модель «падение — раскаяние — страдание — искупление — спасение» как архетипическое ядро в текстах о грешницах
- Конкретно-исторический и художественный уровни воплощения «бордельного пространства»
- Девиантное поведение личности в рамках «бордельного пространства». Маргинальность его статуса
Введение к работе
Постановка проблемы. Среди сохраняющих неоспоримую научную актуальность проблем гуманитарных исследований особое место занимает так называемая «женская тема», представленная изучением «женского вопроса», осмыслением роли женщины в обществе и рассмотрением основных этапов феминистского движения в рамках исторической и философской наук (Г. А. Тишкин), анализом категории Женственности в тендерных штудиях и культурологии (Н.Л. Пушкарева, В.Н. Кардапольцева). Авторы литературоведческих работ большое внимание уделяют интерпретации женских образов: Софии, Мадонны, Клеопатры, Прекрасной Дамы, Саломеи, Лилит, Федры и т. д. Одним из наиболее общих выводов, сделанных исследователями в данной области (О. Рябов, Б. Фридан, Дж. Эндрю), является идея об антиномичности женского образа в культуре, содержащего как «темный», так и «светлый» лики Женственности, иными словами, «идеал содомский» и «идеал Мадонны». Это означает, что наряду с безусловно положительным женским персонажем, констатируется существование «падшего» существа женского рода, т. е. грешницы. Данный образ в русской литературе неоднороден: конкретными репрезентациями выступают не только героини, занимающиеся проституцией, «соблазненные и покинутые», но и неверные жены (участницы адюльтеров), «камелии» (дамы полусвета, содержанки), женщины, вступившие в связь инцестуального характера. Критерием такого обобщения может выступать то, что мотивы и сюжеты, содержащие в себе в качестве главного или даже второстепенного персонажа одну из ипостасей образа грешницы, восходят к единому, ранее «заданному» сценарию, или, другими словами, к некоему архетипическому смысловому ядру, характерному именно для русской словесности. В русской литературе грешница - прежде всего, страдалица; ее путь лежит от греха к возрождению, появление этого образа в фабуле произведения «настраивает» читателя на то, что далее события будут развиваться по схеме: «падение — раскаяние — страдание — искупление — спасение». Такая парадигма явно опирается на христианское понимание греха, отсылает прежде всего к библейскому сюжету о Спасителе и кающейся блуднице и соотносится с богословской триадой «грех - покаяние - спасение», которая не только воплощалась в агиографических рассказах о раскаявшихся грешницах, ставших святыми, но и была заимствована литературой Нового времени. В русской словесности она впервые отчетливо возникает в «Невском проспекте» Н.В. Гоголя в форме идеального сюжетного образца.
Таким образом, представляется, что в корпус мировых «литературно-мифологических сюжетных архетипов» (Е.М. Мелетинский) можно включить и архетип грешницы. В предлагаемом исследовании указанный архетип выступает в качестве самовоспроизводящейся (т. е. способной передаваться из поколения в поколение) и сквозной (т. е. обладающей неизменным ядром-матрицей на сущностном уровне и в то же время различным образом проявляющейся в отдельных произведениях) модели] некоего культурного канона, который определяет горизонт ожидания компетентного читателя, отсылая его к первообразам. Данное определение литературного архетипа может быть соотнесено с близкой ему категорией метатипа (термин Н.Е. Меднис, Т.И. Печерской; в свою очередь, восходящий к «сверхтипу» Л.М. Лотман). В отличие от юнговского аналога, метатип является не только носителем «психологической памяти» («коллективного бессознательного»), но и «памяти культуры» («коллективного сознательного»).
В литературе и культуре в процессе диффузии архетипического и исторического конкретные реализации архетипа / метатипа грешницы (персонажи, мотивы, сюжеты) «обрастают» дополнительными коннотациями и предстают в виде сложного художественного конструкта (его можно обозначить как топос), вобравшего с себя следующие аспекты (выстраивание «графика» сделано от «очевидного», выступающего на первый план, к метафизическому): сексуально-физиологический включает «падение» как соблазнение и совращение, феномен продажи девственности, психологическую и нравственную «травму» как реакцию героя на общение с грешницей, разврат, похоть, сладострастие; сексуальное унижение и насилие, инцест; социальный затрагивает «женский вопрос», проблемы эмансипации, маргинальность; морально-религиозный ставит проблему двойной морали, трактует понимание концепта «падение» в христианстве, его соотношение с «грехом»); философский раскрывает образ «святой блудницы», истоки его мифологизации, указывает на связь греха и искупления/покаяния.
Показательно, что в большинстве случаев в текстах о грешницах вышеобозначенная архетипическая цепочка становится чисто умозрительной схемой, некоей идеальной «правдой», носителем которой является герой, оказывающийся ложным спасителем. Его миссия невыполнима в реальности, поскольку обязательным условием спасения выступает наличие хотя бы видимости чистоты героини, которая подчас отказывается каяться и отвергает спасение. А именно надежда на «чистоту» женщины должна помочь герою, обычному человеку, побороть вполне естественное чувство презрения к
«падшей», которое Сыну Божьему, чью роль берет на себя «спаситель», не было присуще.
Трансформации и «рокировки» внутри архетипической цепочки подчас настолько видоизменяют ее, что становится чрезвычайно сложно за тем или иным мотивом или сюжетом обнаружить архетипическую матрицу. Поэтому возникает убеждение, что в русской литературе XIX - первой трети XX в., рассказывающей о грешницах, помимо отталкивания от архетипа возникает и то, что в современном литературоведении получило называние «новое мифотворчество» (З.Г. Минц, Р.Г. Назиров, А.И. Журавлева).
Таким образом, архетип грешницы будет в данной работе рассматриваться, с одной стороны, через «просвечивающее» архетипическое начало, а с другой - через выявление специфики национального колорита, все более очевидно проявляющегося при создании текстов о грешницах.
Степень разработанности проблемы. Важнейшая для данного исследования категория греха рассматривается с точки зрения лингвистики и лингвокультурологии (Е.С. Штырова), а также в качестве объекта литературоведческого анализа (О.Н. Владимиров, С.А. Подсосонный). Собственно литературоведческих работ, раскрывающих образ грешницы в обозначенном понимании, практически нет. Исследования посвящены только отдельным его воплощениям: «соблазненным» (Т.И. Печерская), нарушительницам супружеской верности (Ю.В. Шатин, М. Литовская), содержанкам и камелиям (Д. Рейфилд), женщинам, совершившим инцест (М.Н. Климова), наконец, проституткам и «падшим», в большинстве исследований выступающим как взаимозаменяемые понятия (И.П. Бакалдин, А.К. Жолковский, И.П. Олехова, Д. Сигал, О. Матич). Авторы литературоведческих работ, затрагивающих тему проституции, в основном сосредоточены на мировом контексте данной проблемы или анализируют феномен проституции на материале различных национальных литератур (немецкой - К. Шонфелд; английской - С. Картер, Л. Розенталь; американской - Л. Хапке, К.Н. Джонсон; французской - Ч. Бернхеймер, X. Тейлор; латиноамериканской - Р. Кановас, Д.А. Кастильо и др.; наконец, мировой - X. Киштани, П.Л. Хорн, М. Сеймур-Смит и др.). При этом в монографиях и статьях зарубежных ученых чаще всего используются методологические разработки так называемых женских и тендерных исследований (Women's and Gender studies). Также в интересующем нас аспекте важны работы Р.Г. Назирова, Н.Д. Тамарченко, С.Н. Кайдаш-Лакшиной, О. Меерсон.
Актуальность исследования определяется, во-первых, не только потребностью в
расширении знаний, связанных с исследованием «женской темы», но и неуклонно
возрастающим интересом в современном литературоведении к изучению «верхних
этажей» «резонантного пространства культуры и литературы» (В.Н. Топоров), среди
которых универсалии, константы, топосы, архетипические мотивы,
архетипические/традиционные сюжеты, «вечные»/вековые образы, а также выявлению национальной специфики в раскрытии этих категорий в художественной сфере (т. е. помимо историко-литературного, включаются культурологический и компаративистский аспекты). Во-вторых, актуальность обусловлена тотальным игнорированием столь «острой» темы в советском литературоведении и весьма немногочисленными изысканиями в последние два десятилетия. При этом следует отметить, что авторы большей части историко-литературоведческих работ, непосредственно перекликающихся с данной темой, анализируют «канонические» тексты о падших, принадлежащие перу русских классиков, т. е. так называемый литературный канон: произведения Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, В.М. Гаршина, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, А.И. Куприна, Л.Н. Андреева. За рамками исследования, таким образом, остается проза писателей «второго ряда»: М.В. Авдеева, А.В. Дружинина, И.И. Панаева, И.И. Ясинского, Н.И. Тимковского, Е.Н. Чирикова, М. Криницкого, О. Дымова, Н.Н. Русова, П.А. Кожевникова, Л.О. Кармена, Графа Амори, А.А. Плещеева, Н. Левицкого, В.И. Недешевой, A. Map, А. Чапыгина. Думается, что привлечение художественного наследия последних при анализе архетипа грешницы актуально уже в силу того, что на сегодняшний день историками литературы осознается необходимость восстановления наиболее полной картины литературного процесса того или иного периода, в котором роль «второстепенных» литераторов, несомненно, одна из важнейших. Кроме того, колоссальный объем материала предоставляет массовая, низовая литература: Ю. Ангаров, Ал. П. Александровский, Е. Вихрь, Дон Бачара, М. Зотов, М. Семенов, -включение которой в текстовую базу работы дало возможность рассмотреть реализацию архетипа грешницы на всех уровнях художественной словесности. Интерес также вызывают и «забытые» или малоизвестные произведения о грешницах уже названных классиков - Толстого, Чехова, Андреева. В-третьих, актуальность исследования усилена включением сопоставительного материала (например, изучение проблемы «Л. Толстой и латиноамериканская литература»). В-четвертых, нельзя не учитывать то, что затронутые нами аспекты выходят за рамки литературоведческих изысканий в строгом смысле, т. е. находятся на стыке многих наук. Изучение вопроса о женской сексуальной греховности (грешница как носительница девиантного эроса), о включенности образа «падшей» в конструирование русской Женственности, анализ процессов стигматизации, напрямую
связанных с положением женщины в обществе, женской эмансипацией, философским осмыслением женского начала помогают восстановить национальную специфику тендерной картины мира.
Таким образом, предметом нашего исследования является архетип грешницы, нашедший воплощение в художественных текстах русской литературы второй половины XIX - первой трети XX в., а объектом - конкретные репрезентации данного архетипа на различных уровнях: сюжетном (сюжет о спасении падшей женщины), персонажном (например, грешницами выступают соблазненные до брака девушки, содержанки, прелюбодейки, камелии, проститутки), мотивном («чайный мотив», «мадам - мать для девочек», мотив братания «падшей» с «честной девушкой»).
Определение объема текстологической базы исследования обусловлено (помимо обозначенного выше смысла, вкладываемого в понятие архетипа грешницы) учетом определенных факторов. Широта привлечения материала обозначила некоторую «либеральность» в жанрово-аксиологическом отношении к формированию текстуальной базы, но это представляется абсолютно необходимым для решения поставленных задач.
Во-первых, тем, что реконструкция указанного архетипа в русском культурном континууме в целом и в русской литературе в частности потребовала обратиться к большому количеству художественных текстов, ибо обнаружение подобного инвариантного конструкта возможно только при условии устойчивого воспроизведения его в конкретных сюжетах, персонажах и мотивах, участвующих в конструировании топоса женской греховности. При отборе материала не учитывалась жанровая парадигма: материалом служит и проза (крупная - Л.Н. Толстой, А.И. Куприн, малая - А.П. Чехов, М. Горький, С. Городецкий, И. Бабель), и лирика (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, В. Павлоградский, Н.А. Некрасов, Н.А. Добролюбов), и драматургия (Л.Н. Андреев, В.В. Протопопов, С.А. Найденов). Кроме того, в отдельных случаях привлекался и документальный срез русской литературы: очерки (И.И. Панаев, Л.О. Кармен), дневники (Н.А. Добролюбов). В область наблюдения попали тексты разнообразных эстетических достоинств, принадлежащие к различным «литературным рядам» (к «высокой литературе» мировой / национальной «классики», к «беллетристике» и к «литературному низу»). Поэтому, например, наряду с купринской «Ямой» анализируется в интересующем нас аспекте «окончание» этого романа, написанное И.П. Рапгофом (Граф Амори); образы грешниц в произведениях Чехова и Гаршина рассматриваются на фоне героинь И. Ясинского; блудницы А.В. Амфитеатрова, A.M. Ремизова, И.А. Бунина, П.Д. Боборыкина, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крестовского, П. Орловца, Н.П. Огарева, М.П. Арцыбашева, A.M. Дмитриева, Г.И. Чулкова, А.Н. Цехановича, А. Бедного оказываются не менее
существенны для выводов, чем падшие создания в произведениях Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. То же можно сказать о текстах массовой литературы с их схематичной сюжетикой и максимально обнаженным, очевидным идейным наполнением (А. Гномов, М. Думогорин, Дядя Федя, М. Жилин, П. Кузнецов, И.Г. Погуляев). Кроме того, отражение взаимосвязанных процессов формирования / закрепления и реализации архетипа грешницы в русской литературе невозможно рассматривать в отрыве от изменений, происходящих в тендерной картине русского общества (они описаны в монографии О. Рябова «Русская философия женственности [XI-XX]»), от той корректировки, которую внесла постановка «женского вопроса» в создание социального портрета женщины в России XIX-XX вв.
Во-вторых, хронологически будут привлекаться произведения последней четверти XIX в. и первой четверти XX в. (выборочно). Именно в этот период в русской литературе четко обозначились (дополняя, «поддерживая» друг друга и в то же время «конфликтуя» между собой) самые важные и оригинальные художественные интерпретации архетипа грешницы. Тексты, оказавшиеся за указанными временными границами, используются по мере необходимости, но детальному анализу не подвергаются.
Наконец, в-третьих, поскольку для данной работы приоритетным было раскрытие национального своеобразия художественной реализации архетипа грешницы, в текстологическую базу были внесены произведения некоторых испано- и португалоязычных авторов Латинской Америки. Анализ произведений М. де Карриона, М. Гальвеса, Ж. Амаду, Г. Гарсиа Маркеса, М. Варгаса Льосы и других представителей латиноамериканской литературы XX в. дал возможность сформулировать особенности национальной репрезентации исследуемого архетипа в русской словесности.
Основная цель исследования формулируется следующим образом - на материале разноплановых в жанровом отношении и представляющих различные «литературные ряды» произведений русской литературы конца XIX (с учетом предшествующего этапа) -первой трети XX в., затрагивающих тему женской греховности, обнаружить специфику художественной репрезентации архетипа грешницы (как инвариантной модели, опирающейся на трактовку категории греха в христианской культуре) в отечественной словесности.
Достигнуть поставленной цели можно при условии решения нескольких взаимосвязанных исследовательских задач:
выявить и аналитически систематизировать представления о грехе в русском языковом и художественном сознании;
определить научно-теоретическую базу для изучения архетипа грешницы на
персонажном, мотивном и сюжетном уровнях, особое внимание при этом уделяя методологическим аспектам;
проследить генезис и развитие данного архетипа в русской литературе XIX -начала XX в.;
взяв за основу классическую модель «падение - раскаяние - страдание -искупление - спасение» в качестве архетипического ядра в текстах о грешницах в русской литературе, обозначить важнейшие неканонические оригинальные авторские трактовки архетипа грешницы, сосуществующие, но и конфликтующие и в русском литературном сознании рубежа XIX-XX вв.;
обнаружить топос женской греховности (один из доминантных) в русской литературе XIX - начала XX в., реализующийся в так называемом «бордельном пространстве»;
дать главные характеристики «бордельного пространства» отечественной словесности, представив наиболее полный репертуар повествовательных стратегий, разработанный русскими литераторами для художественного изображения женской греховности.
раскрыть национальное своеобразие воплощения означенного архетипа через сопоставление с образом «грешницы» в латиноамериканской литературе;
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, среди которых можно выделить, прежде всего, работы по теории мифа, фольклора и мифопоэтике, а также по вопросам литературной архетипики, художественных констант и универсалий (С. Аверинцев, Е.М. Мелетинский, Л. Пинский, В.Н. Топоров, Ю.В. Доманский, А.Л. Топорков, М.Н. Климова, А.Ю. Большакова, А.Е. Нямцу). Кроме того, при написании диссертации важнейшими были исследования, посвященные разысканиям в области литературной топики (Е. Курциус, М.М. Бахтин, A.M. Панченко). Помимо этого, учитывались собственно теоретико- и историко-литературоведческие работы, связанные с общими вопросами: например, с трактовкой терминов «беллетристика», «массовая литература» (Ю.Н. Тынянов, Б. Эйхенбаум, М.В. Михайлова, СИ. Кормилов, Н.Л. Вершинина), с феноменами маскарада и маски (В.В. Иванов, А.Л. Гринштейн, Л.А. Софронова, Е.М. Таборисская), а также относящиеся к различным аспектам творчества того или иного писателя (Л.А. Иезуитова, Г.Д. Исенгалиева, Е. Нымм, Е.К. Созина, СИ. Щеблыкин). В качестве дополнительного (нелитературоведческого) материала были использованы работы по социологии, культурологии, истории, праву, связанные с темой проституции (И. Блох, О. Вейнингер, Я. Гилинский, Д.-Р. Дюпуи, И.В. Князькин, М.Г. Кузнецов, СЕ. Панин, Н.В. Ходырева),
«женским вопросом» и женской историей в России (Е.А. Бобровник, Т.А. Карченкова, Л.П. Костюкевич, Д. Мацкевич, В. Хвостов), эротологией и национальным Эросом (Г.Д. Гачев, СИ. Голод, В. Райх, М. Эпштейн), маргинальностью (В. Каганский), игрой (И. Хейзинга). Наконец, подготовка компаративистской части исследования осуществлялась с опорой на труды ведущих отечественных латиноамериканистов, посвященные литературному процессу в Латинской Америке в целом, специфике латиноамериканской литературы периода «бума» (1950-1970-е гг.), проблеме так называемого «магического реализма», творчеству отдельных писателей (И.А. Тертерян, В.Б. Земсков, В.Н. Кутейщикова, Л. Осповат, Л. Выгодский, Ю.Н. Гирин, А.Ф. Кофман, 3. Плавскин, X. Портуондо, Л.А. Шур).
Методологическая база исследования основывалась на понимании особенностей современной, постнеклассической, науки, основополагающими характеристиками которой являются глобализм, поиски метанаучного знания, стремление к построению целостной картины мира, диалог культур, тенденция к полидисциплинарным альянсам. Таким образом, отправной точкой данной работы являлась идея о перспективности при изучении такого феномена, как архетип грешницы, обращения к методологическому синтезу, обеспечивающему комплексный подход и глубокий анализ изучаемого предмета, который включает мифокритический (Е.М. Мелетинский), психоаналитический (К.Г. Юнг), мотивный (И.В. Силантьев, Ю.В. Шатин), структурно-семиотический (Ю.М. Лотман), интертекстуальный подходы (Н. Пьеге-Гро, В.Н. Топоров, Н.А. Фатеева) и сравнительно-исторический (Д. Дюришин, В.М. Жирмунский) методы. Также использованы элементы биографического (Ш.О. Сент-Бёв), текстологического (Д.С. Лихачев, Б.В. Томашевский), культурологического (Л.М. Баткин, В.Е. Хализев) и гендерного (О.В. Рябов, Н.В. Ходырева, Э. Шоре) типа исследований. Общую методологическую картину работы определяет и обращение к идеям, высказанным в рамках постколониалъных исследований (Б. Андерсон, X. Бхабха, Л. Ганди, Э. Сайд).
Положения, выносимые на защиту:
Категория греха, заключающая в себе идею о нарушении предписанной нормы, является важнейшим концептом языковой картины мира и архетипическои константой национального сознания, и реализуется в языке, художественной литературе и культуре в целом во взаимосвязи с христианскими представлениями о наказании, покаянии и спасении, противопоставленным понятиям добродетели, чистоты и святости.
Православное понимание греховности выступает смысловым ядром архетипа грешницы - сложного художественного конструкта, реализующегося в русской словесности на сюжетном, персонажном и мотивном уровнях, в основу которого
положена устойчивая схема «падение — раскаяние — страдание — искупление — спасение», значительно трансформируемая писателями в ходе литературного процесса конца XIX -первой трети XX в. Архетип грешницы коррелирует с другой аксиологически значимой для русской культуры и литературы художественной моделью - мифом о Великом грешнике. Однако когда речь идет о грехе, совершаемом женщиной, диапазон греховных поступков сужается преимущественно до прелюбодеяния, а греховность героини определяется ее полом и сексуальностью, поэтому отдельные ипостаси «падших» представлены главным образом соблазненными и покинутыми девушками, любодещами, содержанками, продажными женщинами и кровосмесительницами.
3. «Канон» описания грешницы, отсылающий к христианскому праобразу «кающейся
блудницы», сложился в 1830-1860-е гг. Затем русская утопия о спасении «падшей»
становится предметом тотальной критики в параметрах художественной словесности и
происходит разрушение и трансформация вышеназванной архетипической цепочки.
Критический взгляд на «миф» о возрождении грешницы закрепляется к концу XIX в., и в
этот же период наблюдается обновление архетипа, поскольку именно на рубеже ХІХ-ХХ
столетий писатели подводят итоги более чем столетнего осмысления феномена «женщины
во грехе», создавая своеобразные «энциклопедии» по истории женского «падения» и
продажности.
4. Топос женской греховности понимается, с одной стороны, как многоуровневая
единица «резонантного пространства» культуры и литературы, представляющая собой
совокупность отдельных ло/^сое-репрезентантов, а с другой - как стратегии описания в
литературе греха, совершаемого женщиной, на сюжетном, персонажном и мотивном
уровнях. При этом данный топос является конкретной текстовой реализацией архетипа
грешницы, локализованного в коллективном бессознательном и несущего в себе идею
греха-«падения» женщины. Топос женской греховности также выступает частью
«борделъного пространства» русской литературы, которое можно определить как
«место» нерегламентированной эротики, т. е. нарушения предписанных норм
сексуального поведения, чаще всего описываемого в терминах греха, морального падения,
скверны и пр.
5. Национальная оригинальность воплощения архетипа грешницы в русской словесности отчетливо проявляется при сопоставлении с воплощением темы женской греховности в латиноамериканской прозе, реализуемой в 1900-1920-х гг. под воздействием идей Л. Толстого, Ф. Достоевского и эстетики французского натурализма, а в 1930-1970-х гг. через мифологему «подлинной» женщины Латинской Америки.
Апробация исследования. Основные положения работы получили апробацию на
Двенадцатых филологических чтениях «Морфология дискурса лжи в литературе и искусстве» (Новосибирск, 2011), Международной научной конференции VII Майминские чтения «Эпические жанры в литературном процессе XVIII-XX веков: забытое и "второстепенное"» (Псков, 2011), XIV Международной научной конференции «Феномен заглавия» «Заглавие в контексте» (Москва, 2011), Международной научной конференции «Русская литература XVIII-XXI вв.: диалог идей и эстетических концепций» (Лодзь, 2010), XIII Международной научной конференции «Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики» (Гродно, 2010), X международной студенческой научной конференции в Нарвском колледже (Нарва, 2010), Международной научно-практической заочной конференции «Архетипы и архетипическое в культуре и социальных отношениях» (Пенза, 2010), II Международной конференции «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков» (Санкт-Петербург, 2010), III Международной научной конференции «Коды русской классики: "Дом", "Домашнее" как смысл, ценность и код», посвященной 90-летию со дня основания и 40-летию со дня возрождения первого классического университета в Самарском крае (Самара, 2009), VIII Тертеряновских чтениях «Литературный процесс: возможности и границы филологической интерпретации» (Москва, 2009), XIV Шешуковских чтениях «Литературы народов России в социокультурном и эстетическом контексте» (Москва, 2009), VT Международной научной конференции «Лев Толстой и мировая литература», посвященная 180-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (Тула, 2008), V Международной летней школе на Карельском перешейке (Санкт-Петербург, 2008), XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2008), II Международных Весенних Толстовских чтениях (Москва, 2007).
Теоретическая значимость работы состоит не только в осмыслении архетипа грешницы как целостного художественного феномена, но и в том, что результаты, полученные в процессе исследования, могут послужить основой для дальнейшей разработки данной проблемы в русской и зарубежной литературах. Также ключевые положения диссертации важны для разысканий в области истории русской литературы рубежа XIX-XX вв., тендерных штудий, компаративистики, культурологии. Особое значение приобретают выводы относительно значения культурного и литературного взаимодействия между Россией и Латинской Америкой.
Практическая значимость заключается в возможности использовать материалы диссертационного сочинения в курсах лекций по теории и истории русской литературы конца XIX - начала XX в., гендеристике, сравнительному литературоведению и при
подготовке спецкурсов и спецсеминаров, посвященных вопросам литературной топики, архетипики, мифопоэтики, мотивной структуры, феминологии и т. д. Также информация о литературе «второго ряда» и «паралитературе», о «второстепенных» писателях, полученная диссертантом в ходе работы, открывает широкие возможности для публикаторской деятельности, т. е. для восстановления подлинно масштабного полотна бытования отечественной словесности.
Образы грешниц в литературе как предмет литературоведческого анализа: к истории вопроса
В- предыдущем параграфе мы рассмотрели феномен греха с точки зрения лингвокультурологии и литературоведения. Теперь обратимся к более частным работам, посвященным грешникам и грешницам отечественной словесности. Прежде всего укажем, что авторами этих исследований принимается во внимание семантическая динамика внутри одноименных концептов. Так, грешник / грешница B,XI-XVTI веках — «тот, кто нарушает религиозные предписания» . Следовательно, оппозицией в данном случае выступала лексема святой / святая. И .Ю. Абрамова, затронув проблему специфики одного из стилей древнерусской литературы «плетение словес» (появляется в конце XIV - начале XV века), обратилась, к анализу произведений Епифания» Премудрого («Житие Стефана Пермского», «Житие Сергия Радонежского») и пришла- к выводу, что наиболее полно идея святости раскрывается в агиографии , т. е. в житийной литературе. Каноническое же житие святого — «это прежде всего описание пути подвижника к спасению, утверждение определенного типа святости» . Нас, напротив, будет интересовать именно «житие грешника, (грешницы!)» и формы его воплощения в художественной литературе, однако с учетом того, что в XX веке смысловой объем концепта «грешник» расширяется до значения «человек, совершающий проступки, преступления; порочный, нарушитель религиозных предписаний»194.
В отечественном литературоведении обращение к образу Великого грешника традиционно связано с творчеством таких разных писателей, как А.С. Пушкин («Родрик»)195, Н.А. Некрасов («Кому на Руси жить хорошо»)196, Ф.М. Достоевский («Влас»1 7, замысел романа «Житие Великого грешника»)198, Л.Н. Толстой (например, рассказ «Кающийся грешник»)199, Д.Н. Мамин-Сибиряк («Великий грешник»)200, М. Горького («Отшельник»)" , А. Блока («Двенадцать»)" и др. Судьба заглавных героев этих произведений «встроена» в «одну из важнейших для русской литературы архаико-мифологических сюжетных схем» — миф о великом грешнике — «смысловое ядро которого образует идея нравственного возрождения падшего человека»" . М.Н. Климова, посвятившая данной проблематике несколько интереснейших статей, попыталась проследить основные этапы эволюции указанного мифа. Так, исследовательница, подчеркивая тот факт, что «учение о покаянии и отпущении грехов занимает ... одно из центральных мест в нравственной проповеди христианства»204, в качестве образцов для рассказов о раскаявшихся грешниках в христианских литературах Запада и Востока называет «евангельские притчи о мытаре, блудницах и благоразумном разбойнике, а также чудесное преображение гонителя Савла»" . Композиция таких рассказов, по мысли М.Н. Климовой, соответствует богословской триаде «грех — покаяние — спасение», однако если «первые памятники подобного содержания (например, патериковые рассказы) сообщают о былых прегрешениях своих героев стыдливой скороговоркой, уделяя основное внимание описаниям их последующей святости, а само превращение грешника в святого изображается здесь как мгновенный и необратимый акт, зачастую лишенный какой-либо психологической мотивировки»" 6, то «с течением времени значимость и удельный вес первой части» триады начинает возрастать...»2 7. Таким образом, например, изменяются Житие Марии Египетской и Великий канон Андрея, архиепископа Критского. «Такая этическая категория, как "грех", — пишет М:Н. Климова, — имеет для русского национального самосознания чрезвычайное значение, являясь одним- из важнейших архетипических понятий, корни которого уходят в глубины этнического коллективного бессознательного» . Поэтому для русской культуры характерным оказывается восприятие героя-грешника как «героя национального (курсив наш. - Н.М.), в индивидуальной борьбе которого определенным образом отразилась и преломилась историческая судьба его Родины»209.
Следующий виток, на котором произошли актуализация и переосмысление этого в идения греховности и падшести человека, пришелся на рубеж XIX-XX веков, т. е. совпал с периодом кризисного состояния культуры и духовности России и Европы в целом. Нам представляется, что М.Н. Климова совершенно оправданно усматривает связь между нравственными потрясениями прошлого столетия и пристальным вниманием философии и литературы к феноменологии греха: «Сотрясавшие планету социальные катаклизмы XX в. перечеркнули, казалось бы, все представления традиционного гуманизма и одновременно придали новую злободневность старому библейскому мифу о грехе, покаянии и искуплении. И эту, поистине неистребимую потребность грешной человеческой души в покаянии мировая литература "безбожного" XX в. несомненно выразила»" .
Что касается феномена грешницы, воспроизводимого в литературе, то здесь ситуацияv сложнее. Несмотря на живейший интерес отечественной литературы к теме женской греховности, которую» в той или иной мере затрагивал, наверное, каждый русский писатель, факты литературоведческой рефлексии, лишенные необходимого концептуального ядра, при всем многообразии производят впечатление спорадических. В- основном исследования посвящены отдельным воплощениях образа грешницы, в то время їкак внастоящей работе сделана попытка не только представить данное явление как целостное, как совокупность, всех его реализаций, но и вывести понимание этого феномена на более сложный уровень архетипики и топики, в том числе с учетом сравнительного потенциала работы.
Модель «падение — раскаяние — страдание — искупление — спасение» как архетипическое ядро в текстах о грешницах
Концептуальное ядро понятия «грешница» в русской культуре составляют различные формы женской нравственно-этической и (чаще всего) эротико-сексуальной девиации345, т. е. те ситуации, где поведение героини выходит за рамки норм морали современного ей общества. При этом немаловажным оказывается- то, что она не только теряет свой первоначальный статус «добропорядочной» («чистой», «невинной», «добродетельной», «честной» и т. д.) девушки, с точки зрения своей семьи и окружения34 , но и- сама осознает себя- как «нечистую», «бесчестную», «падшую», «развратную», «погибшую», «гадкую» и пр: (ср:: «Окаянная я грешница!..», «велика грешница», «Прости, прости меня, грешную!..», «велик мой грех», «О, горе мне, горе великой грешнице», «Мир- ее грешному праху!», «Подлаяя, гадкая! ... Пошлая! ... мерзкая!» и т. д.):
Как отмечалось выше, сложившаяся к концу XIX — началу XX века типология, литературных грешниц включает в себя «соблазненную» (видимо, первый яркий образ «соблазненной» в русской литературе дал" Н.М. Карамзин в повести «Бедная Лиза», являющейся средоточием так называемого «"Лизиного" контекста» ; затем мы находим его в «Русалке» А.С. Пушкина и т. д.), «содержанку» (эту разновидность «грешницы» мы впервые обнаруживаем в «Пригожей поварихе, или Похождении развратной женщины» М.Д. Чулкова, написанной в 1770 году; более частный вариант «содержанки» — «камелию» раскрывает в своих рассказах-очерках И.И. Панаев: «Дама из петербургского полусвета», «Камелии», «Что такое нравственность?», «Шарлота Федоровна [вовсе не детский рассказ]», «Шпиц-бал за, городом» - эти произведения объединены в сборнике под заглавием «Очерки из петербургской жизни»), «прелюбодейку» (тема неверной жены, как указывают М. Литовская, и Е. Созина, впервые нашла отражение в истории отношений Саввы с молодой женой Бажена в «Повести о Савве Грудцыне», созданной в.60-е годы XVII века), «проститутку» (одним из первых упоминаний этого образа в отечественной словесности является «Дружеское наставление торгующим своею красотою от соболезнующих о их неумении» Я.Б. Княжнина и анонимный «Ответ на дружеское наставление торгующим своею красотою» и, наконец, «кровосмесительницу» (несмотря на то, что «мотив инцеста для отечественной литературы традиционно считается редким и всегда заимствованным»349, как отмечает М.Н. Климова; разработку частного» варианта ситуации кровосмешения — Эдипова сюжета — мы, находим, правда, не на русском материале,,уже вітрагедии В:А. Озерова «Эдип в Афинах» 1804 года).
Необходимо учитывать, что четких границ между этими ипостасями, создающими единый образ женщины согрегиившей, нет, поэтому часто одна и та же героиня-, может одновременно быть, например, проституткой и кровосмесительницей (Франсуаза в одноименном рассказе Л.Н. Толстого) или отношения между «спасенной» блудницей и «спасителем» только мыслятся как братско-сестринские, но при этом герои вступают в сексуальную связь, что дискурсивно влечет за собой ситуацию «инцеста» (Лихонин и Любка в «Яме» А.И. Куприна). Особый интерес представляет совмещение «соблазнения» и «проституирования». Как указывает А.К. Жолковский, « совращению может подвергаться либо невинная девушка, становящаяся в результате проституткой, либо уже продажная женщина, оказывающаяся объектом "вторичного" ухаживания» . Последний вариант, в частности, представлен в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского, «Парадизе» Г.И. Чулкова и т. д. Гораздо чаще выделенные нами разновидности грешниц являются для героини последовательными стадиями ее жизни351 (так, вовлечению в проституцию может предшествовать соблазнение — «Воскресение» Л.Н. Толстого, инцест — «Брат-искуситель и падшая1 сестра» Ал.П. Александровского; в романе В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» Маша Поветина. сначала соблазняется князем Шадурским, затем становится его новой любовницей-«камелией» и, наконец, попадает в разряд проституток и т. д.).
Показательно, что помимо внутренней нечеткости границ между отдельными ипостасями греховной героини, в русской концептосфере существует понятие «падшей женщины», релевантное грешнице. Авторы произведений, в основном или «рамочном» (в том числе- в заглавии) текстах которых содержится лексема «падшая», обращаются к темам инцеста (выше уже называлась повесть Ал.П. Александровского, также рассказ «Отец» из сборника О. Белавенцевой «Трагедии падших»), супружеской неверности, женской продажности («Падшая» Н. Левицкого, произведения В.М. Гаршина и пр.), а также описывают мир кокоток («Падшая: Признания Камелии» A.M. Дмитриева) и обесчещенных девушек (трилогия И.Г. Погуляева «Жертвы пауков: Из жизни падших и погибших»). Следует признать, что все-таки большая их часть апеллирует к торговле телом женщины, и образ «падшей» героини тяготеет в смысловом отношении к типу «проститутки». Однако это объяснимо, если учесть специфику формирования самого термина проституция в русской культуре, где в этическом плане большое влияние оказала христианская традиция, а в юридическом — немецкое право. И. Блох, рассуждая о различных источниках представлений о торговле женским телом, пишет, что «согласно христианскому учению, проституция — известная форма разврата», объединяющая «любые внебрачные половые сношения», в отличие от римского права, различающего проституцию и иные формы внебрачного сожительства (конкубинатка, метресса, дама полусвета). «...Третий источник выработки понятия проституции, — указывает историк, — германское право. Воззрение его аналогично христианскому в том смысле, что оно также не- проводит строгого различия между проституцией и внебрачным распутством-. Вот почему древнее: немецкое: слово "Hure" (блудница) равно обозначает падшую, лишенную девической; чести девушку, развратную женщину,. нарушительницу супружеской верности, любовницу, и, наконец; продающуюся за деньги публичную женщину» .
Конкретно-исторический и художественный уровни воплощения «бордельного пространства»
Как пишет И.П. Бакалдин, «любовная наука, выработанная веками, с ее обстановкой и функциональной сутью значима и в сугубо формальном плане, поскольку отдельные детали публичного дома создают стилистически целостный "текст", способный выступить эстетическим знаком, симптомом падшести даже в том случае, когда речь не идет собственно о проституции» . Именно бытовым подробностям «бордельного пространства» - фасаду и интерьеру, семантике звука, цвета и света и? т. д. — посвящен данный.параграф нашей работы.
История «классического» публичного дома в России580 началась в 1843 году с учреждения в Санкт-Петербурге при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел особой - женской больницы и врачебно-полицейского Комитета и, годом позже, публикации правил для содержательниц борделей и для публичных женщин, т. е. признания проституции терпимой, а закончилась вЛ917 году отказом от регламентации. Однако, как. справедливо указывает М:Г. Кузнецов и другие исследователи, местом, в котором совершалась коммерческая сделка между проституткой и ее клиентом, т. е. достигалась конечная цель любого дома терпимости, могли служить тайные притоны, бани, гостиницы, трактиры, портерные, кабаки, съемные квартиры, кафе-шантаны, пассажи, дома свиданий, а то и просто улица ". Кроме того, учитывая специфику «бордельного пространства», о которой было сказано выше, этот список можно дополнить локусами, не связанными непосредственно с торговлей женщиной: комната, где происходит первое падение героини, место совершения инцестуального греха, место встреч неверной жены с любовником и т. д. Таким образом, мы подчеркиваем полиморфностъ публичного дома, синекдотически символизирующего «бордельное пространство» в целом, т. е. способность данного локуса «менять очертания», быть чрезвычайно пластичным.
В «частности, он может «сужаться» до комнаты проститутки (в том числе и в публичном доме). Это пространство часто многофункционально: это и столовая и спальня (отличающаяся как от «классической» девической опочивальни, так и от супружеской спальни), и гостиная: Здесь героиня принимает и посетителей, и «гостей». Комнату проститутки чаще всего отличает неопрятность, крикливая безвкусица («аляповатая мишура», на которую обращает внимание А.П. Чехов в «Припадке»), пошлость или нелепость (подчеркивание наивно розовых и голубых тонов интерьера) в сочетании с претензией на роскошь-или, наоборот, бедность обстановки, (при непременном?наличии« «ложа любви»).1
Так, квартиру, где обитает прекрасная незнакомка художника Пискарева, отличает «какой-то неприятный, беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка»584. Хорошая мебель была покрыта пылью; «паук застилал своею паутиною лепной карниз» . Гоголем подчеркивается «антидомашность», и следовательно «антиженственность»586, «бордельного» локуса: «...голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки» . Похожа на сарай и Сонечкина комната в доме портного Капернаумова. Достоевский описывает ее низкие потолки и наглухо закрытые двери, ведущие к хозяевам и другим жильцам, как бы подчеркивающие невозможность избавления от той жизни, которую выбрала Соня. Внутреннее убранство жилища очень бедно и дополняется уродливостью перекошенных стен и мрачностью окон, выходящих на канаву . В «скверной комнате, в которой. можно жить только пьяной» , обитает и Надежда Николаевнаврассказе B.1VT. Гаршина «Происшествие»590. В андреевском «В тумане» проститутка Манечка приводит Павла Рыбакова в «душную комнату, в которой сильно пахло сапожным товаром и кислыми щами, горела лампада, и, за ситцевой занавеской - кто-то отрывисто и сердито храпел» . Герой в полубессознательном состоянии-» в темноте, то и дело оступаясь, спускается в мрачную каморку женщины, словно в ад. М. Зотов в рассказе «Жена-развратница» называет съемную-квартиру проститутки Саши «звериной клеткой» и также акцентирует внимание на ее запущенности: «на полу валялись осколок зеркала, коробка с пудрой, гребенка да засаленная обверточная бумага» . В салоне m-me Дуду стоит «пианино с порванными нотами, вазочка с увядающими цветами, пятно на полу от пролитого ликера...»5 ; также у Огарева в «Истории одной проститутки» гости сначала сидят в «огромной зале, неопрятной, но хорошо освещенной»594, затем перемещаются в гостиную, обои и мебель которой «были богаты, но ... изорваны и запачканы»5 5. Поручик Сокольский в чеховской «Тине» оказывается в богато убранной гостиной кокотки-еврейки, «с претензией на роскошь и моду», но при этом, отличающейся безвкусицей и отсутствием уюта: «Тут были темные бронзовые блюда с рельефами, виды Ниццы и Рейна на столах, старинные бра, японские статуэтки, но все эти поползновения на роскошь и моду только оттеняли ту безвкусицу, о которой неумолимо-кричали золоченые карнизы, цветистые обои, яркие бархатные скатерти, плохие олеографии в тяжелых рамах. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя теснота, когда кажется, что чего-то недостает и что многое следовало бы выбросить. Заметно было, что вся. обстановка заводилась не сразу, а частями; путемх выгодных случаев; распродаж.
Поручик сам обладал не бог весть каким вкусом, но и он заметил, что вся обстановка носит на себе одну характерную особенность, какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно — полное отсутствие следов женских, хозяйских рук, придающих, как известно, убранству комнат оттенок теплоты, поэзии и уютности. Здесь веяло холодом, как в вокзальных комнатах, клубах и театральных фойе»596.
Девиантное поведение личности в рамках «бордельного пространства». Маргинальность его статуса
Валентина в своей комнате, готовясь к вечернему «выходу», делает «модную прическу, с особенным ухарством держа во рту папиросу», «старательно растирает ладонями щеки какой-то белой мазью», потом натирает лицо кармином так, что оно «из бледного ... делалось розовым, а сочные красные губы звали к поцелую»935. Выпив водки, героиня продолжает гримироваться: она «зажгла спичку, взяла фарфоровую крышку от баночки и коптила ее на огне спички, пока крышка не покрылась сажей, тогда зубной щеткой стала чернить брови»936. BL это же время к ней приходят ее товарки «за пудрой, или за зеркалом, или за краской для гримировки»937.
Характерно, что многие писатели отмечают лишь внешнюю, кажущуюся привлекательность такого макияжа, которая исчезает при более внимательном взгляде , обнаруживая резкий контраст между лицом и личиной1 - происходит отторжение маски939. Этот процесс показал, в частности, А.И. Куприн. В «Штабс-капитане Рыбникове» лица продажных женщин «в светлом, белом сумраке майской ночи казались, точно грубые маски, голубыми от белил, рдели пунцовым румянцем и поражали глаз чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей; нопгем жалче из-под этих наивно-ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков худоба жилистых шей и ожирелость дряблых подбородков»940. У И.А. Бунина в «Барышне Кларе»941 главному герою продажная женщина, на которую он обратил внимание в ресторане, сначала кажется «верхом красоты и нарядности: роскошное тело, высокие груди и крутые бедра — все стянуто атласным черным платьем; на широких плечах горностаевая горжетка; на смольных волосах великолепно изогнутая черная шляпа; черные глаза с налепленными стрельчатыми ресницами блещут величаво и независимо, тонкие, оранжево накрашенные губы гордо сжаты; крупное лицо бело, как мел, от пудры...» Однако оказавшись у нее в комнате, Ираклий Меладзе понимает, что «она уже старая»: у нее «пористое меловое лицо, густо засыпанное пудрой», «оранжевые губы в трещинках», «страшные налепленные ресницы», «широкий серый пробор среди плоских волос цвета ваксы»943. Глаза - «зеркало души» - не могут скрыть душевной травмы девушек из рассказа Е. Вихря «Отец и дочь»: «Лица их всех были нарумянены, напудрены, губы каждой улыбались, но в глазах многих светились отчаяние и беспредельная тоска. Обращались они с мужчинами весьма развязно, с каким-то неестественным ухарством».
Лихорадочность движений, вызывающие жесты, пугающий своей нереальностью, крикливостью грим, окружающая иногда грешницу бутафорская роскошь дополняются показным разнообразием «товара», чей ложный блескч и шик призван заманить клиента. «Что1 за смесь племен, лиц, красок и» запахов! — восклицает по этому поводу Чехов. — Дамы красные, синие, зеленые, черные, разноцветные, пестрые, точно трехкопеечные лубочные картинки...945. Ю. Ангаров подтверждает, что в «бордельном пространстве» «тут и там рябит глаза» масса пестрых тканей, боа, жакеток, лент, громадных шляп»946, и Брюсову здесь бросаются в глаза «боа неимоверных мех / И перебои шляп и бантов»947.
Костюм каждой девушки отличает беспорядочное смешение цветовой гаммы (которая сама по себе очень яркая режущая глаз), щедро «приправленное» блеском тканей, наличие нелепых украшений и неподходящих аксессуаров4 . Так, у Горького героиня «одета ... ослепительно: на ней красная кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами, юбка цвета бордо; это великолепие увенчано серебряным кавказским поясом, а над ушами, на гладких волосах — бантики оранжевого цвета»949. М.Н. Альбов, в свою очередь, указывает на то, что у «падших» «всегда яркий костюм, движения резки, смех очень громок, лица как бы разрисованы белою и красною краской...»; девушки обычно появляются «в ярких платьях, с размалеванными щеками», например, одна из них — девица «в ярко-зеленом платье и шляпе с широкими полями и красным пером», а другая «набелена, нарумянена и в каком-то ярком платье с красными бантами»950.
Пестрота костюмов (и то же-время их поразительная традиционность из произведения в произведение) создает эффект комедии дель арте, творящейся на глазах читателя. Например, в «Парадизе» Г.И. Чулкова Аглая и Лидочка были одеты мальчиками, а третья, девушка, Соня, была в розовом коротком платье, какое делают маленьким детям, в розовых чулках и туфлях, а в руках держала куклу951; Хильда («Фрина») одета «в мужской костюм»952, а обитательницы «Ямы» — «в» открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбачек, гимназисток»953. В другом произведении Куприна проститутки «...все до одной ... были хорошенькие, сильно напудренные, с обнаженными белыми руками, шеями и грудью, одетые в блестящие, яркие, дорогие платья, некоторые в юбках по колено, одна в коричневой форме гимназистки, одна в тесных рейтузах и жокейской шапочке» .
Однако обманчивая «мишура» пышного женского туалета, созданного для клиента, нередко сменяется описанием повседневного платья грешницы, поражающего своей неряшливостью , выставлением напоказ интимных подробностей. В некотором смысле это «минус-костюм», «актриса» разоблачается почти до полного обнажения тела. В рассказе «Падшая». Н. Левицкого на героине надета «белая, короткая юбка, с какими-то круглыми темными пятнами, расстегнутая красная кофточка, обнажавшая грудь и кружево рубахи» . Рядом с ней живут другие девушки, «молоденькие; на вид еще девочки, бледные, с ввалившимися бесцветными глазами, растрепанные, с небрежно- одетыми юбками и кофтами, сквозь которые выглядывало тело» . Сходные описания «утреннего туалета» проституток можно найти у Куприна в «Яме», у Арцыбашевав «Бунте» и т. д. Чтобы обнаружить лживый «блеск» костюма грешницы, читателю не обязательно наблюдать заг ней, когда, она, «не-на. сцене».