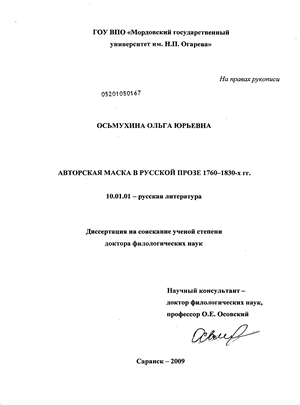Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Историко- и теоретико-литературные феномена авторской маски
1.1. Феномен маски: сущность, многообразие смыслов и трактовок
1.2. Авторская маска в процессе становления авторского сознания и формирования института авторства
Глава 2. Генезис и формирование традиции авторской маски в литературе русского средневековья
2.1. Зарождение явления авторской маски в «Молении» Даниила Заточника» и «Хожении за три моря» Афанасия Никитина
2.2. Авторская маска как прием эпистолографии Ивана Грозного и Андрея Курбского
2.3. Своеобразие функционирования авторской маски в «Житии» протопопа Аввакума эпоху
Глава 3. Маска как форма авторской репрезентации в становления писательского сознания 1760-1790-х гг. в прозе
3.1. Аутентичность условность авторского облика М.Д. Чулкова
3.2. Игровое соотношение автор - нарратор - герой в прозе Д.И. Фонвизина и Н.М. Карамзина
3.3. Своеобразие авторских масок в прозе И.А. Крылова
Глава 4. Образ фиктивного автора-нарратора в русской прозе первой трети XIX столетия
4.1. Авторская маска в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина: генетические корни, специфика функционирования
4.2. Специфика авторских масок В.Ф. Одоевского («Пёстрые сказки») и Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»): созвучия и расхождения в несостоявшейся «Тройчатке»
4.3. Преломление традиции авторской маски в отечественной прозе середины 1830-х гг.
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1. Специфика использования авторской маски в учительских текстах протопопа Аввакума
Приложение 2. Авторская маска в письмах Петра I князю-кесарю Ф.Ю. Ромодановскому
Приложение 3. Судьбы авторской маски в отечественной прозе XX столетия
- Феномен маски: сущность, многообразие смыслов и трактовок
- Зарождение явления авторской маски в «Молении» Даниила Заточника» и «Хожении за три моря» Афанасия Никитина
- Аутентичность условность авторского облика М.Д. Чулкова
- Авторская маска в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина: генетические корни, специфика функционирования
Введение к работе
Актуальность исследования. На рубеже XX-XXI вв. становится очевидно существование определенных традиций, прослеживающихся от истоков становления русской литературы до дня сегодняшнего, прежде всего традиции авторской маски. Пристальное изучение генезиса авторской маски, этапов становления и развития, с одной стороны, раздвигает горизонты феномена автора, а с другой - позволяет исследовать арсенал приемов, которым располагает рефлектирующий автор, арсенал, нацеленный на него самого.
Актуальность темы исследования обусловливается как теоретическими, так и практическими причинами. В настоящее время в отечественной гуманитаристике наблюдается заметный интерес к феномену маски в целом, а в современном литературоведении, в частности, — к явлению литературной маски, необходимости его четкого терминологического определения. Об этом свидетельствует проведение многочисленных конференций, так или иначе затрагивающих теоретические аспекты проблемы автоинтерпретации и саморепрезентации [см.: 259; 260], симпозиумов1 и появление большого числа публикаций, в том числе тематических сборников, в которых исследуется круг вопросов" [76; 77; 78; 274], так или иначе связанных с дискуссионной проблематикой авторства, авторского сознания, авторской идентичности. Решение проблемы авторской маски позволяет по-новому увидеть и представить специфику эволюции авторского сознания, проблем авторства и всего комплекса вопросов, связанных с развитием авторского сознания на фоне истории русской литературы. Подобный теоретический и историко-литературный интерес к явлению, считавшемуся ранее всего лишь одним из приемов постмодернистской поэтики, должен иметь под собой серьезное основание, которое до сих пор никем не было выявлено, и с неизбежностью должен привести к пересмотру места и функций маски в повествовательной структуре художественного текста, а также, как следствие - и к иному определению самого понятия авторской маски.
Интерес к авторской маске исследователей самых различных специальностей - от литературоведов и лингвистов до философов и культурологов - в последние десятилетия, как правило, замыкается литературным полем постмодернизма, что весьма ограничивает теоретические и историко-литературные интерпретации этого феномена. До сих пор большинство пишущих о ней не учитывало возможность выхода за пределы постмодернистского круга авторов и проблем постмодернистской литературы. Между тем, феномен авторской маски имеет глубокие историко-литературные корни, в том числе в русской словесности, однако, в отечественной филологии не предпринималась попытка его сквозного, диахронного анализа. Очевидно, что лишь полномасштабный сопоставительный анализ функций авторской маски в различные периоды литературного развития может дать реальное научное представление о ее природе.
Общеизвестно, что изучение литературы предполагает не только детальное осмысление отдельных ее феноменов, осмысление ее на основе литературных кодов, смысловых оппозиций и категорий, но и исследование сквозь призму идентичности. Как справедливо указывает Л.А. Софронова, «текст находится в динамических отношениях с автором и читателем, в них вмешивается и литературный герой. В этих разнонаправленных связях решается вопрос об идентичности автора и героя, героя и читателя, автора и читателя» [479, с. 19]. Создатель художественного текста, творящий собственную реальность, постоянно идентифицирует мир в его различных
проявлениях, равно как и читатель-реципиент предпринимает попытку идентификации и художественного текста, и реальной писательской личности на основе конструируемого в тексте образа повествователя, рассказчика, автора. Читатель зачастую не отличает воображаемый образ автора от самого автора, приписывает последнему черты автора воображаемого, или наоборот, что составляет особое поле литературоведческих, культурологических и психологических исследований. По мнению большинства современных исследователей, вопрос о соотношении в художественном тексте «плана» автора «реального» и автора «фиктивного» (повествователя, себя за автора выдающего) является одним из ключевых для современного литературоведения. Особое значение приобретает этот вопрос для исследования отечественной прозы, изобилующей многовариантными повествовательными стратегиями, разнообразными «повествовательными инстанциями», по отношению к которым до сих пор не сложилось четкой классификации. Таким образом, актуальность исследования обусловливается ещё и необходимостью модификации существующих на современном этапе концепций повествования, погружения их в материал истории отечественной словесности с учётом существования авторской маски как важнейшего фактора формирования авторских стратегий повествования.
К настоящему времени в отечественной и западной гуманитаристике существует обширный пласт работ, в которых предпринимаются попытки осмысления маски как феномена сугубо театрального [см.: 181; 500], а также социально-психологического, культурологического, философского и литературоведческого [многообразные подходы к явлению маски выделены и проанализированы в нашей статье, см.: 382, с. 226-229]. Объясняется это, несомненно, постоянным присутствием концепта маски в историко-культурном пространстве человеческого бытия. Она является одним из наиболее давних спутников «человека культурного», в многочисленных своих ипостасях скрывая его подлинное «я» и представляя его в обличье, по выражению М. Фуко, «другого, отличного от других в их внешней объективности» [524, с. 193]. Смыслов маски как историко-культурного явления множество: маски театральные (роли и амплуа), карнавальные, социальные (имиджи), авторские. Наиболее интересным представляется ее собственно «человеческое» измерение: подлинное лицо художника скрывается за некой маской, прячась за которую в условиях своеобразной «игры» с действительностью, он устанавливает принципиально новый тип отношений, коммуникации не только с читателем или зрителем, но и со всем социокультурным контекстом эпохи. Это, заметим, касается не только историко-литературного контекста, но и пространства культурно-художественного и всей парадигмы человеческого бытия конкретного исторического периода, на что справедливо указывал Ю.М. Лотман [см.: 302, с. 297-298].
Естественно, что со временем функции маски в историко-культурной практике становятся все более разнообразными, порой они вступают в противоречие с устоявшейся традицией. По вполне понятным причинам усиливается размежевание бытовой и собственно культурной маски, что не может не сказываться на характере функционирования последней в собственно социокультурном пространстве. Причем, чем ближе происходящее к нашему времени, тем очевиднее и отчетливее выражена дистанция между различными формами маски. Маска как в прямом, так и в расширенном значении, является неотъемлемой составляющей литературного и шире - культурного пространства (русского и европейского), литературного и культурного сознания соответствующих эпох. В древнейшей, первобытной культуре маски всецело принадлежали обрядам, связанным с трудовыми процессами, культом животных, погребальным ритуалом, в последствие из которых возникли культовые действа [см.: 71; 72, с.251-260; 115; 119; 403; 487, с.99-103; 500; 572], а позднее - традиционные народные зрелища (заметим, что в традиционном театре Востока маска и по сей день используется в качестве одного из выразительных средств: японский театр Кабуки, Но и т.д.). В народно-праздничной культуре античности и средневековья маска была ее своеобразным сложным и многозначным мотивом [523; 210, с.25-41]. По справедливому мнению С.С. Аверинцева, в первобытной культуре маска противостоит опыту лица, поскольку оно меняется, а маска предстает завершенным сущим, причастным к истине: «Лицо живет, но маска пребывает. Неподвижно-четкая, до конца выявленная и явленная маска - это смысловой предел непрерывно выявляющегося лица. У лица есть своя история; маска - это чистая структура, очистившаяся от истории и через это достигшая полной самоопределенности, массивной самотождественности» [74, с.46]. В эпоху романтизма (а также в эпоху Серебряного века, развивающего некоторые романтические традиции) рассматриваемый феномен наполняется новым значением: маске, кроме сокрытия или утаивания, становится свойственен еще и обман [см.: 101; 303; 308]. Маска не только как способность к лицедейству, но и как неподлинность (или отсутствие) лица, его анонимность, вынужденный или намеренный отказ от собственного облика, идентичности - весьма показательная черта существования личности в рамках социума, диктующего определенные правила и законы [см.: 248; 249; 250; 261; 272; 567]. Кроме того, немаловажным аспектом «масочности», точнее, своеобразной модификацией маски, представляется явление имиджа, столь характерное для культуры современной, а также протеичность, под которой понимается свойственный постмодернизму взгляд на человека как на набор сменяющих друг друга масок. В целом же, как справедливо подчёркивает Вяч.Вс. Иванов, маска представляет собой «аналог лица», однако, в отличие от лица, «маска находится в свободном отношении к телу и личности человека. ... такое соотношение называется отчуждаемой принадлежностью: в отличие от лица, которое в каждый данный момент является неотъемлемой частью своего владельца, маска только временно и непрочно связана с тем, кто ее носит» [195, с.29]. Примечательно, что, давая, по сути, определение маски с точки зрения семиотики, исследователь акцентировал внимание на двух ключевых аспектах, относящихся к маске как таковой, вне зависимости от «области» ее рассмотрения: антропоморфность (взаимосвязанность с лицом, личностью) и ситуативность (временность, подвижность).
Говоря о контексте литературно-художественном, отметим, что важнейшим аспектом проблемы соотношения текста художественного произведения с авторским «я» этого текста является проблема автоинтерпретации (автореференциальности, самоописания, самоидентификации), т.е. выявления и исследования авторской интенции, способов авторской репрезентации в рамках художественного произведения. В художественной литературе существуют разнообразные способы авторской самоидентификации и саморепрезентации, выражающиеся во взаимоотношениях и взаимовлиянии автора и образа автора, автора и повествователя (рассказчика), их игровом самотождестве или - напротив — принципиальной невозможности такового. Затрудняющим для читателя идентификацию реальной писательской личности приемом, одним из способов авторепрезентации, наряду с псевдонимом [см. об этом: 184; 336; 337; 338, с. 31-40; 414; 488, с. 442-493.], мистификацией [см.: 129; 168; 279; 361; 367; 419; 420, с.16-25; 421, с.13-22; 423; 475, с.200-219; 511; 529, с. 137-148; 569], оказывается авторская маска. Как отмечал в начале 1920-х гг. М.М. Бахтин, рассматривая маску-личину как одну из ипостасей внутреннего образа человека через внешние его проявления, « ... вне героя и его собственного сознания нет ничего устойчиво реального ... , нет органической слиянности внешней выраженности героя „. с его познавательно-этической позицией, эта первая облегает его как неединственная и несуществующая маска или же совсем не достигает отчетливости, герой не повертывается к нам лицом, а переживается нами изнутри ... , наконец, завершающие моменты не объединены, единого лика автора нет, он разбросан или есть условная личина» [104, с.20; выделено нами - О.О.]. Очевидно, что создатель художественного текста, предлагая иной вариант авторства, отчуждаясь в игровом плане от собственного произведения, всегда оказывается носителем маски, которая свидетельствует не о его лицемерии, но о способности добиваться разных видов идентичности, демонстрировать протеичность и непостоянство собственной личности, избирать определенную позицию не только для видения, но и для «опубликования» собственной жизни. Многоуровневый анализ художественной прозы, учитывающий категорию авторской маски, позволяет выявить специфику взаимоотношений между автором и героем, автором и повествователем, автором и образом автора, существенно расширяет представления о семантике и поэтике отдельных авторских текстов, повествовательного пространства в целом, способствует исследованию места маски в структуре авторского сознания.
Исходя из того, что авторская маска является одной из важнейших примет литературного сознания от древности до современности, становится неким синтезом самовыражения автора и его перевоплощения из, условно говоря, «реальной» фигуры в художественный образ, функционирующий в пределах текстового пространства, необходимо исследовать феномен маски как один из способов идентификации авторства, форму авторской репрезентации. Соответственно, под авторской маской мы понимаем форму репрезентации автора «реального» в пределах художественного произведения, воплощенную в образе фиктивного автора-нарратора, который мистифицирует читателя игровым тождеством / несоответствием (биографическом и стилистическим) с ним и выдаёт предлагаемый читателям текст за собственное сочинение.
Конструируя собственную маску с помощью различных средств, интегрируя личностные черты, литературно-эстетический, жизненный опыт, принимая во внимание или опровергая социальные и культурные стереотипы, автор, одновременно и участвует в создании маски как образа «возможного другого», и дистанцируется от нее, создавая качественно новое эстетическое явление. Авторская маска, предстающая одной из ипостасей создателя художественного текста, не просто непосредственно связана с ее носителем, то есть автором, но предстаёт одним из способов самовыражения, сокрытия/проявления автором самого себя в пределах текстового пространства с присущими лишь ему индивидуальными особенностями мироощущения, мировоззрения, стиля. Соответственно изучение явления авторской маски позволяет не только конкретизировать и уточнить соотношение категорий автора и его маски, но и, что значительно существеннее, — достаточно четко обозначить способы позиционирования автора в художественном тексте, отделив «реального автора» от, условно говоря, его воспроизведения. При этом авторская маска представляется нам одной из форм взаимоотношений автора и персонажа или одним из способов перевоплощения автора в героя в пределах художественного текста, являет собой важнейший элемент поэтики.
Таким образом, настоящее исследование позволяет выявить ещё и один из важнейших элементов авторской стратегии и проследить формирование традиции использования авторской маски в общем контексте истории русской литературы.
Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на всю, казалось бы, очевидность и «понятность» явления маски, большинство существующих исследований, где так или иначе оно рассматривается, носят философский, культурологический, психолого-социологический характер [см., например: 71; 72; 73; 215; 240; 247; 248; 249; 261; 262; 266; 272; 281; 282; 283; 383; 402; 487; 489; 495; 549; 562; 569; 572 и др.]. В существующих же литературоведческих работах, за, пожалуй, единственным исключением [355, стлб. 511-512], в силу их прикладного характера, не представлено ни четкого определения данного феномена, ни функций им исполняемых, ни его характерных черт и примет [см., например: 91, с.64-70; 147; 222; 223; 224; 325; 538, с.118-121; 553, с.254-263; 575, с. 201-225.]. Распространённость в конце XX столетия термина «авторская маска» применительно к характеристике тех или иных аспектов отечественного литературного процесса, по нашему мнению, обусловлена двумя причинами.
Первая причина — активное освоение российскими исследователями западных теорий и концептуальных подходов в конце XX в., сменившегося после обусловленного известными политико-идеологическими причинами длительного периода культурной и научной изоляции, обширным потоком европейских и американских исследований. Термин авторская маска получил достаточно широкое распространение именно после введения его в 1985 г. американским критиком К. Малмгреном, предположившим, что смысловым центром «типового» постмодернистского романа, объединяющим внутри него различные содержательные элементы фрагментаризированного повествования, является, как отмечает комментатор, «образ автора в романе, или авторская маска» [218, с. 7]. В последние десятилетия традиционно авторской маской обозначают один из приемов постмодернистской поэтики: «"автор" как действующее лицо постмодернистского романа выступает в специфической роли своеобразного "трикстера", высмеивающего условности классической, а гораздо чаще массовой литературы с ее шаблонами: он прежде всего издевается над ожиданиями читателя, над его "наивностью", над стереотипами его литературного и практически-жизненного мышления ... » [218, с.7], что неизбежно связывает проблему авторской маски «с обострившейся необходимостью наладить коммуникативную связь с читателем» [218, с.8]. Заметим, что К. Малмгрен, выделяя маску автора в качестве «смыслового» центра повествования, ограничил круг внимания модернистской и постмодернистской американской прозой, для которой характерно создание эффекта «преднамеренного повествовательного хаоса, фрагментированного дискурса о восприятии мира как лишенного смысла, закономерности и упорядоченности» [394, с.50]. Американский исследователь полагает, что постмодернистский автор со всей очевидностью, намеренно посягает на право читателя на собственный читательский «метатекст», вводя «метатекстуальныи комментарий» в повествование и навязывая читателю ироническую интерпретацию. При этом он «явно забавляется своей авторской маской и ставит под вопрос самые понятия вымысла, авторства, текстуальности и ответственности читателя» [573, с. 164].
Необходимо подчеркнуть, что появление термина было инспирировано структуралистскими и постструктуралистскими исследованиями (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Женетт, Ж. Деррида) в которых подвергается деконструкции метадискурс классики, авторская роль рассматривается как предрассудок классической эпохи и констатируется «смерть субъекта» (Р. Барт). Соответственно, особое внимание уделяется коммуникации между читателем текста и его создателем. Авторская маска, не являясь эксплицитным «образом автора» в тексте, «симулирует» имплицитного автора, в результате чего авторская маска становится бесконечным стремлением к недостижимому и принципиально невозможному «автору-тексту» как носителю смысла, обладателю подлинных коннотаций. В постмодернистской теоретической традиции, таким образом, рождается качественно иной взгляд на образ автора. Оговоримся также, что в традиции постмодернистской авторская маска отождествляется не с лицом, за ней скрывающимся, а приравнивается в некоей сущности личности / художественного образа, она, по сути, фиксирует момент трансгрессии, скрывая не лицо, но его отсутствие, «мертвую сущность» (Ж. Делез), открывает древние смыслы. Не случайно один из теоретиков западного постмодернизма Ж. Бодрийар, обращаясь к характеристике искусства архаического, отмечает неспособность личности к самовыражению без своеобразного покрова, собственного «овнешнения», в качестве которого и выступает маска, и полагает, что « ... в архаическом обществе маркирование тела и ношение масок служат для непосредственной актуализации символического обмена, обмена / дара с богами или другими членами группы; при таком обмене субъект не торгует своей идентичностью под прикрытием своей маски и манипулирования знаками, а, напротив, уничтожает свою идентичность, вступает в игру как субъект наделённости / отделённости; все его тело становится материалом символического обмена, подобно имуществу и женщинам; одним словом, здесь еще не возникла .. . стандартная схема сигнификации ... » [121, с.47].
Итак, авторская маска становится важнейшей категорией постмодернизма, и вслед за К. Малмгреном внимание ей начинают уделять и отечественные исследователи. При этом содержание термина на «русской» почве принципиально разнится: если у И. Скоропановой «гиперперсонажная маска» предполагает наличие в тексте рассказчика, собранного как коллаж из цитат разных дискурсов, всячески подвергающегося пародированию и не являющегося полнокровным художественным образом [см.: 468], то для И.П. Ильина, впервые прокомментировавшего понятие К. Малмгрена, авторская маска, напротив, является связующим центром, уберегающим произведение от коммуникативного провала. Однако, на наш взгляд, введенная постмодернистской теорией дефиниция «авторской маски», обозначающая, по сути, авторскую объективированную волю, оказывающуюся неким «посредником» текста и автора, обозначает в принципе ту же самую инстанцию, которая в нарратологии именуется «фиктивным автором» [546]. И здесь, разумеется, вполне очевидна терминологическая двойственность при обозначении одного и того же явления, а также малоубедительность объяснения внутритекстового авторского комментария специфической «коммуникативной стратегией».
Кроме того, проецирование понятия, применяемого для характеристики сугубо американского постмодернизма, на контекст российский, как это делают И. Скоропанова, М. Липовецкий (заметим, что специальных рассуждений по поводу специфики данной дефиниции у Липовецкого нет, он отождествляет маску автора с авторами-повествователями [287, с.309]), В. Карпова, Н. Тюленева и др. [238; 287; 468; 507], отнюдь не свидетельствуют о специфичности и беспрецедентности авторской маски как явления поэтики лишь западной литературы. Мало того, взаимоотношения между автором и героем, а соответственно - и читателем, весьма прихотливо складывались и в русской классической литературе, развиваясь в направлении обнажения игровой природы соотношения «автор - персонаж»: приём маскирования автора под «издателя» чужих записок, повествователя и др., демонстрирующий разные степени «остраненности» автора от сотворенной им реальности, активно использовался ещё в отечественной литературе конца XVIII-XIX вв., в связи с чем можно утверждать, что приоритет в эксплуатировании авторской маски принадлежит отнюдь не постмодернистам.
В современном отечественном литературоведении термин «авторская маска» активно используется не только при исследовании повествовательной или образной структуры постмодернистских произведений [см.: 114, с.292-298; 176, с. 185-187; 238; 276; 287; 376; 389; 468; 507], но чаще - для обозначения интенционального стилистического приема, средства языковой характеристики того или иного образа [151, с.46-54; 526, с. 62-66; 544, с. 133-145; 545] или же установки отдельного художника или теоретика [см, например: 93; 124; 161; 201; 207; 222; 224; 300; 342, с. 93-103; 345; 359, с.ЮЗ-113; 455, с.182-189; 531, с.125-131; 551, с. 255-260; 538], когда маска превращается в необходимое выразительное средство, подчас раскрывающее «болезненное противоречие между ... доподлинной природой человека и его вынужденной социальной ролью» [203, с.248].
И здесь необходимо выделить вторую, на наш взгляд, причину, инспирирующую появление и распространение понятия «авторская маска» с конца 1980-х гг. в литературоведческой науке. Это обострённый интерес в последние десятилетия XX столетия к эпохе Серебряного века, открытой вновь после многолетней политики отторжения и «снятия» разного рода табу на имена многих её творцов. Именно идея маски-личины, как известно, являлась доминирующей на рубеже XIX-XX вв., игровое соотношение лица и маски становится определяющим для символистского мироощущения и мировосприятия. Соответственно, проблема маски (в самом широком ее понимании - от маски авторской до масок героев)/ специфика её литературно-художественного воплощения зачастую затрагивается в работах современных литературоведов, посвященных, в первую очередь, тем или иным аспектам литературной и культурной практики Серебряного века.
Так, «герой-маска», «герой-личина» в произведениях А. Ремизова являются объектом рассмотрения Н.Ю. Грякаловой, Е.Р. Обатниной, Ю.В. Розанова, О.А. Чуйковой [163; 362; 363; 364; 445; 538], специфика феномена маски в творчестве А. Блока - А. Крыщука, Т. Родиной [271; 441], А. Ахматовой - Т. Самсоновой [455], А. Белого - В.М. Паперного [400; 401], на важность концепта маски для мировоззрения и творческой стратегии В. Брюсова указывает К. Исупов [226], смена масок в литературе символизма рассматривается В. Паперным [401, с. 152-168], некоторые аспекты генезиса и функционирования маски предлагаются Н.В. Мокиной, СЮ. Павловой [350, с.13-19; 393, с.138-141], рецепция образа маски в поэзии XIX столетия Серебряным веком исследуется В.Г. Долгушевым, В. Рабинович, Л.А. Софроновой [185; 433; 478], И.В. Мотеюнайте связывает маску с феноменом юродства, предлагая вполне конкретное описание масок юродов в русской литературе XIX-XX вв. [353], Борисова Л.М. рассматривает особенности маски у Вяч. Иванова, А. Белого, М. Волошина, Н. Евреинова, театральной критике 1910-х гг. [124]. М.А. Хатямова, осмысливая формы литературной саморефлексии при изучении литературоцентричной поэтики прозы русских писателей первой трети XX вв., прежде всего орнаментального сказа Евг. Замятина, справедливо указывает, в связи с «осознанием диалогической природы творчества, установкой на воспринимающее сознание», на актуализацию «проблемы маски: автор -актёр, надевающий маску» [528, с.82].
Помимо ряда статей и монографий, посвященных вполне конкретным проблемам соотношения маски и лица автора, ее происхождения, значения для различных культурных парадигм, символике, специфике функционирования в творчестве того или иного прозаика или поэта и т.д., некоторые работы рассматривают общие закономерности, связанные с бытованием маски в различных культурных традициях, и вновь в первую очередь, это касается исследований культуры и литературы начала XX в. (как отечественной, так и европейской), в которой игровой, мифологический и эстетический аспекты маски нашли наиболее полное выражение. Так, Л.В. Левицкая выявляет смысл и место понятий маска, маскарад, лицо-маска в художественной культуре XIX-XX столетий, причем маска рассматривается как феномен социальный и эстетический — маска как образ и как приём в художественном произведении, само произведение как маска автора. Сосредотачивая внимание на символистском искусстве и миропонимании, исследовательница указывает, что в символизме маска не всегда связана с человеком, она воспринимается как часть мироздания, «предохраняющая от вторжения хаоса в мир» [283, с.4]. Лицо теряется в ряде масок-личин, становится одной из них; маска перестает быть антитезой лица: «Преображение лица и создание маски (превращение лица в маску) воспринимается теперь как акт творчества, а сама маска (или лицо-маска) как произведение искусства» [283, с.5] А.Л. Гринштейн определяет топос маски неким «маркером», индикатором культурной парадигмы, «предметом рефлексии, направленной на осмысление этой парадигмы» [161, с. 4]. Учёный полагает, что для творцов «потока сознания» - Пруста, Вулф, Сартра, Фолкнера - характерна трансформация «образов людей» в «подвижные, неуловимые маски», причем подобный механизм «трансформации образа в маску» осуществляется через «призму воспоминания» [161, с.7]. Посредством маски реализуется мотив отчуждения, занимающий центральное место в литературе XX в., именно поэтому, полагает А.Л. Гринштейн, «обращение дискурса литературы к маске стало формой выявления собственного - истинного — лица, необходимого для определения своего истинного места в (социокультурном) пространстве и (историческом) времени» [161, с. 13]. Показательно, что А.Л. Гринштейн, противопоставляя образ и маску, видимо, не считает маску художественным образом, что, по нашему мнению, не вполне справедливо: «На протяжении всего столетия топос маски постоянно и очень активно присутствует в дискурсе художественной литературы, актуализируясь в самых разнообразных проявлениях ... . Речь идет не только о теме маски, маскарада .. . , но и о принципиально важных для литературы нашего века темах и проблемах (не-)тождественности человека самому себе, поисков своего истинного «я», аутентичности, и о мистификации как форме и способе организации произведения, и о теме и мотиве двойничества ... » [161, с.8]. Но в этом случае проблема маски, на наш взгляд, соотносится лишь с ее игровым и психологическим аспектами (сводится непосредственно к осмыслению личности самое себя, своей внутренней сущности), тогда как ключевой аспект для литературоведческого понимания данного феномена — смысл соотношения составляющих триады «маска — автор - повествователь» остаётся незатронутым. Заметим, что А.Л. Гринштейн, посвящая фактически целую главу «актуализации топоса маски» в культуре карнавальной и маскарадной, не дает более-менее чёткого понимания данного феномена, отмечая лишь его «двойственный характер» и вновь связывая маску лишь с карнавальной культурой и концептом игры.
В ряде статей последнего десятилетия, посвященных маске литературной, предпринимается попытка теоретических построений на уровне выявления её типологических черт, определяющих свойств. Так, Н.В. Беляева выделяет дифференциальные признаки маски: «1) её диалогическую природу - маска отделяет «лицо» автора в произведении и вне его; 2) «диалог» маски ориентирован прежде всего на читателя; 3) при этом читатель вовлекается в рамки текста как участник диалога; 4) маска является сознательным конструктом своего субъекта; 5) в «программу» конструирования иронический / остраняющий / игровой модус» [108, с.38]. И.Н. Балабанова, обращаясь к проблеме автора, под маской в широком смысле понимает «символ принципиально невозможной смысловой самоидентификации» [91, с.69], полагая, что маска способна появляться тогда, когда автор «переживает» бытие своего произведения; в узком смысле Балабанова считает маску «возможностью моделирования "провокативных" ситуаций, в которых раскрываются, выговариваются герои» [91, с.69], - и с этой точки зрения, полагает она, вызывает интерес и подлежит рассмотрению использование М.М. Бахтиным «масок» Медведева и Волошинова.
Е.В. Лютикова, рассматривающая маску как одно из проявлений литературного сознания, полагает, что зафиксировать её можно в многоголосном романе. «Явление маски», по её мнению, заключается в следующем: в полифоническом романе один из героев, "пользуясь отсутствием всезнающего автора-повествователя, вводит в заблуждение других персонажей и самого читателя, играя некую роль и скрывая свои подлинные намерения" [325, с. 170]. И поскольку "всезнающий" повествователь отсутствует, разоблачение "актера" происходит лишь в конце произведения. Маска есть «система поведения, а не единичный обман». Мало того, отмечает Е. Лютикова, оказывается, что маска театральная, социальная роль, "имидж", маска литературная при более детальном рассмотрении оказываются "разнообразными способами существования одного и того же функционального эквивалента на различных уровнях ... культурного-сознания" [325, с. 170]. Затрагивая не только проблему литературной маски, но и исследуя феномен маски вообще, Е.В. Лютикова отождествляет маску с лицедейством и считает данное понятие как минимум трёхаспектным: маска - неотъемлемая составляющая «сюжетного» и «структурного» текстовых уровней; комплекс «апорий», «заполнение которых становится герменевтической задачей читательского сознания» [325, с.2]; специфическая определяющая «спада» и «подъема» внутритекстового психологического напряжения. Литературовед считает возможным рассмотрение маски не только в качестве функции текста на макро- и микротекстовом уровне (маска как «механизм лицедейства»), но и видеть в ней этический, семиотический коды и герменевтический ключ. Показательно, что Е.В. Лютикова выделяет типы масок: маска «аполлоническая» (легко меняющая «личины») и «дионисийская» («статическая», придерживающаяся одной поведенческой модели). Обращает на себя внимание культурологическая «основа» трактовок по аналогии с «аполлоническим» и «дионисииским» типами культуры. Кроме того, по мнению исследовательницы, существует смешанный тип масок, сочетающий в себе и «отстраненное», и «динамическое» начала. Специфику этого типа отражает применяемый исследовательницей карточный термин «джокер»: на литературном, текстовом уровне «джокер» свободно «примеряет» различные роли, чувствуя «аудиторию» и «ситуацию», в любом месте считается «своим» [325, с. 153].
Первой отечественной монографией по проблеме маски литературной явилась работа С.Г. Исаева, в которой ученый, равно как и в ряде исследований предшествующих лет [222; 223; 224], включает литературную маску в один семантический ряд с метафорой и метаморфозой, являющимися «первоэлементами» художественной образности [224, с.79], специфичность которых определяется принципом «двойного удвоения» [224, с. 13]. Учёный предлагает весьма своеобразную типологию литературных масок, в которой «сосуществуют» маски словесные, телесные, личины, «кажимость и иллюзорность» как «проявления специфической маски» [224, с.201] и др. Так, «маской в прямом смысле» исследователь считает личину, «оболочку» с «определившейся (по лицу) конфигурацией и пластикой» [224, с.200]. Особое внимание уделяется материальной природе масок, среди которых оказываются «железные маски» героев Дюма и Бальзака, «рвущиеся» в блоковском «Балаганчике», а также «маске авантюрного типа», где авантюрность «выявляется как особая поведенческая психология» [224, с.201]. В группе словесных масок С.Г. Исаев выделяет «речевые» и «стилизованные» [224, с.80], в основе которых лежит «чужое слово», однако при этом ученый не поясняет условий «сознательного творения» стилизации как маски, сводя причины появления масок лишь к атмосфере литературного маскарада. К «прозрачным телесным» литературным маскам исследователь относит гротескных героев и героев с «печатью идеализации» [224, с.80]. Очевидно, что С.Г. Исаев не описывает теоретические основания подобной типологии, чрезмерно обобщая и смешивая все явления, с маской сопрягаемые, в рамках феномена маски литературной — от стилизации и масок героев до гротеска и «чужого слова». Кроме того, С.Г. Исаев называет также литературную маску «средством для выражения в художественной литературе идей» [224, с.84], и как одну из особых форм, существующих в литературе, - «идеи в масках» [224, с. 84], безосновательно, на наш взгляд, отождествляя их с притчевостью, очевидно смешивая понятия маски литературной и «маскировки идей» посредством формальных повествовательных приемов. Ученый называет «идеи в масках» формой «условной словесной маски», равно как и стилизацию, полагая, что в ней, также как и в маске, «активизируется игровая ситуация, провоцируя театральность или карнавализацию всей выразительной системы произведения» [224, с.97]. Отметим, что С.Г. Исаев, пытаясь продемонстрировать вполне осязаемую генетическую взаимосвязь художественной литературы с ритуально-обрядовой культурой, карнавалом и театральной образностью, при этом не вполне правомерно делает вывод о «материализации» маски в её древнейшей форме в «формах стиля, жанра, «узнаваемых» персонажах» [224, с.201], безосновательно проецируя все функции и свойства маски как предмета материально-обрядовой практики на контекст сугубо литературный.
Определенный вклад в изучение феномена авторской маски внесён автором настоящего исследования: в частности, осмыслена специфика функционирования маски в культурном сознании Русского Зарубежья «первой волны», в целом и в творчестве В.В. Набокова, включая англоязычную прозу писателя, в частности [385; 377], выявлен генезис феномена авторской маски как одной из форм проявления авторского сознания, прослежены этапы становления масочной традиции в отечественной литературе [373; 374; 384; 387; 388], проанализировано творчество современных прозаиков в контексте указанной проблемы [376; 375; 385], изучены концептуальные подходы к проблеме маски М.М. Бахтина, О.М. Фрейденберг, Ю.М. Лотмана [375; 378; 381; 392].
Нельзя, на наш взгляд, не упомянуть имплицитного осмысления категории авторской маски современной нарратологией, западной прежде всего, которая в целом подменяет, как мы указали выше, понятие маски дефиницией «фиктивный нарратор» [546; 379]. Однако «пионерской» по своему значению для дальнейшего изучения явления маски (нарративной прежде всего) и сказа явилась монография чешского слависта, нарратолога М. Дрозды «Нарративные маски русской художественной прозы (от Пушкина до Белого)» [187], высоко оцененная Ю.М. Лотманом, справедливо подчеркнувшим, что «идея» нарративной маски М. Дрозды «возникает на пересечении действительности как объекта изображения и воспроизведения коммуникативной ситуации, прагматической структуры, внутри которой происходит само рассказывание, изображение самого процесса изображения жизни в слове как части самой этой жизни» [304, с.279]. Точнее, частью и предметом изображения художественного текста становится семантико-прагматическая ситуация, которая подчиняется законам художественной игры и сама же является аспектом художественного произведения. Именно осмыслению разных форм и уровней прагматико-коммуникативной игры, изучению формирования связанных с этим художественных структур чешский нарратолог посвящает свое исследование, осуществленное на материале русской литературы, что вновь подчеркивает не просто возможность «перенесения» западной терминологии на контекст отечественный, но, напротив, указывает на существование устойчивых отечественных традиций. М. Дрозда понимает под нарративной маской «не всестороннее воспроизведение сигнализируемого ею коммуниката, а только набор определенных сигналов, служащих созданию требуемой семантической атмосферы» [187, с.308], строится она «на противопоставлении фиктивного жанра и настоящей жанровой сущности произведения» [187, с.298]. Ключевым моментом для понимания маски как повествовательного приема, впервые выделенным М.Дроздой, является различие компетенции между рассказчиком и автором, формирующееся в русской прозе XIX в. и превращающееся в литературе начала XX столетия (у Чехова, Бунина или Белого) в форму предельного устранения авторского голоса, имитирующей «слияние внетекстовой действительности с актом рассказывания» [304, с.281].
Вопрос о маске, формах ее художественного воплощения затрагивается и в диссертационных исследованиях последних лет, причем в целом ученые либо затрагивают вопрос о маске попутно и ровно настолько, насколько масочная тематика коррелирует с интересующей их проблематикой [201; 278; 527], либо сосредоточены на осмыслении функционирования маски или ее инвариантов исключительно в творчестве того или иного писателя, поэта, философа, чем и объясняется сугубо прикладной характер подобных работ практически с полным отсутствием попыток теоретических построений [см., например: 147; 238; 168; 477; 262; 283; 345; 489; 498]. Так, Е.В. Сомова выделяет главные формы маски - обман и притворство, каждой из которых соответствуют определенные типы персонажей с обманчивой видимостью, как правило, - «образами лицемеров и злодеев, за внешним смирением, благочестием скрывающих духовную неприглядность. Маска, защищающая внутренний мир человека от враждебности внешнего мира изображена как сдержанность, скрытность и свойственна персонажам, таящим за притворным равнодушием сильные чувства. К этому же типу относится маска чудака, построенная на противопоставлении нелепой, гротескной внешности и сердечной доброты» [477, с.8]. На материале романного творчества Ч. Диккенса исследовательница выделяет средства образования маски - аллюзии, ассоциации, манера поведения, внешние выразительные средства, анаморфоза, сюжетные приемы, лингвопоэтические средства, однако в целом осмысление маски замыкается исключительно персонажным уровнем, авторские маски не рассматриваются вовсе. Это же касается исследования Н.В. Волковой, в котором, анализируя лирику В. Высоцкого, автор выстраивает собственную концепцию, привлекая категории «соборности» и «отчуждения» и анализируя оппозицию лирического («исповедального») героя и лирического персонажа («поэтической маски»/ «ролевого героя»). При этом литературовед отмечает идейно-тематическое различие между «я» автора и «я» ролевых персонажей: «Маски Высоцкого - не марионетки в театре кукол, они лишены односторонности, микрокосм их личности соотносится с многогранностью социального макрокосма. Маски Высоцкого — это персонажи его поэтического театра» [147, с. 8]. Очевидно, что исследовательница сосредотачивает собственное внимание исключительно на масках героев лирики Высоцкого, оставляя за рамками исследования маски авторские.
Так, у Ю.Н. Тынянова обнаруживается определение образа автора как маски: в статье «Достоевский и Гоголь» (1921), рассуждая о масках у Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, учёный отмечает, что основной приём Гоголя в живописании людей - приём маски, Достоевский, равно как и Гоголь, отказываясь от изображения типов, пользуется «вещными» и «словесными» масками, создавая определенные характеры. Создается впечатление, что творчество Достоевского Тынянов изучает как творчество «тонкого мастера индивидуальных масок», по меткому определению Б.М. Эйхенбаума, как наследие «художественного стилизатора и пародиста». Определяющей характеристикой авторской маски становится её пародическая основа, понятия же маски автора и образа автора отождествляются [505; 506]. В исследованиях В.В. Виноградова были ранее всего и наиболее полно представлены попытки разрешения проблемы автора и методологическое построение «определения» образа автора (отождествляемого с авторской самомаскировкой, «актерством»), причем ученый связывал эту категорию исключительно с индивидуальным авторским стилем как категорией речевой структуры литературного текста, акцентируя внимание лишь на языковых и стилистических маркерах авторского образа, в связи с чем, заметим, позиция Виноградова была подвергнута критике со стороны ряда исследователей, указывающих на «замкнутость» его концепции в кругу языковых приемов [см.: 118, с.54-55]. Очевидно, что проблема соотношения маски автора / образа автора (равно, кстати, как и теоретическое обоснование этих категорий) представлялась изначально дискуссионной и многоаспектной, сложность разрешения которой состояла в рассмотрении целого комплекса явлений, так или иначе взаимосвязанных с образом автора - его социальным статусом и менталитетом, личностным опытом, ценностными установками, и что наиболее значимо, - тем, как автор пытается представить себя в пределах текста, что инспирировало практически полувековую полемику между В.В. Виноградовым и М.М. Бахтиным, приведшую к существованию в настоящее время «виноградовского» и «бахтинского» подходов по проблеме автора. Хорошо известны концептуальные положения того или иного подхода относительно проблемы автора, описанные в работах А.Ю. Большаковой, Н.К. Бонецкой, Л.Я. Гинзбург, Б.О. Кормана, Н.Д. Тамарченко и др. [см., например: 122, с. 15-24; 123; 154; 239; 254; 255; 256; 257; 258; 326; 340, 7-41; 358; 426; 427; 490; 491; 492; 493; 531 и др.].
В целом, круг работ, посвященных изучению проблемы маски, автора, образа автора, широк и разнообразен, что можно по праву считать серьезным научным достижением современной филологической и шире - гуманитарной мысли. Однако, по сути, авторская маска не являлась объектом специальных научных исследований: чаще всего, литературоведы весьма опосредованно анализируют развитие «масочной» темы в творчестве конкретного автора, вне связи с большим временем» (М.М. Бахтин) русской литературы. Это положение непосредственно касается и историко-литературной эпохи середины XVIII-первой трети XIX в. - важнейшей и основополагающей для становления русской литературы в целом, регулирующей ее развитие и определяющей ее будущее.
Необходимым представляется пояснение используемого нами терминологического аппарата, основными категориями которого становятся авторская маска, фиктивный автор-нарратор, автор, псевдоним, мистификация. Особенно, учитывая резко критические, но в целом справедливые замечания СИ. Кормилова не только о необходимости обновления и дополнения литературоведческого инструментария [259, с.3-8; 260, с.3-8], но и о путанице терминологических определений и размытости некоторых понятий5.
Сразу оговоримся, что, используя в качестве терминологического адеквата к авторской маске понятие фиктивный автор-нарратор, мы, опираясь на в общем-то традиционный понятийный аппарат нарратологии [см.: 546], имеем в виду, что речь идет не только об изображаемой инстанции - фиктивный автор-нарратор, с одной стороны, изображает вымышленный, возможный мир, «внутрилитературную» реальность (соответственно,
относится к области художественного вымысла), но с другой стороны, выдавая себя за «реального» автора текста, который он себе приписывает, фиктивный нарратор претендует на «объективное» существование «вне» изображаемой действительности. Понятия нарратор и повествователь мы отождествляем, используя дефиницию «нарратор», вслед за В. Шмидом [546, с. 13], как термин чисто технический, обозначающий, равно как и «повествователь», посредника между авторским миром и миром повествуемым, некую «говорящую» и «изображающую» инстанцию.
Пояснения требует и использование нами терминов автор, образ автора, «автор реальный». Подчеркнем, что мы опираемся на точку зрения М.М. Бахтина, не разделявшего позицию В.В. Виноградова и его последователей о наличии в каждом тексте вполне конкретного, персонифицированного образа автора (если только речь не идет о рассказчике) как отображения писателя в произведении, являющемся элементом его «художественно преобразованной» биографии и возможности «реконструкции» образа автора на основе его произведений, и, соответственно, различавшего «автора первичного» как создателя художественного произведения и «автора вторичного» как образ, реконструируемый на основе текста: «Создающий образ (то есть первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ» [104, с.353]. Соответственно, разделяя понятия «автор» и «образ автора», мы полагаем, что автор в рамках художественного текста «овнешняет» себя, и в попытке обнаружения иной идентичности, выхода за границы «реального» бытия, объективируется в образе «возможного другого» (героя-повествователя, биографического, автопародийного «двойника»), не тождественного ему, то есть собственной маске. При этом автора «первичного» мы обозначаем как «автора реального» в противовес повествователю, себя за автора выдающему (авторской маске), то есть «автора фиктивного» (предстающего в качестве фикции, изначально обманывающего читателя своим обликом, автора иллюзорного, «подставного»). Объектом диссертационного исследования является процесс становления и развития феномена авторской маски в русском литературном сознании XVIII — XIX вв.
Предмет исследования - явление авторской маски в русской прозе 1760 -1830-х гг.
Материалом диссертации явились наиболее репрезентативные с точки зрения заявленной темы прозаические художественные тексты Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, М.Д. Чулкова, А.С. Пушкина, " Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского, О.И. Сенковского, А.Ф. Вельтмана, В.И. Даля, вписывающиеся в масочную традицию. Поскольку в настоящей работе речь идёт об изучении традиции функционирования авторской маски в художественных произведениях русской литературы середины XVIII-первой трети XIX вв., мы обратились к осмыслению генезиса, истоков зарождения авторской маски в литературе более раннего этапа, в связи с чем привлекались древнерусские тексты и произведения XVII столетия.
И здесь необходимым представляется внести определенные уточнения относительно не только корпуса текстов, избранных для анализа, но и хронологических параметров исследования.
Естественно, что ментальность древнерусского книжника была сформирована в рамках традиционалистского типа художественного сознания, ориентированного не на создание принципиально нового текста, но на канонический образец, поскольку средневековое искусство стремилось «выразить коллективное чувство, коллективное отношение к изображаемому. Отсюда многое зависит не от творца произведения, а от жанра. ... Искусство Средневековья ориентировалось на «знакомое», а не на незнакомое и «странное». Стереотип помогал читателю «узнавать» в произведении необходимое настроение, привычные мотивы, темы» [295, с.60-61]. В связи с этим, при отборе древнерусских текстов для анализа, мы, во-первых, рассматривали лишь те из них, авторы которых не просто известны точно или, по крайне мере, предполагаемы, но и предпринимают попытку самовыражения как создателя текста о самом себе, собственной жизни и своем творчестве, где в равной степени присутствуют авторская рефлексия и игровой элемент. Также мы руководствовались жанровой принадлежностью: не представляли исследовательского интереса произведения ораторской прозы, преследующие сугубо дидактические цели и рассчитанные на устное произнесение, летописи в силу их заведомо коллективного авторства и историко-документальной функции. Жанрами, в которых авторская маска функционирует уже на начальном этапе развития русского профессионального словесного творчества, оказываются жанры подвижные, не вписывающиеся в чёткий канон и не подчиняющиеся эталонным требованиям — эпистолография, травелог и моление, в которых наиболее явственно проступает автобиографической начало, авторская рефлексия, наблюдается смена повествовательных, стилистических регистров, оказываются задействованными практически все лексические пласты языка, позволяющие автору быть свободным в плане самоопределения - стилистического, жанрового, традиционалистского, а также, ориентированные так или иначе на адресата (собеседника), то есть изначально подразумевающие «возможного другого». Кроме того, существенным являлось изучение характера развития и преломления традиции авторской маски первой трети XIX в., в эпоху «неклассическую», связанную с модернистскими и постмодернистскими экспериментами, что привело к закономерному обращению к художественным прозаическим произведениям XX столетия.
Цель работы заключается в изучении процесса генезиса и развития авторской маски в литературно-художественном сознании России на материале отечественной прозы 1760 — 1830-х гг. В соответствии с этим в процессе исследования нами решались следующие задачи:
• разработать концепцию авторской маски как особого типа литературно-художественного дискурса в русской литературе; • рассмотреть основные пути исследования феномена маски и авторской маски в отечественном и зарубежном литературоведении, в практике гуманитарных наук;
• проанализировать соотношение явлений авторской маски и авторства в общей системе авторского сознания;
• определить историко-литературные параметры явления авторской маски;
• проследить процесс зарождения явления авторской маски в древнерусской словесности;
• проанализировать традицию становления и развития авторской маски в русской литературе 1760 - 1790-х гг., в прозе М.Д. Чулкова, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина;
• исследовать специфику функционирования авторской маски в отечественной словесности первой трети XIX в., прозе А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского, А.Ф. Вельтмана, О.И. Сенковского, В.И Даля;
• определить характер дальнейшего развития феномена авторской маски в русской литературе последующих этапов и проанализировать традиции авторской маски в отечественной прозе XX столетия.
Общей методологической основой исследования является системное единство выработанных литературоведением подходов к рассмотрению и анализу как историко-литературного процесса в целом, так и отдельных явлений художественной литературы. Соответственно, методологической основой работы явились принципы сравнительно-исторического, сравнительно-типологического, культурно-исторического, биографического, психологического, социокультурного методов, метод целостного анализа художественного произведения. Автором были использованы данные смежных гуманитарных дисциплин (философии и истории культуры, психологии, истории и др.). Методологически значимыми для нас являлись работы классиков отечественного литературоведения — М.М. Бахтина, А.Н. Веселовского, В.В. Виноградова, A.M. Жирмунского, Д.С. Лихачёва, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Ю.Н. Тынянова, Б.А. Успенского, О.М. Фрейденберг. Важнейшую роль в формировании общей концепции исследования сыграли теоретико-литературные исследования С.Н. Бройтмана, Б.О. Кормана, Н.Т. Рымаря, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы, В.Е. Хализева, работы по истории русской литературы В.П. Адриановой-Перетц, Н.Я. Берковского, Н.А. Богомолова, В.Э. Вацуро, Г.А. Гуковского, Б.Ф. Егорова, И.П. Ерёмина, А.К. Жолковского, В.М. Живова, СИ. Кормилова, Я.С. Лурье, Г.П. Макогоненко, Ю.В. Манна, В.М. Марковича, З.Г. Минц, А.В. Михайлова, Е.К. Ромодановской, М.А. Турьян, И.О. Шайтанова и др. Особую значимость в решении стоящих перед нами задач имели монографии и статьи С.А. Голубкова, Н.Ю. Грякаловой, А.С. Дёмина, Н.С. Демковой, Е.М. Дзюбы, А.И. Иваницкого, Г.Ю. Карпенко, В.Ш. Кривоноса, М.Н. Липовецкого, О.Е. Осовского, И.С. Скоропановой, Л.А. Смирновой, Л.А. Софроновой, Р.Д. Тименчика, М.Г. Уртминцевой, М.А. Черняк, М. Дрозды, Дж. Мальмстада, Ж. Нивы, Ц. Тодорова, В. Шмида. Специфика исследования потребовала обращения к работам философов и культурологов - отечественных (Вяч.Вс. Иванов, К.Г. Исупов, В. Л. Махлин, A.M. Панченко, В.А. Подорога, М.Н. Эпштейн, М.В. Ямпольский) и западных (Р. Барт, Ж. Батай, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ф. Ницше, М. Фуко, Й. Хейзинга, О. Шпенглер, У. Эко).
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в отечественном литературоведении сформулирована концепция авторской маски; определены сущностные характеристики данного явления, уровни его функционирования; авторская маска определяется как специфическое явление авторского сознания. Осуществлён системный подход к феномену авторской маски, который представлен как элемент структуры авторского сознания (теоретико-литературный аспект), и в динамике его исторических изменений, определяемых конвенциальными установками конкретной литературной эпохи и индивидуально-творческим решением писателей, использовавших в своей художественной практике авторскую маску (историко-литературный аспект). Авторская маска рассматривается как форма авторского сознания на материале русской прозы, что позволяет выявить внутренние потенции, возможности данного феномена; изучается роль и значение авторской маски в истории и эволюции русской прозы. Представлена модель функционирования авторской маски на различных этапах развития русской прозы; прослежен начальный этап становления авторской маски в древнерусском литературном сознании («Моление» Даниила Заточника, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, эпистолография Ивана Грозного и Андрея Курбского); определён качественно новый характер авторской рефлексии в творчестве протопопа Аввакума; изучен процесс развития авторской маски в русской литературе второй половины XVIII - первой трети XIX вв. (проза Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, М.Д. Чулкова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского, О.И. Сенковского, А.Ф. Вельтмана, В.И. Даля); определены тенденции развития авторской маски в русской прозе последующих периодов.
Достоверность исследования обеспечивается использованием традиционных методов академического литературоведения и современных исследовательских технологий, выбором авторов и наиболее репрезентативных произведений отечественной литературы 60-х гг. XVIII -30-х гг. XIX вв., введенных в широкий историко-литературный контекст от начала становления русской литературы до её современного состояния.
Хронологические параметры исследования объясняются тем, что именно 1760-е гг. оказываются временем выделения и формирования авторского сознания и самосознания в отечественной литературе, а также периодом интенсивного сложения прозы; 1830-е гг. становятся, в свою очередь, этапом усложнения нарративной техники, когда внутритекстовое соотношение «автор - герой» расширяется до триады «автор -повествователь — герой», благодаря использованию авторской маски, которая становится одним из факторов и индикаторов развития авторского начала и авторского самосознания в русской литературе и в XIX в., и в последующие периоды.
Теоретическая значимость. Предложенная в диссертации концепция авторской маски расширяет современную теорию автора, позволяет проецировать выявленные особенности авторского сознания на отдельные стороны творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, соотнести их с особенностями литературной практики рубежа XIX-XX вв., в частности, Серебряного века, вписать авторскую маску в контекст художественных открытий и экспериментов русского модернизма.
Особое значение предложенная в диссертации концепция имеет для понимания процесса функционирования авторского сознания в литературе русского постмодернизма. Концепция авторской маски принципиально важна для процессов, протекающих не только в русской литературе, но и в западной словесности XIX-XX вв.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты, материалы, анализ конкретных художественных произведений и общие выводы могут быть использованы в вузовских курсах истории и теории отечественной литературы, истории культуры, курсах по выбору и факультативных курсах, посвященных углубленному изучению литературы и культуры России XVIII-XIX вв.; при написании соответствующих учебников и учебных пособий. Разработанная концепция авторской маски может стать основой для анализа отдельных произведений и изучения более крупных литературных и историко-культурных пластов.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Авторская маска представляет собой специфическое художественное явление, активно проявляющее себя в русской литературе со второй половины XVIII в., генезис которого и ранние формы обнаруживаются ещё в русской средневековой литературе.
2. С теоретико-литературной точки зрения авторская маска является одной из форм репрезентации автора «реального» в пределах художественного произведения, воплощенной в образе фиктивного автора-нарратора, который мистифицирует читателя игровым тождеством / несоответствием (биографическим, стилистическим) с ним и выдаёт предлагаемый читателям текст за собственное сочинение.
3. Авторская маска является важнейшим элементом в структуре авторского сознания, вступающим во взаимодействие с феноменами авторского «я», «другого»; в системе взаимоотношений автора и читателя; в процессе авторской идентификации/самоидентификации. Авторская маска проявляется на трёх основных уровнях: как стилистический приём (слияние изображающей речи с изображаемой, стилизация сугубо авторской речи под манеру изображаемого персонажа); как художественный образ фиктивного автора (эстетически преднамеренная рефлективно-игровая проекция личности художника в текст, одна из форм взаимоотношений автора и персонажа, образ фиктивного автора-нарратора, берущего на себя функции создателя предлагаемого текста); как появление реального или якобы реального автора среди персонажей.
4. Изначально заложенные в авторской маске потенции позволяют рассматривать её как средство реализации не только эстетической, но и коммуникативной задачи автора в пределах художественного текста (создать комический и игровой эффект, иллюзию достоверности, неофициальности, приблизить читателя к тексту или дистанцировать от него, отразить и проследить собственную рефлексию, и т.д.). Авторскую маску маркируют определенные признаки: автобиографические параллели и соответствия; мотивы двойничества и зеркальности; мистифицирующие читателя предисловия, в которых автор выдает собственный текст за чужое сочинение, выступая в роли издателя, публикатора и т.д.; переход повествователя от первого лица к третьему и наоборот, а также изменение тона повествователя (семантическое отождествление грамматического лица, взаимозаменяемость местоимений «я»/«он»» в автореференциальном значении); игровые контаминации с «чужим словом», включенным в рамки собственно-авторского повествования, ведущие к сосуществованию нескольких точек зрения на событие или героя, что придает повествованию стереоскопичность и порождает игровую двусмысленность авторской позиции; автопародирование на уровне интонации, «выворачивания» собственных сюжетов, комического искажения «своего» языка при несоответствии средств описания предмету описания; скрытые автоаллюзии, функциональные автореминисценции.
6. Складывающаяся традиция использования авторской маски находит свое продолжение в XVII в. в творчестве протопопа Аввакума, авторскую позицию которого отличает синтез игрового и рефлективного начала. «Житие» Аввакума отмечено присутствием новых средств, при помощи которых создается качественно иной, эстетически оформленный тип авторской маски.
7. В условиях развития русской прозы Нового времени, изменений, наступивших в результате Петровских реформ в сфере литературы, культуры и искусства, происходит радикальное обновление литературно-художественного сознания, в процессе которого авторская маска обретает качественно новые черты: образ фиктивного автора становится одним из важнейших открытий русской литературы второй половины XVIII в. Наиболее отчетливо это явление представлено в творчестве М.Д. Чулкова, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова.
8. В первой трети XIX в. под влиянием собственной традиции XVIII столетия и европейского романтизма приём авторской маски начинает эксплуатироваться русскими писателями и как универсальное средство сокрытия собственного лица, и как способ литературных мистификаций. Автор как творец художественной реальности получает возможность управлять взаимоотношениями с читателем," поскольку собственная идентификация, авторское «я» оказывается еще одним текстовым уровнем -маска становится своего рода эквивалентом подлинной личности её носителя. В условиях отождествления маски и лица автора, порождающего игровой момент с читателем-реципиентом, доминирующей функцией авторской маски становится сокрытие подлинного облика, имени, реализующееся не только в использовании псевдонимов и мистификаций, но и в репрезентации писателем себя в роли фиктивного автора в пределах художественного текста. В прозе А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского, А.Ф. Вельтмана, О.И. Сенковского, В.И. Даля авторская маска тематизируется и самоидентификация писателя получает самое непосредственное выражение.
9. Традиция авторской маски, сложившаяся к 40-м гг. XIX в., получает своё продолжение в прозе Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, в литературной практике Серебряного века, в творчестве русских писателей 1920-1990-х гг., осознанно ориентирующихся на литературный опыт А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Апробация результатов исследования. Диссертация проходила обсуждение на кафедре русской и зарубежной литературы ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва» и на кафедре русской, зарубежной литературы и методики преподавания филологического факультета ГОУ ВПО «Мордовский государственный институт имени М.Е. Евсевьева».
Основные положения, содержание и выводы диссертации отражены в двух монографиях, учебном пособии, более чем в 100 публикациях автора, 16 из которых напечатаны, в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. Материалы диссертационного исследования представлялись в докладах на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях: Международная научная конференция «Традиции классики XX века и современность» (М., 2002), II и III Международный конгресс исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность» (М., 2004, 2007), II и III Международная межвузовская научно-практическая конференция «Русско-зарубежные литературные связи» (Н.Новгород, 2006, 2008); Вторая и Третья Международная научная конференция «Русская литература XX-XXI веков: проблемы теории и методологии изучения» (М., 2006, 2008); Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Многоликий Толстой» (Самара, 2006); Международная научная конференция «Нижегородский текст русской словесности» (Н.Новгород, 2007); VI Международная научная конференция «Русское литературоведение на современном этапе» (М., 2007); Международная научная конференция «Литература в диалоге культур-5» (Ростов-на-Дону, 2007); Международная научная конференция «Декаданс в Европе и России: 150 лет жизни под знаком смерти» (Волгоград, 2007); Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы диалогизма словесного искусства» (Стерлитамак, 2007); IV и V Международная научная конференция «Язык, культура, общество» (М., 2007, 2009), III и IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения русской литературы XVIII века» (Самара, 2007, 2009); Всероссийская научная конференция «Текст. Произведение. Читатель» (Казань, 2007); XIII и XIV Международная научная конференция «Пушкинские чтения» (СПб., 2008-2009); Международная научная конференция "КУЛЬТ-ТОВАРЫ: феномен массовой литературы в современной России" (СПб., 2008); XXXI Зональная конференция литературоведов Поволжья (Елабуга, 2008); II Международная научная конференция «Синтез документального и художественного в литературе и искусстве» (Казань, 2008); научная конференция «Предромантизм в мировой культуре» (Самара, 2008); VII Международная научная конференция «Грехнёвские чтения» (Н. Новгород, 2008); Международная заочная конференция «Поэтика художественного текста» (Борисоглебск, 2008); Третья Международная научная конференция «Восток — Запад: пространство русской литературы и фольклора» (Волгоград, 2008); Конгресс «Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве» (СПб., 2008); Международная заочная конференция «Текст и дискурс: проблемы функционирования, анализа, интерпретации» (Астана, Казахстан, 2009); Международная научная конференция «Н.В. Гоголь и мировая культура» (Самара, 2009) и др.
Материалы диссертации использовались в лекционных курсах по истории русской и зарубежной литературы, в курсах по выбору «Художественное своеобразие прозы В.В. Набокова», «Авторская маска в литературном сознании России XVIII-XX вв.» для студентов и аспирантов филологических специальностей ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва». Концепция исследования была апробирована в ходе работы по Гранту Президента РФ (Грант МК-1759.2008.6 «Русская литература сквозь призму идентичности: авторская маска как средство самоидентификации писателя в прозе XX столетия»). Структура и объем диссертации. Содержание работы изложено на 495 страницах, включая введение, четыре главы, заключение, библиографический список (582 наименования, 18 из которых - на иностранных языках) и приложения. В приложениях 1-2 «Специфика авторской репрезентации протопопа Аввакума в «учительских» текстах ("Книга бесед", "Книга толкований")»; «Традиция авторской маски в переписке Петра I с князем-кесарем Ф.Ю. Ромодановским» представлено исследование специфики функционирования авторской маски в литературе «нехудожественной», подчёркивающее универсальность этого феномена. Приложение 3 «Судьбы авторской маски в отечественной прозе XX столетия» посвящено исследованию преломления пушкинского и гоголевского опыта создания авторской маски в прозе XX в.
Феномен маски: сущность, многообразие смыслов и трактовок
В настоящее время границы применимости категории «маска» весьма расширились: если первоначально маска связывалась исключительно с театром или же культовыми и ритуальными действами, то к настоящему времени эта категория активно используется не только этнографами и театроведами, но философами, культурологами, психологами и др. [см., например: 71; 72; 101; 104; 148; 248; 249; 261; 262; 265; 266; 272; 281; 282; 283; 402; 403; 567; 572; 580; 581 и др.]. На наш взгляд, повышенный интерес к феномену маски в гуманитаристике объясняется рядом тенденций современной культуры: от усложнения познавательных процессов и углубления самосознания личности до осознания коммуникативной природы научного знания и усложнения механизмов культурной интеграции.
При поисках методологических подходов к изучению маски, на наш взгляд, представляется весьма продуктивным принять во внимание то, что маска в гуманитаристике рассматривается чаще всего в качестве философско-культурологического и социально-психологического явления и становится объектом исследования в соответствующих работах. В связи с этим необходимо выделить важнейшие подходы, существующие к осмыслению этого феномена [см. об этом: 382, с. 226-229], прежде всего уточнить психологические механизмы порождения маски. Именно они оказываются значимыми не только для личности вообще, но, что наиболее существенно, для личности творческой, репрезентующей, посредством маски, себя в пределах созданного ею художественного текста.
Согласно психологическому подходу, маска рассматривается как особый защитный механизм личности, индивидуальности, способствующий поддержанию другого «я», направленный на создание ложного впечатления о себе или обретение анонимности. Маска как актуализация собственного образа в той или иной поведенческой ситуации появляется в результате рефлексии личности, лишенной цельности, что позволяет рассматривать маску как форму защиты внутреннего мира ее носителя. Соответственно, маска становится одним из способов самосознания личности, осмысливающей собственное «я» и пытающейся обрести посредством маски цельность и преодолеть «дуальность» [см. об этом, например: 248; 249; 250; 332; 402; 558]. Психологический механизм формирования маски, описанный в ряде соответствующих исследований [см.: 248; 249; 250; 266; 272; 332], очевиден - недовольство собой, отсюда - иллюзорная компенсация собственной слабости, маска появляется в результате рефлексии, когда личность теряет цельность и становится неравной себе [анализ рефлексии в науке см.: 88, с.37-44]. Таким образом, маска есть и некая форма защиты внутреннего мира ее носителя. Вообще, по мнению психологов [см., например: 84], в сознании личности существует не только некий целостный образ «я», посредством которого личность осознает себя, но и множество частных образов, среди которых наиболее часто выделяют бинарные оппозиции «я реальное» - «я идеальное», «я своими глазами» - «я глазами других», «я для себя (внутреннее «я»)» - «я для других (внешнее «я»)» и т.д. Цельное «я» личности предстает в виде «суммы всех представлений индивида о своих собственных характеристиках», сопряженной с их оценкой [84, с. 181]. Однако, совокупность знаний о самом себе, констатация собственного потенциала, любые попытки самоописания, содержащие, кстати, оценочный момент, связаны-с саморефлексией личности, лишенной цельности, порождающей в конечном итоге актуализацию собственного образа в той или иной поведенческой ситуации, иногда, отличного от реального, истинного «я», с определенной целью. Так, И.С. Кон в контексте исследования мировоззренческих основ самосознания полагает, что "расщепление" личности со стороны "внешнего" поведения раскрывается в диалектике "я" и маски: « .. . маска - это не "я", а нечто, не имеющее ко мне отношения. Маску надевают, чтобы скрыться, обрести анонимность, присвоить себе чужое, не свое обличье. Маска освобождает от ... социальных условностей и обязанности соответствовать ожиданиям окружающих» [249, с. 138]. Трактовка маски И. Кона, вне всякого сомнения, философско-психологическая: ученый рассматривает ее как один из аспектов "множественности" человеческого "я", считая маску компенсаторной "моделью", определенным типом поведения. «Именно различие "подлинного я", каким я его себе представляю, и маски побуждает говорить о ней как о внешнем, наносном, неорганичном», - отмечает исследователь [249, с. 138]. Маска является "освобождением" человека, как от истинного его лица, так и от "духовных уз", связывающих его с другими. Таким образом, в смысле психологическом маска всегда оказывается самоконструирующей поведенческой стратегией, направленной на поддержание другого «я», вытекающей из желания создать ложное впечатление о себе, поскольку внешний вид любой вещи есть не обнаружение внутренней сущности, а сокрытие ее, то есть маска.
Естественно, что в непосредственной взаимосвязи с подходом психологическим, поскольку личность как таковая не мыслима вне социальных характеристик, находится социологический подход, связывающий маску {имидж: как модификацию маски [240; 261]) с обманом и полагающий ее способом репрезентации индивидом самого себя в рамках социума: «социальнсть» как совокупность мировоззренческих, культурных и идеологических установок в определенной степени воздействует на «избрание» личностью, раздвигающей границы самовыражения и предпринимающей попытку социальной и ментальной саморепрезентации, той или иной маски [подробнее см.: 383]. Маска рассчитана на зрителя, чье восприятие строится по той же модели, что и ее собственное, при этом она способствует осознанию как себя самого, так и «другого», осмыслению его поведения, поступков, спроецированных на себя самого. Естественно, что психологические механизмы порождения маски, вопросы самосознания автора как её носителя имеют непосредственное отношение к рассматриваемой нами проблеме, поскольку речь идет о маске авторской, маске творца как реальной личности, рефлектирующей, находящейся в процессе самопознания и самонаблюдения. Однако при этом принципиально значимым оказывается и так называемое «социальное измерение» маски, поскольку «реальный» автор в качестве её носителя является еще и непосредственной составляющей социума. Именно «социальнсть» как совокупность мировоззренческих, культурных и идеологических установок, а также отношение к вопросу социальной стратификации, иерархической лестнице (мужчины - женщины, человека - Бога и т.д.) в определенной степени воздействует на «избрание» автором, раздвигающим границы самовыражения и предпринимающим попытку социальной и ментальной саморепрезентации, той или иной маски.
Внутренний мир личности, усложняясь, дифференцируясь и отчуждаясь от социума как целого, все менее находит адекватное выражение во внешних проявлениях. На все явное ложится тень неподлинности, подлинное же неявно, и ему грозит растворение в наплыве мнимостей. Цель маски как отклика на реальность - завоевание удовлетворительной для себя позиции в материальном мире. Функции маски - искажать, закрывать мир от своего носителя, а также скрывать истинный облик носителя от мира с целью слияния с миром. Маска рассчитана на зрителя, чье восприятие строится по той же модели, что и ее собственное. Таким образом, уже генетически маска выполняет, помимо дуального сокрытия (личности от мира и мира от личности), функцию осознания индивидуумом как себя самого, так и «другого», осмыслению его поведения, поступков, спроецированных на себя самого [см., например: 265; 272; 567].
Справедливости ради, заметим, что нередко маска социальная маркирует безличную социальную функцию и норму, выполнение которой обязательно для тех, кто данную позицию занимает, причем маска социальная6 есть не что иное, как то, что ожидается в обществе от всякой личности, занимающей определенное место в социальной системе. Именно маска «выражает одну или несколько разновидностей социальных отношений, входящих в определенный поведенческий репертуар» [248, с. 136].
Таким образом, бытие субъекта определяется не иначе как через социальные маски (роли), с помощью которых и конструируется его социальная сущность. Одновременно с этим, «социальное предписывает индивиду набор фиксируемых атрибутов, определенную роль, отводя ему Э.Гоффман, кстати, применивший «рамочный анализ» и «театральный» подход при выстраивании собственной концепции взаимоотношений социума и личности, называет представление себя «Другим» в рамках социума амплуа пролью [см.: 567]. пространство, очерченное контурами этой роли, включая его в общее пространство спектакля» [261, с. 96]. Из этого со всей очевидностью следует, что социальная маска всегда предопределена общественными представлениями (социум с его нормами, предустановленными запретами, иерархической лестницей, ценностной шкалой является тем Другим, ориентиром, в непосредственном взаимодействии с которым индивид выстраивает собственную поведенческую модель и соответственно -избирает ту или иную маску), причем функционирует она до и вне своего носителя. Мало того, личность онтологически определяет себя через собственный социальный образ и, соответственно, принимает социальную маску, которая становится не просто ее лицом в социальном пространстве, но именно тем механизмом, который формирует социальное и культурное лицо индивида. При этом, однако, меняя разнообразные маски и воплощаясь в бесконечности потерявших личностную окраску функций, в рамках социума, личность не разрушает себя, сохраняет внутреннее единство и более того, -стимулирует процесс самопознания, обогащающий ее и углубляющий ее содержание.
Зарождение явления авторской маски в «Молении» Даниила Заточника» и «Хожении за три моря» Афанасия Никитина
В культуре Древней Руси "масочный" элемент был представлен в искусстве скоморохов - площадных лицедеев, "заводил" народных игрищ и потех, чье занятие — "неистовая пляска, кривлянье"; они деформируют и пародируют мировой порядок, искусство их - "обезьянничанье и карикатура" [398, с.79]. Своим поведением скоморохи и шуты показывали, что реальный мир ненастоящий, лицемерный, поэтому вели они себя нередко «невпопад», притворяясь дураками для того, чтобы быть «свободными» в смехе, обнаруживать правду, освобождать реальность от этикета, церемониально сти, общественных норм. Они выворачивали мир «наизнанку», исполняли так называемые "обряды веселья" — святки, масленица и т.д., то есть исконно русские "театральные сезоны", для которых характерны ряжение и маскирование. Мы, безусловно, не ставим себе целью детальное исследование феномена русского скоморошества, тем более, что это уже проделано в ряде историко-культурных исследований [см., например: 107; 133; 205; 396; 398; 405], причем наряду с весьма авторитетными трудами, осмысливающими феномен скоморошества, в последние десятилетия появляются работы, фактически повторяющие хорошо известные концептуальные положения Д.С. Лихачева и A.M. Панченко [см.: 560, с.36-51]. Для нас куда важнее другое: скоморошество, по сути, стояло у истоков масочно-карнавальной традиции и элементы его (как правило, несколько видоизмененные) так или иначе отразились в традиции литературной - от литературных памятников Древней Руси до художественных текстов XX столетия [467] (заметим, что кривлянья, прибаутки, песни трансформировались уже в древнерусских памятниках в различные формы смеха, комического).
Как справедливо отмечает Д.С. Лихачев, характеризуя специфику древнерусского смеха, авторы древнерусских средневековых сочинений «смешат читателей непосредственно собой»: «Авторы притворяются дураками, «валяют дурака», делают нелепости и прикидываются непонимающими. ... Это их «авторский образ», необходимый им для их «смеховой работы», которая состоит в том, чтобы «дурить» и «воздурять» все существующее» [288, с.343]. Таким образом, становится вполне очевидно, что достаточно расхожим оказывается образ (маска) дурака, юродивого, позволяющий нарушать любые нормы и приличия, фамильяризовать реальность (пусть лишь в пределах текстового пространства), уравнять всех в смехе, говорить правду, обозначить собственную наготу как лишенность всего. Показательно, что шутовская, скоморошья маска дурака конструируется в древнерусских литературных памятниках с помощью одних и тех же стилистических средств -оксюморонов и оксюморонных сочетаний, метатез, рифм [подробнее см.: 119], а кроме того, непосредственно сопряжена с игрой, намеренным конструированием игровых ситуаций.
Весьма примечательно в этом контексте «Моление» Даниила Заточника, (анонимный текст первой трети XIII в., чей автор уже «именем-псевдонимом» маркирует собственное положение — заточение, заключение) вполне вписывающееся в скоморошью игровую традицию.
Общеизвестно, что в XIII в. личной писательской позиции, своеобразной точки зрения, которая выделится лишь к XVI в., фактически не существовало - произведение было лишено индивидуальных особенностей литературного оформления, прежде всего индивидуальности стилистической [подробнее см.: 252; 289; 290; 476, с. 229-255]. И хотя повествование в древнерусском тексте идет как бы от имени автора, автор неиндивидуализирован, по справедливому замечанию Д.С. Лихачева, «авторское «я» в большей степени зависит от жанра произведения, почти уничтожая за этим жанровым «я» индивидуальность автора» [289, с. 179]. Однако, «Моление» Даниила Заточника, как указывает большинство исследователей, «выбивается» из жанрового канона средневековой литературы, и дело не только в отсутствии аналогичных в жанровом и стилистическом отношении текстов [см.: 164; 189; 469; 476 и др.] и особом построении самого памятника, сконструированного на сочетании сугубо литературных и фольклорных приемов и средств, тяготеющего как к скоморошьей, так и к книжной традиции афористических сборников [290, с.83-84], но в первую очередь, в отчетливо выраженном личностно-авторском начале, настойчиво пронизывающим все произведение [290, с.83-84] . Подчеркнем, что при анализе «Моления», мы опираемся на точку -зрения Д.С. Лихачева, A.M. Панченко, Н.Н. Воронина [149, с.66-67], рассматривающих памятник в
Оговоримся, однако, что, к примеру, Н.К. Гудзий связывает принципиально заявленную авторскую позицию «Моления» с центральным мотивом памятника - защитой «человеческой личности и достоинства, ценности интеллектуальных достоинств» и рассматривает автора как «интеллигента XIII в.» [164, с.188]. рамках «смеховои» культуры, в противовес позиции отвержения наличия «смеховои философии» в «Молении» [см., например: 351, с. 214-233; 352, с. 22-31] или же появляющимся в последние десятилетия иным, порой не выдерживающим никакой критики трактовкам, как, например, осмысление «Моления» как варианта притчи о блудном сыне [см.: 434, с. 30-37].
Итак, Даниил, в отличие от других средневековых писателей, стремится к самовыявлению и самооправданию, пишет со своей собственной, сугубо личной точки зрения. Если прочие авторы всецело ориентировались на существующий литературный канон, этикет, стремились следовать известной норме, классифицировать, сопоставлять описываемое с известными случаями священной истории, активно цитировать священное писание, находить показательные образцы в прошлом, использовали трафаретные сочетания, переходящие из текста в текст, то Даниил мало считается с этикетными формулами, он «как бы щеголяет своей грубостью, нарочитой сниженностью стиля, не стесняясь бытового словаря», «зазывает к себе слушателей -именно зазывает, так как в его произведении отчетливо чувствуется непосредственное к ним обращение», он предлагает «явную переделку псалмов, ... но переделку, выполненную отнюдь не в молитвенных целях», псалтирь его «слишком явно сбивается на скоморошьи гусли» [290, с.234] (ср. созвучную лихачевской характеристику памятника И.П. Еремина: «Моление» - искусная словесная мозаика, составленная из изречений и афоризмов, заимствованных из самых разнообразных источников. ... Псалтырь, «Песнь песней», «Притчи Соломона», «Повесть об Акире Премудром» [189, с. 129]).
Аутентичность условность авторского облика М.Д. Чулкова
Рефлективный традиционализм, формировавшийся в русской литературе уже с XVII столетия (прежде в связи с творческими поисками протопопа Аввакума) и знаменовавший активное становление авторского концепта, в веке XVIII постепенно сменяется принципиально иной «антропоцентрической» парадигмой социокультурного сознания [см.: 227, с. 24]. Теперь автор осознает себя творцом, созидающим собственную эстетическую реальность, способным к самоиронии, самопародии. Происходит это, в первую очередь, в отечественной прозе, точнее, в формирующемся романном жанре. Как отчетливо показали Г.А. Гуковский, Е.М. Дзюба [см.: 167; 182], в XVIII столетии, особенно, в период становления классицизма, фундаментом жанровой системы были репрезентующие классицистическую поэтику ода, трагедия и героическая поэма, поэтому «по отношению к романам (переводным и оригинальным), сборникам (низовой и демократической прозы) ... жанры, признанные в классицистической системе, становились величинами недискретными, являли собой специфический мифологический ряд текстов. Сакральный художественный смысл высоких жанров при полном совпадении плана содержания и плана выражения ... противостоял дискретности эмпирического (бытового) материала. Десакрализация литературного классицистического пространства вела за собой смену авторитетов» [183, с. 14]. Романы, функционирующие в отечественном литературном пространстве уже в елизаветинскую эпоху, как правило, были переводными (от Дефо и Прево до Скаррона), русский же роман формируется лишь с середины 1760-х гг., благодаря усилиям Ф. Эмина и М. Чулкова.
Отечественный роман в XVIII столетии как явление становящееся, неустойчивое оказывается жанром неканоническим [о специфике отечественного романного универсума XVIII в. и в целом - прозы - см.: 79; 116; 230; 231; 446; 449; 481; 530], не вписывающимся в нормативную поэтику классицизма, демонстрирующим смену культурных и литературных кодов, принципиально иной взгляд на эстетические функции и установки художественного текста, неоднозначность авторских оценок, позиции, высказываний, что закономерно повлекло за собой смещение в двуединстве «автор - персонаж» и необходимость появления «формальных заместителей» автора - повествователей, рассказчиков, берущих на себя функции создателей (собирателей, публикаторов) предлагаемых читателям текстов. Соответственно, желание автора играть с читателем, быть не учителем или пророком, выражающим неоспоримую позицию, но подчеркивать неоднозначность собственного взгляда на мир, художественную реальность, которую он создает и репрезентует, ведет к активному использованию автором всевозможных масок.
В этом контексте весьма, показательным становится творчество М.Д. Чулкова, во-первых, его роман «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» (1770), где автор «реальный» посредством стилизации «чужого» голоса и принципиально иной речевой манеры создаёт маску юной вдовы, повествующей от «я-лица» о собственных любовных похождениях и приключениях. Во-вторых, журнал «И то и сьо», в котором использовалась смеховая маска простодушного, плута-бедняка с «кроткой» душой9, неизменно подчёркивающего, что пишет он исключительно «для одного увеселения». Но прежде всего - «Пересмешник, или Славенские сказки» (1766-1768 гг.), ориентированный на выход за рамки нормативной поэтики классицизма, выстраивающийся по законам барокко, отчасти - готики, сентиментализма, и достаточно пестрый в жанровом и стилистическом отношении. Оговоримся, что проблема жанровой принадлежности «Пересмешника» разрешается в отечественных исследованиях по-разному: В.П. Царева рассматривает его как аналог европейским новеллистическим циклам, О.Л. Калашникова — в качестве идентичного западноевропейскому роману, О.В. Воеводина - как один из ранних образцов литературной сказки, наряду с «Русскими сказками» В. Левшина, Е.М. Дзюба обозначает «Пересмешника» «мифогенным романом», возникающим «в недрах уже существующего в русской литературе аз-романа» [см.: 146, с. 100; 183, с.6; 231; 530]. М Плюханова отмечает, что в «Пересмешнике» М. Чулков «использовал все роды романной интриги ... . Он следовал всем правилам пышного романного красноречия, разрешая себе, впрочем, иногда маленькие иронические выходки ... » [412, с.38]. В.П. Степанов полагает, что, хотя для Чулкова в этом произведении определяющим был классицистический принцип бурлеска, сочетание высокого и низкого, «Пересмешник» демонстрирует очевидную борьбу автора с романным шаблоном [см.: 481, с.341-347]. И если последнее утверждение исследователя вполне справедливо, то в отношении приверженности писателя к классицистской эстетике можно усомниться, в связи с отсутствием регулярного сопряжения в «Пересмешнике» низкой реальности и высокого, пафосного описания. Кроме того, как справедливо отмечает М. Плюханова, «при наличии в России того времени огромного запаса «низкой» с точки зрения классицизма прозы, опыта русской литературной прозы еще не было. Широкой же картины западноевропейской литературной жизни Чулков не знал, он имел о ней лишь отрывочные, несистематические сведения. В России этого периода соединились уникальным образом зрелая литературная теория и совсем юная словесность, которая могла как-то нормализоваться этой теорией, но не могла быть ею объяснена» [413, с.374-375].
В «Пересмешнике», выходя за рамки риторики (в смысле внешнего слоя текста), сакрального круга культуры, примеряя маску, автор «реальный» предлагает читателям ложную идентификацию собственного авторства, передавая текст другим рассказчикам, целенаправленно ведя игру с аудиторией реципиентов, совершенно не рефлектируя по поводу того, верят ему или нет. И в этом отношении писатель предваряет в известном смысле открытия Н.М. Карамзина, отчетливо осознавая значение читательской позиции по отношению к тексту, роль читательского восприятия [о роли читательского восприятия, в том числе, игрового, пародийного текста см.: 104; 570; 571; 577; 582], не делая текст неким «комментарием» к авторской фигуре, не выступая в качестве «пророка», «учителя», «наставника» [см.: 145], но «поднимая» читателя до уровня автора, предполагая в нем способность к декодировке предлагаемого сочинения, к адекватному восприятию заложенных в тексте смыслов, игровых, прежде всего.
Общеизвестно, что литература эпохи классицизма в России теоретически подчинялась строгой иерархической системе, в целом находившей и практическое подтверждение. Однако происходило это не всегда - нередко наблюдалось нарушение правил, уничтожение риторических рамок с дальнейшим формированием принципиально новых, отчасти - новаторских -для отечественной словесности литературных моделей. Разумеется, нельзя однозначно говорить о какой-либо «двойной направленности» [детальное исследование этой сущностной особенности средневековой литературы содержится в работах М.М. Бахтина, см.: 101] литературы XVIII столетия, поскольку все-таки господствующее положение в жанровой иерархической системе занимали идеологические и эстетические догмы и канонические жанры, однако «низкий» литературный регистр, предназначенный для отражения «материального», чувственного опыта, был неотъемлемой составляющей русской литературы, прежде всего комической, игровой, в рамках которой функционировала пародия.
Авторская маска в «Повестях Белкина» А.С. Пушкина: генетические корни, специфика функционирования
Реализация маски как литературного и эстетического феномена (иногда - культурного кода) в начале XIX в. становится возможным как в пределах художественного текста, так и вне его и получает свое дальнейшее и вполне закономерное развитие в творчестве А.С. Пушкина. Несмотря на то, что приём авторской маски использовался, как мы указали, в 1800 - 1820-х гг. достаточно активно, касалось это, в силу известных причин, прежде всего поэзии. В отечественной прозе последовательное и достаточно регулярное использование её становится возможным, благодаря опыту пушкинскому. Именно А.С. Пушкину русская проза обязана разработкой форм субъективации авторского повествования, созданию «многослойного» повествования, его усложнению, соотнесённости голоса автора, повествователя и героев. Как справедливо отмечал В.В. Виноградов, в прозе А.С. Пушкина множественность «субъектов» повествования «создаёт многоплановость сюжета, сферу литературно-бытовых "сочинителей" -издателя, автора и рассказчиков», которые «не обособлены резко друг от друга как типические характеры с твёрдо очерченным кругом свойств и функций. В ходе повествования то сливаются, то контрастно противостоят друг другу. Благодаря этой подвижности и смене субъектных ликов, благодаря их стилистическим трансформациям происходит постоянное переосмысление действительности, преломление её в разных сознаниях» [140, с.577].
Воспитанный «Арзамасом», Пушкин широко использовал непрямую и «чужую» речь в структуре повествования, играя с авторским образом, вне зависимости от того, шла речь о поэзии, прозе художественной или нехудожественной. Причем даже в «Путешествии в Арзрум», как убедительно показал А. Шёнле, прозаик, создавая в скрытой полемике с Н.М. Карамзиным образ «антисентиментального путешественника», «предпочитает ограничить и индивидуализировать внелитературную реальность, профильтровывая ее через нарративную маску. ... В противоположность Карамзину, который предпринял путешествие, чтобы смоделировать и расширить собственную идентичность, Пушкин искал лишь способы быть самим собой, хотя бы и за маской другого, оставляя на расстоянии требования общества и создавая для себя пространство истинной свободы» [541, с. 194-195].
Примеры использования А.С. Пушкиным авторской маски (и шире -маски литературной) многочисленны и разнообразны — от масок, возникающих в посланиях поэта, на которые указал В.А. Грехнёв [см.: 160, с.29-30], «расслаивающемся» авторском образе в «Евгении Онегине» до масок в прозе публицистической. Так, в «Воображаемом разговоре с Александром I» (1824) поэт выступает под маской монарха и воспроизводит два «голоса» - «чужой» (царя) и свой собственный в вымышленной беседе, обыгрывающей хорошо известную Пушкину причину его перевода из Одессы в михайловскую ссылку [45, с.23-25]. В «Моей родословной» (1830) А.С. Пушкин примеряет маску «мелкого мещанина», выстраивая её «от обратного»: «Смеясь жестоко над собратом, / Писаки русские толпой / Меня зовут аристократом: / Смотри, пожалуй, вздор какой! // Не офицер я, не асессор, / Я по кресту не дворянин, / Не академик, не профессор, / Я, братцы, мелкий мещанин» [46, с.261; выделено нами - О.О.]. Маска мещанина была полемически направлена против булгаринского выпада в адрес поэта, содержащего намёк на его «недворянское» происхождение, на что в финале стихотворения поэт и намекает, осмеивая своего оппонента: «Решил Фиглярин вдохновенный: / Я во дворянской мещанин. Что ж он в семье своей почтенной? // Он? ... он в Мещанской дворянин» [46, с. 264; выделено нами - О.О.]. Как отмечает И.И. Иоаниди, «сатирическая маска в "Моей родословной" не обнаруживается, хотя читатель всё время чувствует какой-то "подвох" в оценках двух ключевых понятий стихотворения: мещанин и дворянин» [220, с. 12]. На наш взгляд, маска, напротив, очевидна поэт утрирует своё «мещанство» фактически с первых же строк. Очевидно, что стихотворение тематически продолжает сатирическую статью «О Записках Видока» и пушкинские эпиграммы 1830 г. на Булгарина «Не то беда, что ты поляк...» и «Не то беда, Авдей Флюгарин...». Здесь по аналогии с эпиграммами поэт вновь обыгрывает его фамилию (Булгарин — Фиглярин) и осмеивает, к тому же, «аристократичность» критика, женившегося, как известно, на женщине достаточно свободных нравов, проведшей юность на улице Мещанской в одном из борделей (заметим, что аналогичным намёком открывается и «О записках Видока»: «Представьте себе человека без имени и пристанища ... , женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр .. . » [46, с. 129]). Сознательно отгораживаясь от аристократического происхождения и утрируя собственную принадлежность к мещанскому сословию, А.С. Пушкин отказывается от принадлежности к «новой знати» («Я не якшаюсь с новой знатью»), обретшей свой статус не благодаря древнему происхождению, но лишь из-за потомственности царским фаворитам, получившим дворянство за личные «заслуги», подтверждением чему служат иронические намёки в рамках вполне серьёзного исторического экскурса на приближённых Петра I: «Не торговал мой дед блинами, / Не ваксил царских сапогов, / Не пел с придворными дьячками, / В князья не прыгал из хохлов, / И не был беглым он солдатом / Австрийских пудреных дружин; / Так мне ли быть аристократом? // Я, слава богу, мещанин» [46, с.262]. На это, кстати, указывает Ю. Оксман в «Путеводителе по Пушкину», подчёркивая, что строки эти «намекают на получение звания потомственного дворянства пожалованием ордена. Стих. «У нас нова рожденьем знатность» говорит о потомках царских фаворитов и фавориток XVIII в., ... Здесь Пушкин имеет в виду Меншикова, Кутайсова, Разумовского, Безбородко и др.» [цит. по: 220, с. 14].
Справедливости ради отметим, что А.С. Пушкин был не чужд мистификации, о чём свидетельствует опубликованный в «Современнике» после его смерти пастиш (по определению А. Тургенева) «Последний из свойственников Иоанны Д Арк» (1837), в котором Пушкин рассказывал об автографе Вольтера, обнаруженном в Лондоне среди бумаг скончавшегося потомка Иоанны Д Арк г. Дюлиса. Примечательно, что, стилизуя повествовательную манеру Вольтера и его адресанта, Пушкин выступает под маской публикатора не только письма г. Дюлиса к Вольтеру и ответного письма Вольтера к Дюлису, но и комментария к ним английского журналиста из «Morning Chronicle». Возмущённый «нелепою клеветою» на Орлеанскую девственницу в поэме Вольтера г. Дюлис требует от Вольтера сатисфакции. Последний же в ответном письме, испугавшись «шуму, который мог бы из того произойти, а может быть и шпаги щекотливого дворянина» [45, с.319], отрицает свое авторство: « ... я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей; от которых вы произошли. Могу вас уверить, что я никоим образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (l impertinante chronique гітй), о которой вы изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает» [45. с. 319]. В «замечаниях» английского журналиста к письмам, пародийно воспроизводящих высказывания о Вольтере в прессе, вольтеровская поэма оценивается отрицательно. На наш взгляд, история отречения Вольтера от своей рукописи, описанная в «Последнем из свойственников...», намекает не только на реально произошедшее публичное отречение французского писателя от «Орлеанской девственницы» после осуждения поэмы официальной католической церковью, но и на известный случай вынужденного отказа самого Пушкина от авторства вызвавшей аналогичное недовольство «Гаврилиады».
Кроме того, А.С. Пушкин создал авторскую маску-псевдоним «Феофилакт Косичкин» в серии фельетонов «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», ставших пародийным откликом простодушного читателя на скандальную публикацию серии романов о Выжигиных Ф. Булгариным и А.А. Орловым [о фельетонной маске Пушкина см. также: 220, с.11-14].
Как известно, конфликт последних состоял в том, что после коммерческого успеха булгаринских авантюрно-плутовских романов «Иван Выжигин» и «Петр Иванович Выжигин» в продолжение им московский литератор А.А. Орлов издал «Хлыновских степняков Игната и Сидора, или Детей Ивана Выжигина», «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ивана Выжигина», а также «Смерть Ивана Выжигина», реакцией на что была, во-первых, статья Н.И. Надеждина, критически осмысливавшая всю «эпопею» о Выжигиных. Во-вторых, выступление Н.И. Греча, отстаивавшего «честь» Булгарина и указывавшего на оскорбительное для Булгарина, у которого «в одном мизинце более ума и таланта, нежели во многих головах рецензентов» [45, с. 171], объединение его романов с «глупейшими книжонками» Орлова, а в-третьих, фельетоны А.С. Пушкина. Последнее наиболее примечательно для нас, поскольку создаваемая фельетонная маска А.С. Пушкина не просто предвосхищает появление фигуры фиктивного автора в «Повестях Белкина», но становится его генетическим истоком.