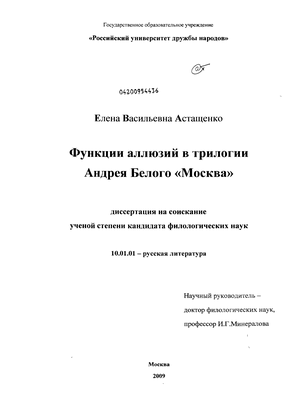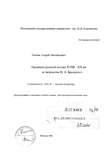Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Типология, аллюзий, формирующих образ хаоса
1.1. Способы создания «образа образов» 17
1.2. Влияние «образа образов» на жанровое своеобразие трилогии 22
1.3. Образы прогресса и света в трилогии 33
1.4. Компоненты творимых космосов А. Белого и функции космогонических аллюзий 50
1.5. Аллюзии на произведения словесности 54
1.6. Аллюзии на естественнонаучные и математические труды 63
1.7. Связь аллюзий на произведения словесности с аллюзиями на естественнонаучные, математические и исторические труды 70
1.8-Аллюзии на кинематограф 79
1.9. Аллюзии на мифологию 92
1.10. Открытие происхождения хаоса 9 Н
1.11. Образ Египта в русской литературе 96
1.12. Связь мифологических, религиозных и философских аллюзий 40
Глава 2. Аллюзии, подтверждающие путь к. становлению гармонии
2.1. Театральное в трилогии 100
2.2. Аллюзии на пространственные искусства 115
2.3. Музыкальные аллюзии 134
2.4. Связь архитектурных, музыкальных и мистических аллюзий 13JF4
Заключение 148
Источники 152-
Литература 156
- Способы создания «образа образов»
- Влияние «образа образов» на жанровое своеобразие трилогии
- Театральное в трилогии
- Аллюзии на пространственные искусства
Введение к работе
Творческое наследие Андрея Белого долгое время находилось на периферии читательского и исследовательского интереса, но за последние 15-20 лет его творчество активно изучается с различных точек зрения: творческий путь Андрея Белого в контексте эпохи изображен в книгах А.В.Лаврова и М.Л.Спивак ; «словарь поэта» изучен и систематизирован Н.А.Кожевниковой3, ритмическое своеобразие его прозы исследовано Л.А.Новиковым4, Ю.Б.Орлицким5, его поэзии посвящены труды М.Л.Гаспарова6, К.В.Мочульского7, И.В.Рогачевой8, Н.Н.Скатова9, над философским наследием Белого работали В.Г.Белоус10, М.А.Маслин , Л.А.Сугай , Э.И.Чистякова . Однако творчество Белого невозможно раскрыть полностью без изучения важнейшей особенности стиля его эпохи — «синтеза искусств»: «бесспорный контакт литературного начала с музыкальным» в творчестве Белого найден Л.Л.Гервер", Д.Е.Максимовым3, И.Г.Минераловой4, З.Г.Минц5, живописное в его прозе прозе и поэзии раскрывается в книгах И.Г.Минераловой , И.В.Рогачевои , И.В.Рогачевои , Л.В.Усенко , драматургическое, театральное и кинематографическое, в творчестве Белого исследовано Т.Николеску , историософская проблематика — К.Р.Поповой10. Особое внимание уделялось роману Белого «Петербург»11, роману «Серебряный голубь» ", «Симфониям» 3, поэтическим сборникам14, драматургии15.
Трилогия «Москва» писалась Андреем Белым с сентября 1924 года до 1 июня 1930 года, она задумывалась еще раньше как третья (после «Серебряного голубя» и «Петербурга») часть трилогии «Восток и Запад», возможно, ее замысел отчасти пересекался с замыслом романа
«Невидимый град», что обсуждается в книгах М.Л.Спивак1 и Л.К.Долгополова. Летом 1912 года А.Белый писал А.Блоку: «С «Петербургом» я измучился и дал себе слово надолго воздержаться от изображения отрицательных сторон жизни. В третьей части серии моей «Востока и Запада» буду изображать здоровые, возвышенные моменты «Жизни и Духа». Надоело копаться в гадости». Невидимый град, по мнению, Л.К.Долгополова, «есть скрытая, таинственная, мистическая жизнь духа со своими откровениями и просветлениями». В январе 1903 года ... Андрей Белый пишет Э.К.Меттнеру: «Москва — своего рода центр — верую. Мы еще увидим кое-что. Еще будем удивляться — радоваться или ужасаться, судя по тому с Ним или не с Ним будем с Христом. — В.Т . События не оставят нас в стороне... Все мы званы поддержать Славу Имени Его. Будем же проводниками света и свет в нас засветится, и тьма не наполнит нас... В Москве уже потому центр, что уж очень просится в сердце то, чему настанет когда-либо время осуществиться»3. В трилогии «Москва» и страшные пророчества (не случайно в этот же период Белый восклицал «Москва —ужас... романа «Москва» не написал бы...»), и мечта А.Белого обрели художественное воплощение, вбирающее неисчерпаемую культуру человечества. Е.Е.Левкиевская указывает на связь с Москвой двух мифологизированных концептов — «града Китежа» и «Второго Вавилона». Первый, как пишет Левкиевская, начинает формироваться в кругах русских теософов сразу после революции, что связано с глубоким переживанием крушения в 1917 году России и Москвы, как ее центра, ее сердца. В это время возникает и широко распространяется мысль о незримом существовании прежней
Святой Руси и Москвы вкупе с нею. «В рассказах и легендах на эту тему, — замечает Е.Е.Левкиевская, — образ города раздваивается — внешне лишенный света, одичавший от собственной жестокости и залитый кровью, он оказывается полон тайных светильников, до времени закрытых от постороннего глаза, -невидимых троп и путей... Здесь по молитве являются Богородица или Николай-Угодник1, в трудную минуту приходящие на помощь... Москва — «Китеж-град», незримо растворенный в другом городе — «Втором Вавилоне»»2. Андрею Белому, который родился, рос, учился в Москве, формировался как художник, мыслитель и гражданин, не мог не открыться в «ужасе» «Второго Вавилона» тот святой, неведомый многим, «Невидимый град». Непонятная для постороннего наблюдателя, Москва, с ее душой, всем внутренним строем жизни, собственной речью и собственным голосом — людским и колокольным — в роковые времена, казалось Андрею Белому, является во всей глубинности и многосложности.
Понимание трилогии Андрея Белого «Москва» немыслимо без погружения в глубинную внутреннюю форму. Поверхностное прочтение приведет лишь к выделению фабулы, которая едва ли не сводится к скандальной криминальной хронике фантастического боевика. Двойной агент, шпион и нувориш Эдуард Эдуардович Мандро, происхождение которого тайна, покрытая мраком, преследует профессора Московского
Государственного Университета с целью завладеть его физико-математическим открытием и с его помощью создать лазерные орудия звездных войн. Профессор, обеспокоенный судьбой Вселенной, ни за какие деньги открытия не выдает. В отчаянии злодей зверски пытает профессора и оба сходят с ума от содеянного в жуткой гнетущей атмосфере Первой мировой войны и надвигающейся русской Октябрьской революции. Выясняется, что у шпиона Мандро психическое заболевание давно прогрессировало, что он был не то масоном, не то сектантом какой-то неведомой или вымышленной секты, гуру которой — некий инфернальный Доктор, живущий в Германии, но написавший трактат «Проблемы буддизма», возможно, alter-ego шизофреника Мандро. Мандро, он же Домардэн, виновен не только в государственных, но и в уголовных преступлениях: многоженец, постоянно кого-то насилующий, зверски истязающий и, наконец, растливший несовершеннолетнюю дочь.
Однако если бы автор поставил своей целью именно изображение событий, то это был бы другой автор и другая эпопея. Перед нами произведение величайшего экспериментатора в литературе, художника, пришедшего в русскую словесность с «Симфониями», с одной стороны, эпатирующими новой формой, которая полемична по отношению к традиционной прозе, и одновременно указывающими на новые стилевые возможности словесности, предлагаемые музыкой.
А.П. Чехов утверждал, что художник един, то есть на то, что все составляющие стиля мастера уже содержатся в его ранних, может, даже «неловких» произведениях. А.А. Блок подмечает, что «писатель — растение многолетнее», это определение как нельзя лучше характеризует творческий путь Андрея Белого. Напряженная ассоциативность «симфоний» никуда не исчезает ни в «Петербурге», ни тем более в «Москве». Апробированные ранее приемы становятся доминантными и как нельзя лучше направляют читательскую мысль к постижению жажды синтеза, алкаемого символистами, в частности, одним из его авторитетных теоретиков — А. Белым: синтеза — главное в котором не завершение процесса, а именно становление. Новая эпоха потребовала описать чувствование современниками хаоса и вовне, и внутри мира и человека приемами, которые могли наиболее точно выразить, кажется, «невыразимое». Если «Симфонии» — предощущение грядущего эсхатологического взрыва, который и явит собой тот самый хаос, способный преобразоваться в высшую гармонию, космос, но «Москва» уже сам «хаос», в котором ощутим, предполагаем вектор его разрешения в грядущем.
Способы создания «образа образов»
В романе Андрея Белого «Москва» «образом образов» будет хаос. Серебряный век русской культуры знал множество трактовок понятия хаос и его художественных воплощений. Современник А.Белого В.Н. Ильин, русский православный богослов, литургист, историк культуры, философ, литературный и музыкальный критик, пишет: «Есть хаос и хаос. Хаос первого рода — это «земля неустроенная»... хаос творческий и творимый... готовый стать космосом под воздействием слова Божия... Но есть хаос и второго рода: это «горький хаос» разрушения, смерти, гибели. Этот хаос обратен первому и связан с противлением воле Творца, воле Божией... Характерное свойство этого хаоса есть то, что он возникает всякий раз, когда тварь отвращается от творца в силу дарованной ей ... свободы, но видит перед собой зияющую пустоту, наполненную небытийственными призраками, и, одержимая темными влечениями к гибели, стремится в эту пустоту» . «Хаос второго рода» — дорождение греха. А.Белый отчаивался, видя хаос погрязшего в грехах, разрушающегося мира, но мечтал о претворении в космос хаоса неустроенности. «Говоря о Хаосе в литературном континууме, мы используем это понятие как метафору одной из наиболее универсальных моделей построения художественного образа мира...»" В трилогии А.Белого образу хаоса соответствуют образы войны, «демонизированного» урбанизма , маскарада, греха, ада, тьмы (мрака, бездны), «ничто абсолютного»", энтропии, впрочем, Андрей Белый найдет свое собственное образное воплощение названных феноменов и категорий, равно как это сделает по-своему его современник К.Федин в романе «Города и годы» (1922-1924). На сей раз образу хаоса в момент эсхатологического взрыва также будет соположен образ войны как распри в цивилизации, и в каждом отдельном взятом человеке, и «изломанность маскарадной игры», и разрушенность идеалов и идиллий, запечатленных и настоящими пейзажами и их художественными аналогиями, которые должны быть и будут уничтожены, ибо век пытается жить едва ли не с нового сотворения мира. Особенно важно сопоставление функции аллюзий в «Москве» Андрея Белого с функцией аллюзий в романах К.Вагинова «Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова». Романы эти рождаются надеждой освоить хаос времени — биологического, социального, психического — в одно время. «Москва», судя, например, по письму Иванова-Разумника Белому, написана в сентябре 1924 года, но она росла и редактировалась до 1 июня 1930 года, главы романа «Козлиная песнь» опубликованы в 1927 году, полностью роман вышел в 1928, а в 1929 выпущен роман «Труды и дни Свистонова». И Вагинов, и Белый «парк раньше поля увидели, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки»3, поэтому мировая культура, заложенная даже в их подсознании, проявляется в неисчерпаемой аллюзивности их творчества. Однако функции аллюзий у безумного рыцаря света Белого и печального Харона Вагинова противоположны. Вагинов, как и любимые его герои, коллекционирует обломки культур и останки носителей культуры. Петербург в «Козлиной песне» часто представлен разрушающимися или эфирными в свете луны дворцами, колоннами, скульптурами: «...среди разрушающихся домов он прощается со своими друзьями. Вот другой неподвижно лежит на земле» . В предисловии к роману «Козлиная песнь» автор заявляет о себе, что он по профессии гробовщик: «И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, гвоздики закупает, кружев по случаю достает» . Так, автор переносит родных, подруг, друзей, культуру и быт из жуткого хаоса разрушения в замкнутый, точно гроб, абсолютно одинокий, но потому защищенный от бешеного революционного времени текст — мир нереальный, несуществующий — в иллюзорное инобытие: «Наконец Свистонов почувствовал, что окончательно заперт в своем романе... Таким образом он целиком перешел в свое произведение» , — завершает К.Вагинов роман «Труды и дни Свистонова». Обретет ли произведение, в которое вложена не одна поэтическая душа, жизнь вечную, преобразит ли оно вселенную? Печально отвечает Константин Вагинов устами своего героя, «отрезвленного от алкоголя, любви, сумасшествия», в Серебряный век часто именуемых дионисийством: «... поэт должен, во что бы то ни стало, Орфеем спуститься во ад, хотя бы искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством, и ... как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает» . Андрей Белый всем своим творчеством и даже жизнью пытался бороться с тьмой отчаяния, безверия, демонизма, принятия или воспевания тьмы, непреодоления бездны световым полетом он не прощал никому, даже учителям, Н.Гоголю1, Фр.Ницше2, В.Брюсову3, Д.Мережковскому4, даже друзьям — А.Блоку5, С.Соловьеву6, тем более мистическим анархистам, включая Вяч.Иванова, подменившего, по мнению Белого, истинное богослужение — театральной лжемистерией, а Христа — неким Дионисом, который не имеет определенного содержания. По вере в торжество высших светлых сил роман можно сравнивать с романом К.Федина «Города и годы», в котором профессор скажет «самое важное» — скажет о мистической вечной жизни культуры человеческой: «Я, изучая историю, не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии, города или государства...» «Собирательство Вагинова возникает из стремления противостоять всеобщей энтропии, приватным образом приостановить или не заметить глобальное наступление хаоса — трогательная попытка человека создать свой маленький разумный мир, где все в порядке, все понятно, послушно и разложено по полочкам» . Синтез Андрея Белого, до последней секунды верившего в белую магию жизнетворчества, призван преобразить вселенную вечной магической музыкой слов. Даже в юности Белый не соблазнился декадансом с его чародейными иллюзорными мирами: в статье о творчестве Сологуба2 Белый утверждает, утверждает, что замкнутые миры рассыпаются в прах, что необходим вселенский синтез.
«Лик хаоса, сошедшего в мир» (А.Белый), первоначально ... питал романтическую героику старших символистов... отпугивал младосимволистов, чаявших мгновенного и радостного преображения мира» . «Для А. Белого как для писателя и художника характерно, что у него всегда начинается кружение слов и созвучий и в этом вихре словосочетаний распыляется бытие, сметаются все грани» . Замечание это это принципиально важно, так как позволяет увидеть, как «концепция» мира, принятая символизмом в плане декларативном, в художественном произведении «обрастает» образной плотью.
Влияние «образа образов» на жанровое своеобразие трилогии
Трилогия «Москва» переполнена аллюзиями на произведения, в которых «все смешалось»1, «точно все с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул»". «Москва, какой она предстает в книгах Белого, — это воплощенная хаотичность, живая беспорядочность, вольный разброс... Ключ к трилогии «Москва» не эпопейный, не величественный и не героический, а антиэпопейныи» . «Киерко прав был, что гадины ели друг друга; в начале двадцатого века история разэпопеилась: стала она Арахнеей» (М.,283). Отношение к людям, словно к поедающим друг друга гадинам, выразил в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» Иван Карамазов, как и Киерко, не чуждый радикальных политический идей, только не мирового пожара, с которого начнется новое сотворение мира, а гегемонии на основе уже сложившейся иезуитской иерархии. Соположение Белым «Москвы» и «Братьев Карамазовых» закономерно, поскольку в романе Достоевского Россия конца XIX века, равно как и в поэме о Великом Инквизиторе Испания XVI века, переживают далеко не самые спокойные периоды в истории человечества. Не случаен у Белого и образ Арахнеи. Она важна, во-первых, как напоминание античного мифа о вызове, брошенном девой ткачихой богине Афине, что является чертой богоборческой, появившейся в мифологии Древней Греции в период развитого героизма. За свой вызов богам — «обличенье пороков небесных» — Арахна поплатилась, в отчаянии повесилась, но даже после смерти не обрела покоя: вынутую из петли, ее Афина снадобьем Гекаты превратила в паука, вечно ткущего паутину. В мотивной структуре «Москвы» Белого как напоминание о наказании богами не смирившихся перед их волей людей вводится и образ Атлантиды. Миф об Арахне, увековеченный Овидием, не раз вдохновлял художников — Я.Тинторетто, П.Веронезе, П.Рубенса, Д.Веласкеса, Л.Камбиазо, Т.Цуккаро. Однако, судя по эпитетам и синонимическому ряду, связанным в «Москве» Белого с этим образом, писателя волнует и буквальный перевод с греческого имени героини — паук, а также сатанинские коннотации, связанные с этим насекомым. В Евангелии от Луки дьявол назван скорпионом (10; 19), в русской же традиции место скорпиона занял именно паук. Так, например, символист М. Добужинский на картине «Дьявол» (1907) изобразил существо, напоминающее паука. См. npiui.l. Ф.Достоевский рисует ад Свидригайлова «баней с пауками». С образом Москвы-паука коррелирует и образ Москвы — «старухи, томительно вяжущей спицами серый чулок из судеб человеческих, которая кувердилась чепцом из линялых кретончиков в черненькой кофте своей желтоглазой1, которая к вечеру становится очень огромной старухой, вяжущей тысяченитииныи и роковой свой чулок. Та старуха — Москва» (М., 48-49). Старуха-пряха — парафразирование офорта Ф.Гойи, одного из самых жутких в серии «Капричос» (1799), на котором зловещая уродливая Парка нового времени прядет мрак из людских жизней, а за ее спиной висят иссушенные, обезжизненные ею, обескровленные, как жертвы паука, младенцы. См. npwi.2.
Гойя сопровождает этот офорт комметарием: «Они тонко прядут и сам черт не распутает тех нитей, которые они уготовят этим малюткам». Мотив старой Парки, появляется у Белого еще в повести «Котик Летаев», над которой писатель работал с октября 1915 года по сентябрь 1916. Рыдающему в зарю Котику в бабушке, распутывающей клубок шерсти, «виделось что-то от хищной птицы», она преследовала в сновиденном мрачном лабиринте испуганного младенца.
Мифологическими и живописными аллюзиями Белый показывает, что «Москве» царит дух разъединения, диа-вол, букв, разъединяющий (в отличие от соединяющего сим-вола): «Она же — Москва; точно сеть паучиная; в центре паук1 повисающий» (М., 166). В «Москве», где Россия буйствует накануне Мировой войны между двух революций, «дается образ взрыва миров, прообраз атомной катастрофы, — разрыва времен и пространств... В романе о Москве эпохи войны и революции символически воссоздается ... дух всеобщего разброда, «разрыва», разъединения»".
Чтобы передать антиэпопейность Москвы, далекую от деятельного единства, в котором проявляется «субстанциальная общность объективной жизни»1 народа, писатель изображает хаос «обезьяненных обезьян» (М., 502), движимых против неодушевленного врага — нового оружия массового поражения, инстинктами (коллективным бессознательным, как определил бы К.Г.Юнг), сметающими «ворох сознаний» (М., 439), а не духом патриотизма и героизма, разрушает устойчивый ритм, отступает от идеальной метрической схемы гекзаметра, который «в силлабо-тоническом стихосложении обычно передается сочетанием дактилей с хореями, т.е. становится 6-иктным дольником» , а в в трилогии Белого претерпевает еще более заметные изменения.
Театральное в трилогии
Вновь появляется у А.Белого ницшеанским образ обезьяны как предшественника человека, который, в свою очередь, по отношению к сверхчеловеку сам будет обезьяной по неразвитости своей: «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека — посмешищем или мучительным позором»18. Однако не стоит забывать и всеми известный символ в христианском бестиарии. В текстах Петра Ломбардского, Эразма Франциска, Гуго Сен-Викторского, Исидора Севильского дается образ дьявола как «обезьяны Бога». Философ и богослов Серебряного века П.Флоренский в книге «Стоп и утверждение Истины» (1914) так объяснял подобное именование: «Грех бесплоден, потому что он — не жизнь, а смерть. А смерть влачит свое призрачное бытие лишь жизнью и на счет Жизнь, питается от Жизни и существует лишь постольку, поскольку Жизнь дает от себя ей питание. То, что есть у смерти, — это лишь испоганенная ею жизнь же. Даже на «черной мессе» в самом гнезде диаволыцины, Диавол со своими поклонниками не могли придумать ничего иного, как кощунственно пародировать тайнодействия литургии, делая все наоборот. Какая пустота!
Какое нищенство! Какие плоские «глубины» Это — еще доказательство, что нет ни на самом деле, ни даже в мысли ни Байроновского, ни Лермонтовского, ни даже Врубелевского Диавола — величественного и царственного, а есть лишь жалкая «обезьяна Бога»» .
В кульминационной сцене непримиримые противоречия между духом и телом человека усиливаются. В профессоре Белый видит гения и ... «гиббона» — «еще тяготящую маску» — «Каппа» в восприятии Исси Нисси. Каппа — амбивалентный символ звездного и уродливо-демонического в профессоре (во-первых, «японец воздвиг ему капище»; во-вторых, Каппа — «японский водяной, у которого на голове, напоминающей голову обезьяны, пучок волос»" . Ср.: «профессор не стригся, давно отрастая клоками; тяжелая морда; меж щечных бугров, как на корточках, нос диковырком! Казалось, что вычихнет; глазки, засевшие в щелках, готовились выстрелить... свирепо и зверски карели моржовьи усы... и, невидные, шлепали губы; круглеющий лбина, как камень, способный и стену пробить, — в дыбах косм, и свирепо, и зверски коричневых, да, — голова для гиганта; росток — очень мал: шеи нет... отчетливый пузик на брошенных вправо и влево ногах» (М., 120-121). «Склонности вампира» " Каппа сопоставимы с уничижительным, уродующим отношением отца Коробкина к сыну Мите, достойного лицом и духом человека в котором попытается восстановить его гимназический учитель Веденяпин.
Помимо зловещего образа Каппы ряд японских ассоциаций с профессором продолжает скульптурный образ Будды: «Вот он смотрел, умиленный, на всех просиявшей (ср. согласно концепции В.С.Соловьева, «в буддизме в пробужденном самосознании человеческого духа спадает ... покров, снимается ... маска»), тяжелой, какой-то златой своей мордой (А.Белый не принимает в буддизме «духовной пассивности... и отсутствия личной инициативы»"), поставив два пальца своих пред собою».
Гений и «каппа», борющиеся в Коробкине, усиливают его сходство с устремленным к солнцу аргонавтом, которого тянул вниз «Задопятов ...зоб на теле» — сформированная собственными амбициями и окружающим «личность»: «Только Никита Васильич из кресла давился без воздуха ср. с лейтмотивом романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского «всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с» (Свидригайлов)" ; Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! (Раскольников)" ; «... найдите веру иль бога, и будете жить. Вам ... давно уже воздух переменить надо» (Порфирий Петрович)" , рот разорван как и у профессора , волоокое выпучив око; вдруг ... кинулся, перегоняя их всех... не для того, чтоб поддать под крестец своей пухлой коленкою другу, которого он выживал, а чтоб шубу сорвать и стоять с ней сплошным вопросительным знаком, мигая из меха.
Профессор давнул под микитку его кулаком, проревевши, как слон, — с добродушием: — Ну, брат... Постояли они, перетаптываясь, будто не было лет; были отроки — -Ваня и Кита!» (М., 631).
Ср.: «... кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него... Дитя не превозносится, никого не унижает, незлобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмевается, ни в скорби не уничижается, но всегда совершенно просто» (из толкования Евангелия от Луки блаженным Феофилактом).
В этом есть отголоски влияния ортодоксальных монашеских и еретических оккультных обществ, масонских, теософских антропософских, в которых важно забыть светское отличие, социальный статус, родовую вертикаль, лицо, личину — сбросить маску ;так как чтобы родиться в новой жизни необходимо умереть в старой, грешной. Новая лестница, открывающаяся неофитам не социальная, а духовная, ее ступени — степени посвящения в тайны божественные, а не мирские. Не случайны новые имена, данные не родителями, а наставниками. Сам Андрей Белый, по мнению, М.Цветаевой, высказанному в книге о писателе «Плененный дух», отрекся своим псевдонимом от родовой вертикали). Символично, что масонский ритуал посвящения включает в себя предупреждение кандидату перед входом в храм: «Если ты держишься за человеческие отличия, уходи — здесь их нет». Две храмовых колонны Геркулеса указывают границы, между которыми индивидуальность человека умирает. Северная колонна символизирует разрушение, первозданный Хаос, Южная — созидание, упорядоченность, систему, внутреннюю взаимосвязь. Это Земля и Космос, Chaos и Amder.
Неофит Задопятов смотрит на Коробкина словно вымаливая «правду, о которой не спорят, за которой следуют» (М., 631), «выводящую за грань разбитых миров» (М., 631), но «дверь литератора завалит камень могильный» (М., 631), ведь «всякий, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Его учеником» (Евангелие от Луки, ra.XIV): «Враги человеку домашние»" (М., 631). Этот авторский комментарий обретает смысл только в евангельском контексте: «... если кто ... не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником... Человеколюбец не бесчеловечию учит, не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренний ученик Его ненавидел своих родных тогда, когда они препятствуют ему в деле богопочитания и когда он при отношениях к ним находит затруднения в совершении добра (из толкования Евангелия от Луки блаженным Феофилактом)». У поведения Ивана Ивановича Коробкина, когда «он ночь, не имея пристанища, странствовал» (М., 687), есть прообраз — бесприютное странствование Христа27: «... лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (М., 195), Коробкин уходит, «чтобы решенье, один на один, перемыслить, чтоб прочно отрезан был самый попят то есть не озираясь назад, выбрав жертвенный путь спасения человечества. — Е.В.А. , чтобы ближние, нежно любя, не опутали бы, как сетями, заботами, чтоб не разомлело решенье: избыть дело это» (М., 687).
Аллюзии на пространственные искусства
Образ хаоса и маскарада как одного из «ликов хаоса» создается писателем и с помощью стилизации приемов живописи импрессионистов, символистов, экспрессионистов, фовистов, кубистов, супрематистов и с помощью аллюзий на их картины. Так, например, Белый стилизует импрессионистский пейзаж, выполненный решительными мазками, без подмалевка, лессировки, привычного гладкого письма, суммарно обозначающий детали, создающий формы не при помощи линий, но противопоставлением цветов , моделирующий объемы, вместо того, чтобы очерчивать их: «В сырости снизились в дым кисти ивовых листьев, чтоб опять на подмахах взлетать и кидаться вздыхающим хаосом...» Нетрудно соотнести беловский пейзаж с «Бульваром Капуцинок» 1873 года Клода Моне. См. прил. 17.
К импрессионистскому влиянию можно отнести и трактовку крупных планов с эскизно обозначенными деталями в портретах героев трилогии, например, Лизаши: «...на стриженой шапке волос полосатая шапочка... а чорт — не видать, потому что из ротика выфукнет дым». Так создается «туманный» облик «декаденточки». «Черная дамочка» (М., 449) Лизаша появляется «взрывом из мрака... тенью черной змеи» (М., 449) «оттуда, где ручка качала цветок, — закивало перо; и явились поля черной шляпы: под ними лица — пятно черное (все завуалировано), рот обнаженный и красный...». См. прил. 18. «Черная дамочка»34— аллюзия на «Темную даму» (1881) Энсора , только вместо красного зонтика диссонанс в общую картину вносит алый рот героини.
Конечно, современники в этом портрете могли угадать портретные черты «декаденточки» Зинаиды Гиппиус, героев ее стихов и рассказов «Ведьма», «Небесные слова», для которых «черное пространство» — откровение для устремленных в иное, недоступное непосвященным из-за покрова синевы небесной.
Впрочем, «черная дамочка» не столько живописный портрет, сколько impression — впечатление, в котором взаимоотражаются и «темная дама» Дж.Энсора, и портрет «Неизвестной» И.Крамского, и образ Зинаиды Гиппиус и дам в стиле Шанель. См. прил. 19.
Кроме того, она не дама, а «дамочка», в чем явно ироническое снижение, что позволяет говорить автору книги «Живописная литература и литературная живопись» А.Флакеру о влиянии карикатуры на образы позднего Белого, да и сам Белый в предисловии к роману «Москва» скажет, что образы его «сатиры-шаржи; и этим объясняется многое в структуре и стиле их». В определении парадоксалиста Белого интересно сочетание несочетаемого — сатиры и шаржа. Сатира предполагает, как писал еще Ф.Шиллер («О наивной и сентиментальной поэзии», 1795-96), что «действительность как недостаточность противопоставляется идеалу как высшей реальности. Действительность, таким образом, обязательно становится в сатире объектом неприятия». Шаржирование же, напротив, вызывает «добрый смех» «автора, который находится на стороне объекта смеха» , потому что в «изображаемых людях сквозь внешние проявления небольших недостатков угадывается положительная внутренняя сущность» . Однако часто «шарж граничит с карикатурой» . Сопоставляя данные определения сатиры и шаржа с категорией масочности и сущности А.Белого становится понятно, что оксюморон «сатиры-шаржи» закономерен для обозначения героев его трилогии, так как автор снимает с них, словно маску за маской, их звериную телесную оболочку, социальные предрассудки и псевдомудрые умозаключения о мире, и находит — даже в Мандро — душу живую.
Кубизм определяет дробную перспективу с меняющимися точками схода, ведущую к полной дезориентации в пространстве: «Улица складывалась столкновеньем домов, флигелей, мезонинов, заборов... раскатайною растараторой пролеток, телег, фур, бамбанящих бочек, скрежещущих ящеров... здесь человечник мельтешил» (М., 25) Иллюзию хаоса, стилизуя приемы живописи кубизма39, Белый создает пересечением пространственных деталей, а также синтаксическим рисунком, задающим ритм, аллитерациями, ассонансами, имитирующими звуки мегаполиса.
Так, в трилогии «Москва» создается образ динамического нагромождения, противопоставленный геометрически закономерному линейному расположению предметов в пространстве «Петербурга». «Если Петербург Андрея Белого своей топографичностью и выделением архитектонической и монументальной символики, а особенно подчеркнутой геометричностью аблеуховской столицы является действительной парадигмой «рассказанного города», то московская трилогия только местами рассказывающая о городском переулчатом беспорядке и обращающаяся к невидимому, дает представление о городе нерассказуемом, не подлежащем текстуализации. Причем, особенно в «Москве под ударом», катастрофа чувствуется не в наличии островов как оппозиции городской «прямолинейности», а идет от самой сердцевины города... многокрасочного базара, угрожающей какофонии ее неартикулированных возгласов: «Рррр!.. Урр!»» 4 . Таким образом, большая деревня Москва сближается по восточному характеру своему и «несказанности» своей с провинциальным миром русского захолустного города Лихова и села Целебеево из раннего романа А.Белого «Серебряный голубь» (1911) и противопоставлена западному Петербургу.
Оместе с Пикассо Белый, с одной стороны, упрощает формы, сводит их к кубам, овалам и квадратам вслед за Сезанном, но с другой — все предметы предстают под разным углом зрения, а пространство изломанным: «крыша — легким овалом, скорей — полукуполом... наискось — серый забор, домина пространство обламывал кубами выступов в пять этажей, угрожающих пасть на затылок прохожего; дом вырывался в соседний проулок, давимый ватагой... домов с шестигранниками полубашен и с кубами выступов» (М., 135). Городской пейзаж Белого имеет много общего с картиной последователя Пикассо, Матисса, Сезанна «бубнововалетовца» Аристарха Лентулова 1913 года, одноименной с трилогией писателя. Одна из первых иллюстраций к роману «Москва» фиксирует это сходство. См. прил. 20. Однако по инфернальной сути «угрюмые, хаотично разбросанные в сумрачном и запутанном лабиринте переулков дома-исполины» заставляют вспомнить вовсе не авангардное искусство, а готическое, отраженное, например, в городских пейзажах Г.Майринком.