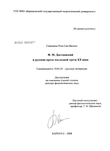Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Лексико-статистические аспекты стыда и авторские стратегии в прозе Достоевского 16
1. Стыд в зеркале исповедальности романа «Подросток» 2. «Стыдливые грешники», или перевернутые архетипы романа «Преступление и наказание» 23
3. «Ну и бесстыдник же ты!..»: автобиографический след в генезисе романа «Идиот»
4. Загадка бесстыдства: «Бесы» как криптотекст 41
5. «Братья Карамазовы»: эксперимент семантической декомпрессии 51
6. Чувство в числах: статистическая картина «стыда» в «малой прозе» Достоевского 75
Глава 2. Нарратология стыда в прозе Достоевского; стыд и зависть 81
1. Нарратив стыда: фигура героя 2. Нарратив стыда: фигура рассказчика 103
3. Нарратив зависти: фигура литературного критика 111
4. Нарратив зависти: фигура автора 117
Глава 3. Онтология и характерология стыда в прозе Достоевского 124
1. Онтологичность стыда: введение 2. Персонификация сокрытия стыда: образ-маска 126
3. Характерология в режиме «стыд —» бесстыдство»: шуты, инферналки, аристократы и «человеколюбцы» 132
4. Интервенция социума, или поиски «внестыдного пространства» и его локу-сы-репрезентанты 147
5. Деньги: топос «истинного бесстыдства» в прозе Достоевского 165
6. Тайна заклада в «Кроткой» 170
Заключение 174
Список литературы 179
- Загадка бесстыдства: «Бесы» как криптотекст
- Нарратив зависти: фигура литературного критика
- Характерология в режиме «стыд —» бесстыдство»: шуты, инферналки, аристократы и «человеколюбцы»
- Деньги: топос «истинного бесстыдства» в прозе Достоевского
Введение к работе
Степень разработанности проблемы. К настоящему времени отечественным и зарубежным литературоведением накоплено огромное количество работ, где творчество Достоевского рассматривается с самых разных точек зрения: философской, богословской, структурной, сравнительно-исторической, типологической и др. Однако и до наших дней попытки комплексного изучения отдельных ключевых категорий творчества писателя (в том числе и страстей-аффектов, модальных универсалий), предпринимаются сравнительно редко. Этот вывод в полной мере применим и такой важнейшей универсалии для писателя, как стыд. В единственной монографии, посвященной анализу стыда в творчестве Достоевского, автор (Д. Мартинсен) обходит вниманием нарративные проявления стыда и их роль в речевой практике героев / повествователей Достоевского, сконцентрировавшись на «боленосном» трагизме писателя и на так называемом «стыде читателя».
Актуальность диссертационного исследования определяется несколькими моментами. Во-первых, в современном литературоведении возрастает интерес к анализу верхних слоев «резонантного пространства культуры и литературы» (В.Н. Топоров), среди которых – универсалии, константы, «вечные» темы / образы / локусы. Во-вторых, стыд, являясь базовой категорией этики, относится к «вечным» духовным ценностям, обладающим высокой социальной значимостью.
Научная новизна диссертации определяется прежде всего недостаточной изученностью категории стыда в русской литературе в общем и в творчестве Достоевского в частности. Реферируемое исследование является фактически первым комплексным научным анализом «стыда» и «бесстыдства» в художественном творчестве Достоевского, предпринятым на основе статистической обработки всех художественных произведений писателя. В результате впервые была реконструирована «логика стыда» в художественном творчестве писателя, реализующаяся через определенный набор устойчивых лексических, нарративных, ментальных черт, пространственно-временных координат и персонажей.
Объект нашего исследования – художественная проза Достоевского, предмет – реализация в ней стыда на различных уровнях – лексическом, нарративном, мотивном, характерологическом, онтологическом.
Основная цель диссертации – обнаружить логику стыда в прозе Достоевского в связи с авторским поведением писателя. Достигнуть поставленной цели можно при условии решения исследовательских задач:
-
определить научно-теоретическую базу для изучения категории стыда в творчестве Достоевского на различных уровнях, уделяя при этом особое внимание методологическим аспектам;
-
произвести фронтальный статистический анализ употребления лексем «стыд» и «бесстыдство» во всех художественных произведениях Достоевского;
-
представить художественную характерологию героев писателя на основании типических черт переживания ими стыда;
-
рассмотреть стыд как особую нарративную инстанцию, оказывающую влияние на различного ранга субъекты речи;
-
выявить художественную онтологию стыда в прозе Достоевского;
-
проанализировать сюжетно-тематическую зону соприкосновения стыда и зависти у Достоевского.
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых, среди которых основную роль сыграли прежде всего общие и частные разыскания в области художественного творчества Достоевского – как классические литературоведческие работы (М.М. Бахтин, К.В. Мочульский, Ю.Н. Тынянов, А.Л. Бем, Р. Жирар, Р.Г. Назиров, Е.М. Мелетинский, Н.М. Чирков, М.С. Альтман, В.А. Туниманов, В.А. Свительский и др.), так и современные исследования (А.Б. Криницын, О. Меерсон, Т.А. Касаткина, Л.И. Сараскина и др.). Отдельный пласт составили труды религиозных философов, рассматривавших особенности христианского мировоззрения Достоевского (В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, Н.О. Лосский, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев и др.).
Кроме того, большое внимание было уделено общим работам по нарратологии и поэтике (Ю.М. Лотман, В. Шмид, Б.А. Успенский, Б.М. Гаспаров, И.П. Смирнов), исследованиям по проблемам литературной архетипичности, художественных констант, мифологем, универсалий и прецедентных текстов (С.С. Аверинцев, В.Н. Топоров, Р.Я. Клейман, А.А. Фаустов, А.А. Кретов, Г.С. Сырица, Н.Г. Михновец и др.), а также разысканиям о стыде в смежных областях знания – в лингвистике, социологии, антропологии, психоанализе и т.д. (Ч. Дарвин, К. Изард, З. Фрейд, А. Адлер, Н. Элиас, Д. Натансон, А. Айсенберг, М. Льюис, Б. Килборн, Н.Д. Арутюнова и др.).
Формирование методологической базы исследования происходило в русле перспективных направлений современной науки, тяготеющей к междисциплинарному диалогу, в частности, к внедрению статистических методов изучения текста в сферу гуманитарных наук и построению целостной концептуальной картины мира. Эти тенденции послужили основой для синтеза в диссертации различных методов, обеспечивающего комплексный и наиболее полный анализ предмета исследования. Таким образом, мы задействовали структурно-семиотический, мотивный, интертекстуальный, лингвостатистический, психоаналитический, отчасти биографический и текстологический методы.
Определение материала исследования обусловлено весьма неоднозначными и в некоторых случаях даже противоречивыми (с точки зрения традиционного понимания эстетики Достоевского) данными, которые были получены в результате применения метода фронтального статистического анализа к корпусу текстов писателя. Для каждого из произведений мы определяем абсолютную и относительную частоты лексемы «стыд» и лексем с основой «бесстыд», но основное наше внимание сосредоточено на «пятикнижии» Достоевского (романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»), с сопровождающим подключением «малой прозы» писателя. Подобный подход к текстуальной базе оправдан тем обстоятельством, что корпус «пятикнижия» вполне исчерпывает смысловой и функциональный спектр включения комплекса «стыд / бесстыдство» в художественную онтологию, поэтику и, особенно, в нарративную организацию творчества Достоевского. К «внероманным» произведениям писателя мы обращаемся тогда, когда они позволяют высветить новые грани в воспроизведении модели «стыдящегося» героя / «бесстыдника»; расширить очертания «стыдогенных» факторов; дополнить уже имеющиеся представления о специфике переживания стыда героями, – одним словом, в тех случаях, когда подключение «малых» текстов актуализирует различные смысловые нюансы, аналогов которым нет в «пятикнижии».
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В творчестве Достоевского складывается единая онтология стыда, суть которой в переворачивании общепринятых представлений о семиотическом статусе этого аффекта, в истолковании бесстыдства как заключительной стадии метаморфозы стыда.
2. В художественном мире Достоевского стыд – принципиально многоуровневое образование, структура которого имеет особую пространственно-временную развертку. Достижение внестыдного / до-стыдного состояния возможно у писателя, в конечном счете, лишь в измененных формах сознания (сумасшествие, сон, бред, галлюцинации), в альтернативной реальности воображения (мечтания, фантазии, грезы, видения) и в символическом опыте переживания вечности (в поиске «детства человечества» через просветы физического мира).
3. Статистическое распределение слов с основами «стыд» и «бесстыд» в произведениях Достоевского связано с особенностями реализации в тексте авторских повествовательных стратегий.
4. Диалектика стыда задает в характерологии Достоевского фигуры «бесстыдников» (в разных изводах – шута, юродивого, гордеца-аристократа, гордеца-идеолога) и «бесстыдниц» («инфернальных» женщин), отличающихся, как правило, внутренней раздвоенностью и двоящимся оценочным знаком.
5. У Достоевского различаются истинный стыд – стыд интериоризированный, «стыд самого себя» и стыд ложный – экстериоризованный, стыд несоответствия планке, заданной Другим. Первый из них позволяет личности самовозрастать по оси положительных ценностных установок, второй вызывает «застревание» в лабиринтах аффекта и гнев на Другого как на свидетеля позора.
6. Стыд граничит в творчестве Достоевского с целым рядом других модальностей (гнев, страх), среди которых особое место занимает зависть, представляющая собой – хронотопически и нарративно – своеобразный зеркальный вариант стыда.
7. В творчестве Достоевского утверждается возможность существования «положительного» двойника: для подлинного освобождения от стыда требуется не расщеплять себя в попытке вытеснить негативный опыт, но объединиться с коллективным «не-я», приобщиться к родовой человеческой сущности.
8. Стыд выступает в творчестве Достоевского как особая нарративная инстанция, оказывающая влияние на различного ранга субъекты речи, порождая в их дискурсе всевозможные вербальные стратегии избегания стыда – извинения, оправдания, самонаговоры, самоуничижительные дефиниции и т.д.
9. Невозможность обойти в речи искажающее воздействие стыда вызывает в мире Достоевского необходимость в наличии замещающих словесную коммуникацию знаков-субститутов речи – молчания или символических жестов, посредством которых участники диалога объединяются в одном живописно-пластическом плане видения.
Достоверность полученных результатов обеспечивается разнообразием применяемых методов и подходов, объемом текстуального материала, использованием метода лингвистической статистики.
Теоретическая значимость работы состоит не только в целостном осмыслении категории «стыд» в текстах Достоевского, но и в том, что результаты, полученные в процессе исследования, могут послужить основой для дальнейшей разработки теории страстей и аффектов у Достоевского, являющейся одним из продуктивных направлений литературоведения. Активно задействованный в работе метод статистического анализа может быть использован в работах самого разного литературоведческого направления и в различных аналитических целях. Предлагаемое исследование открывает новые возможности для междисциплинарного синтеза в литературоведении.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как история русской литературы XIX в. и теория литературы; при подготовке к спецкурсам и спецсеминарам, посвященным вопросам литературной семантики, характерологии, мотивной структуры и т.д.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования получили апробацию на Международной научной конференции «Большие темы культуры в славянских литературах. Чувства» (Польша, Вроцлав, 2013); Всероссийской научной конференции «Вторые Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова» (Ярославль, 2013); XV всероссийской конференции «Печать и слово Санкт-Петербурга: Петербургские чтения» (2013); Международной конференции «“Что движет солнце и светила”: Поэтика любви в художественной литературе» (Украина, Бердянск, 2012); III и IV Международных научных конференций «Универсалии русской литературы» (Воронеж, 2012–2013); Межрегиональной научной конференции «Литературные юбилеи 2012 года и проблемы компьютерной поэтики» (Воронеж, 2012); XLI Международной филологической конференции (Санкт-Петербург, 2012); Всероссийской научной конференции с международным участием «Вторые Конкинские Чтения»; Межрегиональной научной конференции «Литературные юбилеи 2011 года и проблемы компьютерной поэтики»; III Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные основы русской литературы» (Кострома, 2011).
По теме исследования автором подготовлены и опубликовано 15 работ; из них 4 – в изданиях, входящих в перечень, утвержденный ВАК; 2 статьи и 1 глава монографии находятся в печати.
Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Приложения и Списка литературы, включающего 278 наименований.
Загадка бесстыдства: «Бесы» как криптотекст
В опции «я-для-себя» жизнь проходит в иной плоскости, измеряется по иной ценностной шкале, по-иному оправдана, иначе приемлется, чем жизнь другого человека. Такой подход обеспечивает «кредит доверия» читателя к признаниям, маркированным словом «стыдно», что для «истории моего стыда и позора» [1, т. 13, с. 163] как нельзя более значимо. Впрочем, при этом автор все равно не позволит Подростку уклониться от этических оценок читателя (в частности - Николая Семеновича, адресата записок Аркадия).
Еще одним важным моментом в исповедях героев, стремящихся к пределу чистого самовысказывания (Мечтатель из «Белых ночей», Аркадий Долгорукий, «человек из подполья», Ипполит Терентьев), является то, что это действительно «исправительное наказание» [1, т. 5, с. 178] (по словам «подпольного» человека). Их мучительные откровения останутся без ответа - не завершенными и не оправданными в ценностном плане жизни, «потустороннем» тому, в котором она действительно протекала для героя (ибо читатель в большинстве случаев здесь «фиктивный», или же он исполняет роль судьи / исповедника по отношению к раскаивающемуся повествователю: неслучайно в свои конфиденты Аркадий Долгорукий избирает «бывшего воспитателя» Николая Семеновича). А то, что эстетическая активность героя «работает» на границах переживаемой изнутри жизни без внешней реакции Другого, не позволяет заподозрить Подростка в неискренности, в жажде чужой похвалы: «Жанрообразующей основой литературной исповеди является предположение полной искренности говорящего (по крайней мере - установка героя на полную искренность). Исповедь - несомненная и последняя правда героя о себе, которая бывает неприятна и подчас неожиданна для него самого» [99, с. 97].
В замысле романа «Подросток» ветхозаветная коллизия познания добра и зла резонирует с авторским заданием написать роман «о том, как он [Аркадий. -О. В.] учится нигилизму, узнает, что добро, зло, ищет руководящую нить поведе ния добра и зла, чего нет в нашем обществе. Этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа» [1, т. 16, с. 71]. «Не забыть последние строки романа: теперь я знаю; нашел, чего искать, что добро, зло» [1, т. 16, с. 63]. Сущность центральной идеи романа, диапазон и объект поисков {«нашел, чего искать») соотносимы в своей эпичности с библейскими масштабами, которым сполна отвечает художественная эсхатология писателя: «На свете ничего не начинается и ничего не оканчивается» [1, т. 20, с. 152]. В работах о Достоевском о апокалиптическом сознании писателя говорилось не раз: «Достоевский пытается соединить онтологию открытого бытия (в плане вечности) и евангельскую эсхатологию Иоанна Богослова (в плане истории) ... временное и метаисторическое пересекаются в пространстве самосознания героя» [78]; «Достоевский отражает взгляд на человека, который не изменился со дня грехопадения и находится в борении тех же страстей (точно не прошли еще века Авраамовы) ... В художественном мире Достоевского правят извечные законы, время постоянно сопряжено с вечностью» [202, с. 56]. Вспомним, что первоначально «Подросток» назывался в духе просветительски-нравоучительных романов воспитания, но с удержанием базовых библейских коннотаций: «Полное заглавие романа. ПОДРОСТОК. ИСПОВЕДЬ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА, ПИСАННАЯ ДЛЯ СЕБЯ» [1, т. 16, с. 48].
Осмысление трагического борения в человеке стыда и бесстыдства, развернутое в рамках личной судьбы героя, опирается на идею об извечно возобновляющемся «грехопадении» и фундировано библейской семантикой. Возраст Аркадия Версилова в начале описываемых им «похождений» - 19 лет, к моменту летописания этих событий - 20 лет. Обретение знаний о добре и зле и есть ментальный рубеж, отделяющий 19-тилетнего Аркадия-деятеля и 20-тилетнего Аркадия-писателя. Возрастные рамки, осознанно (или неосознанно) выбранные писателем для своего героя, восходят к аналогичному библейскому представлению, по которому мера человеческой зрелости связывается со «вкушением» знаний о добре и зле и одновременно - с достижением двадцатилетней границы: «Люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся» (Числа, гл. 32, ст. 12) (цит. по [4, с. 720]). «От людей два дцати лет и выше отделяются дети, которые не знают, что добро, что зло, и все малолетние, ничего не смыслящие» (Числа, гл. 14, ст. 20-24) [Там же].
Процесс мужания как травматический опыт пересмотра прежних убеждений и устоев неизбежно сопряжен со стыдом «себя прежнего». Взросление души в «Подростке» выражается в формировании качественно иной нравственной парадигмы и свидетельствует о кризисе предыдущего, «детского», этапа сознания. Сам по себе болезненный и «стыдный», процесс созревания личности (в смысле интуитивного прозревания подростком собственной «недостойности» и недостаточности) поддерживается в романе рефлексией «стыдов и позоров» в форме исповеди. Сознательный отчет о первых бурных и рискованных шагах на жизненном поприще опасен многочисленными признаниями в постыдных деяниях. Интересно авторское отношение к этому жанру. Во время работы над «Преступлением и наказанием» Достоевский находил форму исповеди «не целомудренной» и сомневался по поводу целесообразности ее использовании в истории Раскольни-кова: «NB. К сведению. Исповедью в иных пунктах будет не целомудренно и трудно себе представить, для чего написано» [1, т. 7, с. 148-149].
Исповедальный жанр подразумевает максимальную правдивость рассказчика и, кроме того, избирательный фактический принцип - события отбираются в соответствии с их морально-этической значимостью (в случае Подростка «в объектив» попадают наиболее «постыдные» ситуации, где он играл неприглядную роль, в чем и раскаивается). Исповедальная установка на «неожиданное раскрытие тайных и, как правило, греховных поступков» [272, с. 218] может пролить свет на то, почему по относительным частотам употребления лексемы «стыд» роман «Подросток» среди «великого пятикнижия» занимает, как мы уже сказали, первое место. Отметим и то, что в романе мы наблюдаем беспрецедентно высокий (не только для «пятикнижия», но и для всего творчества Достоевского) процент экспликации слова «стыд» рассказчиком, Подростком (70 употреблений из 111, что составляет более шестидесяти процентов от общего количества контекстов).
Нарратив зависти: фигура литературного критика
Сходную психологическую картину «стыдливой бесстыдницы», проникнутой христианским духом смирения, мы имеем возможность видеть в «Хозяйке», где «бесстыдница» Катерина 11 раз из 12 произносит слово «стыд», не повторяясь (!), но еще более явно в своем речевом облике следуя традициям устного народного творчества. Здесь реализуется «достоевская» закономерность, которую мы уже отмечали в «Подростке», «Идиоте» (применительно к женским характерам), в «Преступлении и наказании» (касательно главного героя): «стыд» имеет больший онтологический вес для «бесстыжих» персонажей (Ахмакова, Настасья Филипповна, Раскольников, Федор Павлович) или «подвижников в миру» (Соня Мармеладова, князь Мышкин, Тихон, Алеша Карамазов), нежели чем для героев, приобщившихся к религиозно-нравственному оптимуму и достигших цельности (Макар Долгорукий, Софья Андреевна Версилова, Марья Лебядкина, старец Зосима). Разницу между «патриархальными» героями и «подвижниками» помогают понять установки относительно стыда: исходя из единой установки на проповедь добра и смирения, старец Зосима в своих «Поучениях» завещает: «Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им» [1, т. 14, с. 292], а Алеша в «речи у камня» (тоже своего рода мини-поучение) призывает: «Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы как Илюшечка, умны, смелы и великодушны как Коля ... , и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми как Карташов» [1, т. 15, с. 196]. Гиперболизованная стыдливость «подвижников» вызвана тем, что они - в полном согласии с христианской доктриной - «любят ближних как самих себя», и жизни других, а также их честь или позор рассматривают как свои собственные.
«Гетере» Грушеньке, по принципу парадоксального динамического равновесия, противоположна в романе «институтка» Катерина Ивановна - в том числе и по контрапунктному характеру индивидуального преломления стыда в сознании в поведении. В антагонизме соперниц логические связи оборваны и перевернуты - «бесстыдница» Груша «истинно» стыдлива, «гордая», «целомудренная» Кате рина Ивановна «бесстыдна». То, что подобная этическая амбивалентность имела для Достоевского принципиальное значение и была связана с его взглядом чело века вообще, подтверждает запись_из его тетради 1876-1877: «Человек ограни ченный [о Белинском. - О. В.], который не в состоянии разглядеть в виноватом невиновного, а в ином и праведном виновного» [1, т. 24, с. 246]. Грушенька заявляет на суде: «К себе меня тогда зазвала, шоколадом потчевала, прельстить хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что...» [1, т. 15, с. 114]. Как показывает статистика, субъективная оценка Груши в высшей степени верна - более того, выражение «стыда мало истинного» возвращает себе энергию пер воначального лексического значения и каждый компонент синтаксического от резка обретает семантическую полноту. «Стыда истинного» действительно «ма ло» в кругозоре Катерины Ивановны. Во-первых, это касается формальных стати стических показателей: героиня использует слово «стыд» в незначительном коли честве (4 употребления лексемы «стыд» contra 21 - у Груши и 18 - у Дмитрия). Во-вторых, за исключением одного случая употребления «стыда» (Но и в един ственном условно «положительном» контексте стыд Катерины Ивановны эксте риоризован, т.е. вызван Другим и ориентирован на «внешнего человека», а не на собственную внутреннюю сущность, - это, скорее, амбиция, уязвленная гордость: «-Уходите, Алексей Федорович! мне стыдно, мне ужасно! завтра... умоляю вас на коленях, придите завтра» [1, т. 14, с. 141]), все остальные «стыдные» контексты сформированы отрицательными и / или негативными операторами. Так, главный предмет заботы Катерины Ивановны в ее взаимоотношениях с Митей - «отпуще ние» ему стыда: «чтоб он не постыдился предо мной этой растраты трех тысяч ... пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит же все не стыдясь» [1, т. 14, 135); «Я добьюсь того ... что наконец он узнает меня и будет передавать мне все не стыдясь! ... Я буду Богом его, которому он будет молиться, - и это по меньшей мере он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла через него вчера» [1, т. 14, с. 172] (мы уже упоминали в контексте разговора о «Подростке» нежизнеспособность и ложность «богоборческих» притязаний Катерины Ивановны).
Любопытное и значимое пересечение - тем же «без-стыдным» курсом Кати следует Смердяков: 1) в его дискурсе отсутствует переживание «стыда» как такового (он лишь апеллирует к стыду других героев: «стыдно, сударь, слабого человека бить» [1, т. 15, с. 51]; «не могут они тогда с больного человека спросить: "Зачем не донес?". Сами постыдятся» [1, т. 14, с. 246]; «пусть этим всем моим словам не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с» [1, т. 15, с. 54]); 2) лексема «стыд», наряду с другими положительными качествами, вводится через последовательное отрицание их наличия, выраженное частицей / префиксом не-: «Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был, напротив, надменен и как будто всех презирал» [1, т. 14, с. 114]; «Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе ... он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что "от Смердящей произошел". ... Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко» [1, т. 15, с. 164-165].
В сцене суда «стремительная Катя» продолжает заявлять свое «жертвенное» положение в глазах общественности, но многочисленные описания «стыда» оставляют ощущение фальшивой видимости - возможно, в силу того, что стыд в них последовательно отрицается: «Это она ... не устыдилась выставить наружу, что это она, она сама, прибежала тогда ... чтобы выпросить у него денег» [1, т. 15, с. 112]; «пред всею этою публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву» [1, т. 15, с. 121]; «Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать» [Там же]. Даже профессионально заинтересованные слушатели в лице прокурора и адвоката стыдятся иступленных показаний Кати: «Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей» [1, т. 15, с. 112]. «Я уверен, что им всем было даже может быть самим стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания» [1, т. 15, с. 120]. Реакция публики доказывает, что «надрывы» героини столь беспрецедентно откровенны, что выслушивать их дискомфортно даже для опытных участников судебных процессов, «привычных» к признаниям преступников. Но высшего пика «бесстыдство» Катерины Ивановны достигает в скандальном экспромте, где слово «стыд» вообще используется лишь однажды, в ограничительном контексте: «Он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. ... Сколько раз я читала в глазах его: "все-таки ты сама тогда ко мне пришла". ... он способен подозревать только низость! Он мерил на себя, он думал, что и все такие как он ... А жениться он на мне захотел потому только, что я получила наследство, потому, потому! ... О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать, - вот почему он на мне захотел жениться!» [1, т. 15, с. 120].
Характерология в режиме «стыд —» бесстыдство»: шуты, инферналки, аристократы и «человеколюбцы»
Практически общим местом стала мысль, что понять личность можно не только через те или иные действия, но и через отказ от каких-либо действий. За анализом системы умолчаний явственно проступают очертания фигуры рассказчика (Классификация повествователей в романах Достоевского в соответствии с соблюдаемой ими нарративной моделью - см. [256, с. 91-92], из деликатности та-буирующего «постыдные», на его взгляд, сведения о Dasein своих «повествуе — мых». Так, Аглая, получившая письмо князя Мышкина, «прочтя эту коротенькую и довольно бестолковую записку вся вдруг вспыхнула и задумалась. Нам трудно бы было передать течение ее мыслей .. . Назавтра опять вынула и заложила в одну толстую, переплетенную в крепкий корешок книгу ... Это был Дон-Кихот Ламанчский. Аглая ужасно расхохоталась - неизвестно чему» [1, т. 8, с.157]. А.Б. Криницын в своей монографии, посвященной изучению исповедальных ситуаций в текстах Достоевского, утверждает, что слушатели исповедей подразделяются на «сочувственных» и «злонамеренных» по отношению к «открывающемуся» герою, причем перечень «враждебных» слушателей значительно — обширнее, чем «доброжелательных» [99, с. 194-225]. Мыслится, что читатели нарративных текстов, к которым эксплицировано обращаются рассказчики, не подлежат такой четкой и однозначной стратификации. Более того, «читатель» в творчестве Достоевского - полиморфное, в высшей степени неоднородное дина мическое образование, «многоликий Яхве», чья основная функция заключается в раскрытии, прежде всего, фигуры рассказчика. И здесь мы вынуждены не согла ситься с М.М. Бахтиным, утверждавшим, что «рассказ движется между двумя пределами: между сухо-осведомительским словом, протокольным, отнюдь не изображенным словом [рассказчика. - О. В.] и словом героя» [19, т. 2, с. 153]. — Фигура «фиктивного читателя» (термин В. Шмида, обозначающий читате лей, к которым он постоянно апеллирует, создавая тем самым их образ в произве дении) на протяжении почти сорока лет творческой деятельности писателя под 106 вергалась динамическим метаморфозам в плане характерологии. В ранних произ-ведениях повествователь Достоевского сохраняет неизменный пиетет к своему читателю: «любезный читатель ... Простите за тривиальное словцо, но мне _ было не до высокого слога» [1, т. 2, с. 104], - просит извинения Мечтатель за использование сниженной лексики (он сетует в начале романа «Белые ночи» на то, что от него «все удирают на дачу», см. также частотное эпическое обращение «О, читатель!» в «Двойнике»; контекстуально синонимичные признания в «литературной робости» рассказчика в «Селе Степанчикове» и т.п.). Впоследствии это отношение к «фиктивному читателю» сменяется менее благоговейным взглядом на него, поскольку он трансформируется из риторической фигуры в дополнительным средством характеристики самого рассказчика. Стыду свойственно достигать необходимого объема в среде любой степени _ сопротивления, поэтому он проникает не только в речь и поступки героев, но и в нарратив многочисленных повествователей Достоевского. И это факт немаловажный, так как, по подсчетам некоторых исследователей, из 34 законченных прозаических произведений писателя 24 написаны от «я» персонажа или рассказчика 7 - от «мы» биографа-повествователя [184, с. 79].
В «Белых ночах», например, Мечтатель «не выдерживает стыда» (частотная формула в текстах Достоевского, выражающая метонимическую параллель между «грузом» и стыдом), он даже не в силах «вынести» добровольно возложенную на себя миссию повествователя и свою «историю» рассказывает в третьем лице, «за тем, что в первом лице ужасно стыдно рассказывать» [1, т. 2, с. 114]. В исповеди
Мечтателя Настеньке имплицитно заявлено превосходство слушающей над говорящим: « - Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела - я, своей собственной скромной особой ... Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.» [1, т. 2, с. 112]. Аркадий Долгорукий в предисловии к своему исповеди-роману утверждает, что «стыдно» «тащить внутренность души на их литературный рынок», «надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе» [1, т. 13, с. 5]. Хроникер «Бесов» кается в собственном «непрофессионализме», отвергает красноречие и излагает историю «по неумению»; повествователь «Братьев Карамазовых» сомневается в «примечательности» своего героя, равно как и в собственной компетентности биографа. Ипполит Терентьев при публичном чтении своей рукописи воспроизводит типичное речевое поведение «стыдящегося сочинителя»: """ «Он говорил одно, но так, как будто бы этими самыми словами хотел сказать совсем другое. Говорил с оттенком насмешки и в то же время волновался несоразмерно, мнительно оглядывался, видимо путался и терялся на каждом слове» [1, т. 8, с. 242-243].
Аналитический взгляд на национальную проблему читателя, чтения и книгоиздания Достоевский выражает устами Шатова: «читать книгу и ее переплетать это целых два периода развития, и огромных. Сначала он помаленьку читать приучается, веками, разумеется, но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге, означает, что он не только w читать полюбил, но и за дело признал. До этого периода еще вся Россия не дожила» [1, т. 10, с. 442]. Сходные «просветительские» взгляды высказывает Петруша Верховенский в том же произведении: «читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему, следовало бы его умным людям расталкивать, а вы...» [1, т. 10, с. 271]. Так, презрительно-деспотическое отношение Петруши Верховенского к «читателям» (он противополагает себя им) дает представление о сущности героя как не отягощенного моральными принципами революционного деятеля, считающего нужным предпринимать радикальные «воспитательные» меры, но не берущего в расчет интересы """ «массы», которой он стремится управлять.
Деньги: топос «истинного бесстыдства» в прозе Достоевского
Таким образом, «хронотоп стыда» в творчестве Достоевского обладает крайней степенью универсализма - проникая практически во все сферы земного и внеземного пространств. Стыд маркирует не только бытие человека (примеры в текстах Достоевского весьма многочисленны), а также не-бытие ("так как «все, что у вас есть - есть и у нас»), но и ино-бытие.
Николай Ставрогин - бесспорно, самый бесстыдный персонаж романа «Бесы» (1872) (а, возможно, и всего творчества Достоевского), в связи с рассуждениями о самоубийстве задается вопросом: «Если бы сделать злодейство, или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: "один удар в висок и ничего не будет". Какое дело тогда до людей, и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?» [1, т. 10, с. 187]. Через 5 лет, в 1877 году, Достоевский поставит своего рода творческий эксперимент, помещая развернутый ответ на этот вопрос в «Сне Смешного человека», а модальность стыда делая доминирующим принципом всей художественной организации рассказа (по о.ч.с. «стыда» рассказ занимает 3 место, 8 словоупотреблений, коэффициент 0,001098). Более того, герой в своем сновидении меняет «место жительства» и производит философскую смычку обыденного и метафизического миров в аналитических целях: «если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, - было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет?» [1, т. 25, с. 108].
Частный ставрогинский вопрос вынесен на межгалактический суд и протестирован в виртуальной реальности сновидения, а солипсический кризис личной ответственности Николая Всеволодовича перед человечеством (Солипсизм -мы понимаем как признание индивидуального сознания в качестве единственно несомненной реальности и отрицание объективной реальности существующего мира) становится импульсом к размышлениям над проблемой более глобального масштаба. Мысль о том, уполномочивает ли самоубийство на бесстыдство - первый шаг в размышлениях Смешного: «Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный» [1, т. 25, с. 107-108]. Далее логический рисунок его соображений повторяет ставрогинский солипсизм: «весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди я-то сам один и есть» [1, т. 25, с. 108].
Фактически Смешной опытным путем апробирует категорический императив Канта. Кант считал, что категорическим императивом был бы такой, который представлял бы какой-нибудь поступок как объективно необходимый сам по себе, безотносительно к какой-либо другой цели. Нравственно человек поступает лишь тогда, когда возводит в закон своих поступков долг перед человеком и человечеством. Известно, что интерес Ф.М. Достоевского к Канту был чрезвычайно высок. Так, в первом письме после освобождения из острога писатель просил брата прислать ему Коран, «Историю философии» Гегеля, "Critique de raison pure" Канта: «С этим вся моя будущность соединена» [1, т. 28, кн. 1, с. 173].
Смешной человек исследует зависимость чувств от темпорально-топографических реалий физической действительности, ареал действия моральных предписаний для человека, а также роль «среды» в процессе трансформации личности.
Пытаясь получить ответ на живой жизненный запрос, Достоевский использует смерть как партнера по диалогу. Его Смешной человек находится в ситуации «на пороге» («револьвер лежал передо мной» [Там же]), вследствие того, что реальность передает ему два отрицающих друг друга сообщения: «все на свете должно быть все равно», но ему не «все равно», так как он жалеет обиженную им девочку. Не в состоянии разрешить логической путаницы, он погружается в сон: «обращение к галлюцинации позволяет ... разрешить проблему, порожденную противоречащими друг другу командами» [20, с. 249]. Попутно отметим, что анонимный рассказчик назван Смешным отнюдь не случайно: «Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим»; «В глазах многих, даже если они не отдает себе в этом отчет, психически больной - это воплощение того, к чему может привести привычка принимать вещи всерьез» [112, с. 255]. Но Достоевский стремится не к описанию, а к испытанию человека, поэтому характер Смешного -это операционное condition sine qua поп, необходимое условие эксперимента. Сознание, деформированное в сторону гиперболизации серьезности, стыдливости (жить для него - значит «страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки» [1, т. 25, с. 107]), ставит перед Смешным вопрос: станет ли преследовать его стыд, если неблаговидный поступок будет совершен им в недоступном для критики месте (на Марсе или на луне) и об этом «позоре» никто никогда не сможет узнать?
Для разрешения этого вопроса Достоевский даже отступает от своих поэтических предпочтений, вводя в сюжет громадные пространственно-временные охваты. А сновидчество героя данном случае - это способ переключения модального оператора «невозможно» (зримое явление истины нравственного бытия) на «возможно» - также в экспериментальных целях чистоты опыта.
Хронотоп в рассказе подчинен рельефу духовного мира Смешного человека («совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце» [1, т. 25, с. 110]: его «галлюцинаторный рай» - дубликат земного пространства (герой угадывает очертания Европы и Греческого архипелага в ландшафте неведомой планеты), та же земля, но в другом измерении, где люди «настигнуты» в ином качественном состоянии сознания - безгрешном, достыдном. «Райское», гармоничное состояние человечества определяется Т.А. Касаткиной как «состояние до отпадения от источников бытия, состояние пребывания в единстве с универсумом, состояние незнания собственной "самости"» [85, с. 33].
Фактически до вторжения Смешного человека времени как такового у «де тей Солнца» не существует - оно циклично и отражает ритуально-мифологическое сознание, культивирующее идею вечного возрождения. «Гнусный петербуржец» размыкает «стрелу времени» и направляет время в сторону увеличения хаоса и энтропии через запуск механизма распада и разложения всех основ («Я развратил их всех...» [1, т. 25, с. 115]). История грехопадения Адама и Евы, положившая начало эволюции, повторяется, но на место Змея-Искусителя становится Смешной человек, а символом искуса, эквивалентным «яблока», становится ложь (о лжи как нарративном «близнеце» стыда - см. главу 2): «Как — скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, ... в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им» [1, т. 25, с. 115-116]. И вина героя заключается в том, что он вклинивается в «безгрешную землю» и актуализирует аксиологический канал в сознании «детей Солнца». До его эмиграции «они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена ... они видели это и давали себя обо — жать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами» [1, т. 25, с. 113].