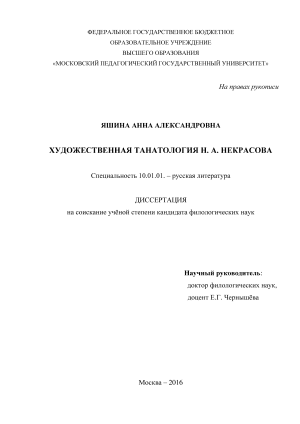Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Метафизика смерти в ранней поэзии Н.А. Некрасова: сборник «мечты и звуки» .18-65
1.1. Тема смерти в лирических стихотворениях сборника 23-43
1.1.1. Танатостремительность материального мира. Тафологические образы и
мотивы 23-29
1.1.2. Мотив греха в репрезентации темы смерти 30-34
1.1.3. Образ иного мира. Мотив пресуществования .35-37
1.1.4. Персонификации смерти 38-40
1.1.5. Мотив встречи душ .41
1.1.6. Мотив памяти в воплощении идеи иммортализации 42-43
1.2. Балладный модус изображения смерти 44-65
1.2.1. Танатологические образы в балладе «Ворон» .46-52
1.2.2. Баллада «Водяной»: образ водяной девы 53-58
1.2.3. Баллада «Рыцарь»: сюжет о возвращении мертвой возлюбленной..59-61
1.2.4. Балладные танатологические элементы в стихотворении «Рукоять» 62-65
Выводы по Главе 1 .66-67
ГЛАВА 2. Репрезентация смерти в поэзии н.а. некрасова 1845-1877 гг .68-163
2.1. Гибельная социальная реальность .71-72
2.1.1. Мотив самоубийства 73-109
2.2. Балладное двоемирие в зрелой поэзии
Н.А. Некрасова 110-113
2.3. Мотив памяти в воплощении идеи
иммортализации 114
2.3.1. Героическая смерть: стихотворения Н.А. Некрасова in memoriam 115-144
2.3.2. Элегические тексты Н.А. Некрасова на смерть 145-154
2.4. Смерть «моя»: лирический герой зрелой поэзии Н.А. Некрасова в аспекте .155-163
Выводы по Главе 2 164-166
Заключение 167-173
Приложение 174-178
Список литературы
- Мотив греха в репрезентации темы смерти
- Мотив памяти в воплощении идеи иммортализации
- Мотив самоубийства
- Смерть «моя»: лирический герой зрелой поэзии Н.А. Некрасова в аспекте
Мотив греха в репрезентации темы смерти
Образы покойников также частотны в «Мечтах и звуках»; причем нужно отметить, что уже в этом сборнике проявляется столь характерное для зрелого Некрасова78 внимание к посмертной судьбе тела, трупным процессам (как пишет К. И. Чуковский, «следить за разложением зарытого в землю покойника — обычное пристрастие Некрасова»79): «Откройте гробовые двери — / Хочу взглянуть на мертвеца! / Хочу, на ледяные кости / Печать лобзанья наложа, / Найти там след суровой гостьи, / Где ныла пленница душа…» («Покойница»; I, 227); «Чу! дрожит земли утроба, / Гул несется из травы; / Гром гремит, как в двери гроба / Череп мертвой головы … Видишь ли тело погибшего брата? — / Он бездыханен, холоден, мертв…» («Землетрясение»; I, 230); «Не брат предо мною – могила сырая, / Сокрывшая тленный остаток того, / С кем весело мчалася жизнь молодая … Но что, безумец? Поймет ли бездушный / Остаток истлевший печали мои? / Душа его в небе, а гроб равнодушный / Лишь тело и кости взял в недра свои … Лишь труп охладелый на память остался / И в душной могиле давно погребен … Покойся же мирно, прах милого брата…» («Могила брата»; I, 246-247); «А между тем земное племя / В гробах истлело не одно» («Горы»; I, 215).
Внимание уделяется также образам, связанным с погребальным ритуалом: «Из роз могильного венка / Цветок он вырвал равнодушно» «Исключительным даром воображения – буквально на грани ясновидения – владел Некрасов. («Покойница»; I, 227); ср. также описание могилы в стихотворении «Могила брата», восходящее, как представляется, к традиции кладбищенской элегии (хотя в целом текст далеко отстоит от данной жанровой формы): «Касатка порхает над братней могилой, / Душистая травка роскошно цветет, / И плющ зеленеет, и ветер унылый / Над ней заунывную песню поет. / Храм бога высокий, часовня, ограда, / Кресты да курганы — кругом тишина» (I, 247).
Плющ как кладбищенское растение связывается со смертью также в стихотворении «Моя судьба», где ему приписано определение «могильный».
Следует отметить также фигурирующий в данном тексте образ «чаши слез»: «Из чаши радостей я пил одну лишь пену, / Она мешала нектар пить… … Возьму другую чашу, / С ней съединю судьбу свою; / Не суетных надежд венком ее украшу — / Могильным плющем обовью. / И если слезы даст, по милости великой, / Бог, в утешение мое, / Презря и суд глупца и хохот черни дикой, / Наполню ими я ее. / И в день, когда совсем преполненная чаша / Ни капли боле не вместит, / Скажу "прощай" мятежной жизни нашей, / И дух мой в небо воспарит. / Там стану с ней, чужд ризы черной праха…» («Моя судьба»; I, 193).
Образ этот восходит к традиции дружеского послания 1810-х годов80, точнее, сложившемуся в ней тематическому комплексу эпикурейского пира, который в «Моей судьбе» не назван прямо, но легко угадывается читателем благодаря наличию в стихотворении ряда атрибутов, ясно к нему отсылающих: нектар, венки, плющ, уже упомянутые образы чаш. Введение же античной атрибутики в элегическую ситуацию (в данном случае – прощания героя с жизнью) было приемом, узаконенным еще в 1820-х годах поэтами пушкинского круга (ср. «Уныние» и «Весну» Баратынского, «Элегию» Дельвига и др.); ко времени создания стихотворения образ «чаши жизни» вошел в поэтический лексикон авторов массовой литературной продукции («Когда, рассеивая мрак ночи угрюмой…» и «Предостережение» Н. Тепловой, «Две чаши» Н. Вуич), пополнив набор романтических штампов и клише.
В целом же логика развертывания поэтической мысли заставляет соотнести текст с элегией К. Н. Батюшкова «К другу»: разочаровавшийся герой, оставив «в вине потопленные чаши», покидает жизненный пир и становится на путь христианства, душой устремляясь к богу и иному миру; ср. и некоторые переклички между концовками двух текстов: «И вера пролила спасительный елей / В лампаду чистую надежды. / Ко гробу путь мой весь, как солнцем озарен: / Ногой надежною ступаю / И, с ризы странника свергая прах и тлен, / В мир лучший духом возлетаю» (Батюшков) – «Скажу "прощай" мятежной жизни нашей, / И дух мой в небо воспарит. / Там стану с ней, чужд ризы черной праха, / Все раны сердца обнажу / И у царя Судеб, как должного, без страха, / За них награды попрошу» (Некрасов; I, 193).
Однако этот смысловой комплекс интерпретирован в соответствии с позднеромантическими представлениями, о которых говорилось выше: античная атрибутика в стихотворении воспринимается исключительно как литературная условность, лишена идеологической связи с батюшковским эпикуреизмом, лирический герой представлен изначально чуждым «мятежной жизни», дольнему миру с его наслаждениями («Из чаши радостей я пил одну лишь пену, / Она мешала нектар пить…» (I, 193), подчеркнут момент противостояния между героем и «чернью» — остальными участниками жизненного пира («Мне плакать хочется, а плакать в мире стыдно, / Увидят люди — осмеют / И с едкой клеветой, с улыбкою обидной / Притворством слезы назовут … Презря и суд глупца и хохот черни дикой…» (I, 193), введены мотивы предательства («О, горько жить, о, трудно пережить измену / Того, чем сладко было жить!..» (I, 193), ожидания и желания смерти («Скажу "прощай" мятежной жизни нашей, / И дух мой в небо воспарит…» (I, 193); акцентированы и смысловые моменты, связанные с христианством: в сочетании с мотивом покорности божьей воле образ «чаши слез» не может не вызывать евангельских ассоциаций (с эпизодом Гефсиманского моления): «Я небу покорюсь… возьму другую чашу, / С ней съединю судьбу свою; / Не суетных надежд венком ее украшу — / Могильным плющем обовью…»); так, в подтексте стихотворения «мерцает» сопоставление страданий лирического героя на земле со страстями Христа.
Лирический герой оказывается выброшенным из круга жизни, лишним на пиру. Однако сам мотив пира в целом сохраняет свое традиционное значение и воспринимается как символ единения и всеобщей гармонии, что достаточно необычно, если принимать во внимание распространение в тогдашней литературе пиров перверсных81, мнимых и гибельных: «Сиянье стилизованной греческой античности окрашивает лирику К. Батюшкова, А. Дельвига, А. Пушкина, П. Вяземского, раннего Е. Боратынского; вместе с тем вакхическим пирам друзей и муз нередко сопутствует героика республиканского Рима. В 1830-е годы на смену им являются «поздние» пиры Клеопатры и Нерона — поистине пиры «во время чумы», где Танатос торжествует над Эросом»82. В стихотворении «Землетрясение», также входящем в сборник «Мечты и звуки», Некрасов использует мотив пира именно в этом, трансформированном и более привычном для поэзии позднего романтизма, виде: «А меж тем земля ужасный / Пир готовит им давно… … Скоро будет пир кровавый на земле и в облаках; / Пышный, гордый, величавый / Превратится город в прах…» (I, 229); ср. также стихотворение «Колизей».
Мотив памяти в воплощении идеи иммортализации
Конец 1840-х годов отмечен появлением в поэзии Н. А. Некрасова темы, непосредственно связанной с областью танатологии, но нехарактерной для его раннего, романтического творчества. Мы имеем в виду тему самоубийства.
В основе картины мира, воплощенной в «Мечтах и звуках», лежала (с некоторыми оговорками) христианская идеология, постулировавшая отказ от земных ценностей. Материальный мир в сборнике, как мы постарались продемонстрировать выше, был представлен несовершенным и порочным, жизнь человека в нем — мучительной. Тело, согласно представлениям, выраженным в «Мечтах и звуках», есть темница души, а смерть - избавление от страданий, открывающее путь к жизни вечной. Ожидание и желание смерти стали лейтмотивами сборника, сама смерть в нем персонифицировалась в образе благого ангела, избавляющего томящиеся в темницах материи души из плена и указывающего им путь к небесам. Подобный взгляд на мироустройство закономерным образом ставил перед романтическим сознанием проблему самовольной смерти, однако активизируя в культуре суицидальные интенции, христианство одновременно и табуировало самоубийство, подвергая его безоговорочному осуждению. Поэтому в русской романтической культуре 1830-х годов, ориентированной на христианские ценности, суицидальность обретает завуалированные формы (подобные тем, что были рассмотрены нами в главе о смерти в раннем творчестве Н. А. Некрасова), а проблема самоубийства практически никогда не поднимается прямо, в отличие от культуры западноевропейского романтизма, где она занимает видное место (примеров тому множество: от поэтизации суицида в «Гимнах ночи» Новалиса и осмысления самоубийства как формы романтического бунта в «Смерти
Эмпедокла» Ф. Гёльдерлина и «Чаттертоне» А. де Виньи до эстетически организованных смертей Г. фон Клейста и К. фон Гюндероде).
Самовольная гибель не становится полноценной темой раннего творчества Н. А. Некрасова, однако в двух его текстах, относящихся к концу 1830-х годов, элегии «Моя судьба» (1839) и стихотворении «Офелия» (первая публикация относится к 1840-му году), мотив самоубийства функционирует на уровне подтекста, рискованных читательских ассоциаций, не будучи выраженным достаточно определенно и ясно.
Первый текст, уже затронутый нами выше, представляет собой типичный образец «унылой» элегии с характерной для этого жанра композицией, субъектной организацией и фразеологией: это монолог разочаровавшегося в жизни и прощающегося с ней лирического субъекта, «не локализованного в пространстве и времени, но ощущаемого (реципиентом — А. Я.) как современный»
Композиционно элегия делится на две части. В первой (стихи 1-8) обрисована исходная ситуация — лирический субъект провозглашает тотальное разочарование в жизни, вызванное «изменой / того, чем сладко было жить…» и столкновением с лживым обществом: «Мне плакать хочется, а плакать в мире стыдно, / Увидят люди — осмеют / И с едкой клеветой, с улыбкою обидной / Притворством слезы назовут … Из чаши радостей я пил одну лишь пену, / Она мешала нектар пить…» (I, 193). Во второй части (стихи 8-28) описывается возможный путь разрешения ситуации: лирический субъект отвергает все «надежды и упования», смиряясь со своей судьбой и предпочитая «чаше радостей» «чашу слез»: «Я небу покорюсь… возьму другую чашу, / С ней съединю судьбу свою; / Не суетных надежд венком ее украшу — / Могильным плющем обовью. / И если слезы даст, по милости великой, / Бог, в утешение мое, / Презря и суд глупца и хохот черни дикой, /
Наполню ими я ее. / И в день, когда совсем преполненная чаша / Ни капли боле не вместит, / Скажу "прощай" мятежной жизни нашей, / И дух мой в небо воспарит». (I, 193).
Последние строки благодаря своей метафоричности допускают «суицидальную» интерпретацию (хотя возможно, разумеется, и прочтение смерти как «естественной»): «я покончу с собой, когда мои страдания на земле превысят меру». В первой версии предполагаемое самоубийство есть для лирического субъекта форма романтического бунта против всепоглощающей пошлости мира. Воспринятые так, строки окрашивают финал элегии в неожиданные богоборческие (и приобретающие дополнительную резкость за счет явной ориентации финала на батюшковское стихотворение «К другу» («Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?») тона: «Там стану с ней (с «чашей слез» - А. Я.), чужд ризы черной праха, / Все раны сердца обнажу / И у царя Судеб, как должного, без страха / За них награды попрошу» (I, 193) («После самовольной смерти я попаду на небеса и попрошу у бога награды за страдания, пережитые мной в земной жизни»).
Впрочем, равновероятно и то, что возникновение этого ассоциативного ряда не было предусмотрено автором и является следствием его поэтической неопытности, неудачно выбранного выражения.
Интерес представляет и другое раннее стихотворение Н. А. Некрасова, «Офелия», не вошедшее в сборник «Мечты и звуки». Впервые этот текст, написанный под впечатлением от посещения «Гамлета», шедшего в Александринском театре в сезон 1839/1840 гг., был опубликован в 1840-м году в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров». Поэт был вдохновлен игрой В. Н. Асенковой, исполнившей в постановке роль Офелии.
Мотив самоубийства
Г. А. Левинтон, рассматривая стихотворения «на смерть поэта» как «особый надындивидуальный цикл», отмечает характерную для него «специфическую цитатность»: эти тексты всегда включают реминисценции «из того поэта, которому они посвящены« и «отзвуки других стихов на смерть поэта, то есть стихов того же цикла; чаще всего это, конечно, ближайшие по времени стихи, хотя источники могут быть и более далекими, по времени или в географическом и языковом отношении»201. «Такую модель задает уже лермонтовская «Смерть Поэта», - развивает идею Г. А. Левинтона A. А. Долинин, - которая, с одной стороны, содержит множество пушкинских реминисценций («Кавказский пленник», «Евгений Онегин», «Андрей Шенье», «Моя родословная»), а с другой, прямо отсылает к отклику на смерть Озерова в послании Жуковского «К кн. Вяземскому и B. Л. Пушкину».
Н. А. Некрасов внес значительный вклада в развитие жанра in memoriam в русской поэзии. В обширном корпусе его поэтических текстов выделяется шесть стихотворений, являющихся откликами на смерть близких поэту людей: «Памяти Белинского» (1853), «Памяти Асенков ой» (1855), «На смерть Шевченко» (1861), «20 ноября 1861» (1862; С. И. Пономарев приводит слова автора, относящиеся к данному тексту: «Вспоминал Добролюбова, писал в день его рождения»203), «Памяти Добролюбова»
(1864), «Не рыдай так безумно над ним…» (1868; по свидетельству самого Некрасова, стихотворение «навеяно смертью Писарева»204).
Говоря о мемориальности текстов, о том, как воплощаются в них факты биографии и характерные особенности личности скончавшегося адресата, нужно констатировать, что реально-биографические факты в стихотворениях in memoriam Н. А. Некрасов всегда сочетает с поэтическим вымыслом. При этом взгляды автора на мемориальность на протяжении 50-60-х годов эволюционируют, а соотношение в текстах реально-биографических и «поэтизирующих« элементов меняется в сторону большей условности, отхода от биографизма.
В стихотворениях «Памяти Добролюбова» (1864), «Не рыдай так безумно над ним…» (1868) соответствия между реальной судьбой человека, которому посвящено стихотворение, и воплощенным в тексте поэтическим образом практически не обнаруживается (кроме, пожалуй, указания на преждевременную смерть героя), в то время как в более ранних текстах мы сталкиваемся с иной ситуацией.
Стихотворение «Памяти Белинского» (1855) было написано в последний год «мрачного семилетия», когда о его герое «нельзя было слова пикнуть»205, - имя критика находилось под строгим запретом в связи с распространением скандального письма к Гоголю; за чтение этого письма, как мы помним, на каторгу были осуждены петрашевцы. Н. А. Некрасов, впервые публикуя текст, озаглавливает его «Памяти приятеля»206. Но несмотря на внешние обстоятельства, которые, казалось бы, должны были привести к минимизации биографического элемента в стихотворении, реальная личность адресата легко из него «вычитывается» благодаря посвященным посмертной судьбе героя строкам: «И о тебе не скажет ничего / Своим потомкам сдержанное племя… / И с каждым днем окружена тесней, / Затеряна давно твоя могила, / И память благодарная друзей / Дороги к ней не проторила» (I, 121). Слова о «затерянной могиле» могут показаться поэтическим штампом, однако и они находят соответствие в реальности: могила В. Г. Белинского на Волковом кладбище действительно была утеряна в годы, когда его имя было предано забвению, и лишь в 1856 году П. А. Ефремов разыскал ее.
Показателен следующий пример. В. П. Боткин в письме к И. С. Тургеневу от 13 марта 1855 года отметил совершенство стихотворения «Памяти приятеля», но тут же вымарал из письма свои слова - по всей видимости, хорошо понимая, о ком в этом тексте идет речь, и опасаясь перлюстрации207.
События, предшествовавшие смерти В. Н. Асенковой, нашли свое отражение в стихотворении «Памяти Асенков ой» (1855). Феноменальный успех, который она снискала у публики, повлек за собой множество неприятностей. Актрису одолевали навязчивые поклонники и соперники по сцене, распространявшие сплетни о ее вымышленных любовных похождениях, богатых покровителях, связи с императором, оплачивавшие разгромные рецензии на ее выступления, срывавшие спектакли208. В тексте Н. А. Некрасова читаем: «Лишенные надежды, / Отмстить решились клеветой / Бездушные невежды! / Переходя из уст в уста, / Коварна и бесчестна, / Крылатым змеем клевета / Носилась повсеместно — / И все заговорило вдруг… / Посыпались упреки, / Стихи и письма, и подруг / Нетонкие намеки… … Их говор лишь тогда затих, / Как смерть тебя сразила… / Ты до последних дней своих / Со сцены не сходила» (I, 147) (ср., например, замечание А. И. Вольфа в «Хронике петербургских театров»: «У нее (Асенковой) была чахотка, но она не хотела оставлять сцену, несмотря на совет докторов, и в последнее время играла через силу»209).
Смерть «моя»: лирический герой зрелой поэзии Н.А. Некрасова в аспекте
Прежде всего, из текстов исчезают всякие попытки осмыслить феномен смерти метафизически. Исключительно частотный (степень явленности — 18,1%) в ранней лирике мотив смерти как преображения/возвращения души на небесную родину/перехода в мир иной, в зрелой поэзии не встречается. Философско-религиозные аспекты смерти практически не входят в зрелую поэзию Н. А. Некрасова (в 1,4% текстов встречается лишь мотив смерть как великий уравнитель, интерпретированный, впрочем, в социальном смысле), также как и мистические аспекты смерти; так, например, количество употреблений мотива смертельных демонических сил по сравнению со сборником «Мечты и звуки» снижается с 15,9% до 1,4%, мотива загробной жизни - с 4,5% до 1,4%.
Действительности больше не противопоставляется иной мир, она ограничена собой, однако при этом устремленность к гибели остается одной из главных ее характеристик. Набор мотивов, воплощающих эту идею, однако, значительно меняется. Тафологические мотивы по-прежнему часто встречаются в текстах Н. А. Некрасова (например, мотив могилы — - 8,5%, гроба — 5,7%), но указанная идея начинает репрезентироваться по преимуществу с помощью мотивов из рубрики «Причина смерти», полностью отсутствовавшей в ранней лирике, и «Обстоятельства смерти». Так, необычайно частотен в зрелой поэзии Н. А. Некрасова мотив болезни (степень наличия - 16,6%), встречаются также мотивы убийства (4,6%) и самоубийства (2,5%), мотив ранней смерти (3,9%).
Философско-религиозные размышления о смерти сменяются изображением современной поэту гибельной социальной реальности, человеческих смертей в их социальной и бытовой конкретике. Так, например, Н. А. Некрасов становится одним из первых поэтов, попытавшихся подвергнуть художественной рефлексии проблему самоубийства, как никогда остро вставшую перед русским обществом в середине XIX века. Суицид изображается поэтом как типичное явление эпохи; в ряде текстов мотив самоубийства используется для создания исторического фона («Утро», поэма «Современники»). В других текстах данный мотив разрастается до сюжета «крепостной кончает с собой / пытается покончить с собой из-за несправедливого отношения к нему барина», облекаясь отчетливыми социально обличительными смыслами. В стихотворениях «Вино», «Эй, Иван!» и «Нравственный человек» в трактовку этого сюжета вносятся сентименталистские обертоны, в тексте «Про холопа примерного…» он интерпретируется в духе «страшной» баллады. Самоубийство героев последовательно оправдывается поэтом невыносимыми жизненными, прежде всего, социальными, обстоятельствами.
Мотив самоубийства часто сополагается с демонологическими мотивами («Вино», «Про холопа примерного…», «Выбор») в соответствии с фольклорными представлениями о суициде как следствии дьявольского наущения.
Социально-обличительная интерпретация самоубийства является не единственной в поэзии Н. А. Некрасова. В элегии «Давно, покинутый тобою…» (1855) дана романтическая трактовка этого явления: суицид в тексте представлен как итог не находящей удовлетворения любовной страсти и связан с мотивом утопления – слияния с хаотичной и разрушительной водной стихией. Сходным образом он трактован в раннем стихотворении Н. А. Некрасова «Офелия». Романтическое любовное самоубийство Офелии представляется поэту как растворение в первозданном водном хаосе.
Одной из центральных танатологических тем зрелого творчества Н. А. Некрасова становится тема смерти и памяти. Идея о преодолении смерти и представление о личностном свершении как способе иммортализации, лишь намеченные в «Мечтах и звуках», становятся необычайно актуальными для его зрелой и поздней поэзии. Свое наиболее полное воплощение они находят в некрасовских стихотворениях in memoriam.
Мемориальная лирика становится основным танатологическим жанром зрелой поэзии Н. А. Некрасова. Поэт вырабатывает особую модель изображения, включающую упоминание ряда типичных черт умершего (его верность идеалу, жизнь, проведенная в трудах, готовность бороться на убеждения и дело, преисполненность любовью к людям, трагизм судьбы и ранняя смерть и др.), не всегда имеющих основание в реальной биографии героя, и значительно поэтизированных за счет ассоциаций с романтической поэзией и включения библейских обертонов обстоятельств его смерти. Главными принципом художественного изображения смерти в текстах in memoriam становятся ее героизация и поэтизация.
In memoriam Н. А. Некрасова носят отчетливо публицистический характер; интимные, частные переживания лирического субъекта не входят в эти тексты. Эмоциональное их содержание связано не с личной скорбью об утрате конкретного человек, а с утверждением его поэтического бессмертия.
Однако тема смерти и памяти разрабатывается поэтом и в другом модусе художественности — элегическом. Элегия на смерть становится еще одним важным танатонесущим жанром в творчестве Н. А. Некрасова.
Во многом этот жанр может быть противопоставлен стихотворениям in memoriam как камерная, интимная поэзия - поэзии общественной. Элегия на смерть изображает событие смерти как значимое событие внутреннего мира элегического «Я», эмоциональное ее содержание связано с личной скорбью об умершем.
«Смерть моя» также становится объектом поэтической рефлексии Н. А. Некрасова. Образ лирического героя его зрелой поэзии отчетливо танатологичен: напряженное экзистенциальное переживание собственной смертности является одной из главных его черт, что объясняется рядом биографических обстоятельств, прежде всего, смертельной болезнью поэта.
В текстах появляются мотивы предчувствия/предсказания смерти (степень явленности 6,7%) и боязни смерти (0,7%). Если в ранней лирике Н. А. Некрасова близость смерти расценивалась как благо, то в этих текстах ситуация иная: «недуг» выключает ЛГ из мира, делая его «лишним», противопоставляя всему живому.
В стихотворениях 1876-1877-го годов появляются мотивы мучительного переживания физической боли и образы страдающего, немощного, умирающего тела.
Мотив желания смерти (4,2%) начинает интерпретироваться иначе, чем в «Мечтах и звуках»: смерть как избавление от романтического «бремени жизни» теперь представляется лирическому герою единственным способом прекратить невыносимые телесные страдания.
В заключение необходимо отметить, что многие из вопросов, затронутых в диссертации, требуют дальнейшего изучения. Для максимально объективной реконструкции и интерпретации художественного мира Н. А. Некрасова и места, которое в нем занимает смерть, необходимо привлечь к анализу тексты поэм, а также прозы поэта.
Кроме того, в качестве перспективы развития данной темы нам видятся рассмотрение танатологии Н. А. Некрасова в аспекте телесности, детальный анализ отдельных танатологических образов и мотивов (мотив болезни, образная триада смерть-холод-красота), а также рассмотрение того влияния, которое изучаемая система оказала на танатологический текст русской литературы Нового времени.