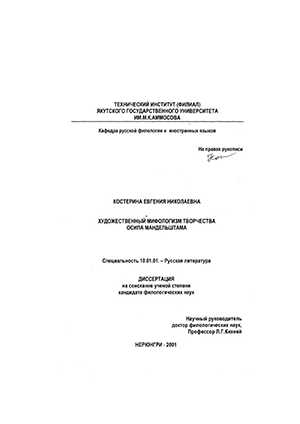Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Авторская миромодель и мифопоэтика в "Камне" (1908-1915) 30
1. Космологический и антропогонический миф в раннем творчестве Мандельштама 30
2. Мифопоэтическая концепция Творца и поэтика «Камня» 59
Глава 2. Эсхатологический миф в "Tristia" (1915-1920) 72
Глава 3. «Постэсхатологический миф в творчестве Мандельштама 1920-х- 1930-х годов» 116
1. Конец "летоисчисления нашей эры" и новая космогония 116
2. Неомифологический комплекс культурного героя в контексте тоталитарной эпохи 128
Заключение 141
Примечания 154
Литература 168
- Космологический и антропогонический миф в раннем творчестве Мандельштама
- Мифопоэтическая концепция Творца и поэтика «Камня»
- Конец "летоисчисления нашей эры" и новая космогония
- Неомифологический комплекс культурного героя в контексте тоталитарной эпохи
Космологический и антропогонический миф в раннем творчестве Мандельштама
В первую книгу "Камень" (1-е издание - в 1913 году, 2-е, расширенное, - в 1916) Мандельштам включил стихи, написанные в 1908 - 1915 годах. Однако значительная часть стихотворений, созданных до 1912 года осталась "за бортом" сборника. Это объясняется не столько несовершенством последних, сколько новыми акмеистическими установками автора. Однако, обращение ко всему корпусу стихотворений, написанных с 1908 по 1912 год, позволяет прояснить изначальную мифопоэтическую "картину мира" Осипа Мандельштама и ее последующую эволюцию.
Одной из составляющих мифопоэтической картины мира являются, как известно, космогонические мифы, которыми мифопоэтическое мышление определяет "структуру мира, то есть набор, связь и функции его частей, иногда — их количественные параметры" (Топоров, 1988. 1.2. С.6 9).
Космогонические мифы объясняют происхождение Вселенной, окружающего мира. Часто в них взаимосвязанными являются природа ("макрокосм") и человек ("микрокосм"): "человек создан из элементов мироздания, или, — наоборот, вселенная происходит из тела человека" (Топоров, 1988. Т.2. С.6-9).
Осип Мандельштам, начиная с первых стихов книги "Камень", осмысляет космогонические процессы, о чем свидетельствует оперирование такими космогоническими составляющими как "небо", "хаос", "звезды", "мировая пучина", "бездна", и в целом с понятием "мира" и т.д..
Причем, Мандельштам, размышляя над тайнами мироздания, каждую из составляющих осмысляет по-своему, творя собственную этиологическую концепцию: ср.: "И несозданный мир лелея, / Я забыл ненужное "я"..." и др.
На первый взгляд, перед нами типично символистская космогоническая модель (ср.: "Недоволен стою и тих, / Я, создатель миров моих..."). Ведь именно символисты рассматривали творчество как своего рода теургию, о чем манифестарно было заявлено, в частности, символистским мэтром Вячеславом Ивановым. Для Вяч.Иванова миф и искусство соединялись на основе религии, человеческой "общности" или "соборности", слияния творческого и духовного начала. Философские и эстетические взгляды Иванова, возможно, повлияли на формирование мандельштамовской концепции искусства как мифотворчества.
Тем более, как уже отмечено критиками {Мусатов, 1990; Кихней, 1997), формирование Мандельштама как поэта происходило под влиянием символистских концепций, в частности, Вячеслава Иванова (ср.; Мусатов, 1991. С.321-330).
Как и у символистов, в космогонической модели раннего Мандельштама явно обозначается оппозиция "верх" — "низ" как одна из важнейших координат пространственно-временного мифопоэтического континуума, сформированного еще в "докаменный" период творчества. Однако, у Мандельштама противопоставлены не только небо и земля (как это было в символистской картине мира), а есть еще третье начало - некая "нижняя бездна", о которой речь пойдет ниже.
Остановимся на семантике "неба" ранних стихов Мандельштама, в ряде случаев воплощающей (по аналогии с символистской философией) мир иной. Для символистов запредельное бытие, "небо" - безусловная ценность, земное бытие - относительная. Последнее - тленно, временно и является только слепком истинного, вечного, в конечном счете более реального бытия.
В семантическое поле "мира иного" у раннего Мандельштама, как и у символистов, входят образы со значениями "верха" (небо, эфир, звезды, высоты, облака), но "небо" чаще всего сопровождается негативно окрашенными эпитетами и сравнениями со значениями "мертвенности", "пустоты".
Трансцендентный мир сущностей оказывается в художественном мире Мандельштама бесплотным, умозрительным, абстрактным, в силу чего и ассоциируется с пустотой. Образ пустоты вбирает в себя семантику небытия и - одновременно - недосягаемости "небес", недоступности чувственному восприятию.
Но небо-небытие у раннего Мандельштама ассоциируется со смертью (ср.: "И в пустоте, как на кресте... исчезнуть в облаке Синая"). Вот почему "небо" в художественной картине мира Мандельштама относится к отрицательному регистру образов (за исключением самого последнего воронежского периода, в котором небо представлено в амбивалентных вариациях "целокупного неба" христианства и "апокалипсических небес").
Подобная эмоционально-семантическая оценка образа неба, конечно же расходится с христианской традицией. "Небо" никогда не было для Мандельштама обиталищем Бога, — отмечает Н.Я.Мандельштам, — потому что он слишком ясно ощущал его внепространственную и вневременную сущность. ... Обычно это пустые небеса, граница мира" {Мандельштам (Н.), 1987. С.42-43).
Мандельштамовские представления о "пустом" небе, не являвшемся "обиталищем Бога" (ср. с библейской традицией, в которой, как известно, небо соотносится с образом Бога; отсюда — символика облака как места, где пребывают ангелы, и т.д.), подтверждаются образом "безглагольного неба", поскольку Слово является в христианстве ипостасью Бога.
Пустота и "враждебность" неба соотносятся, скорее, с представлениями о небе в древнегреческой мифологической картине мира, отличной от христианской. Местом обитания пантеона богов была, как известно, гора Олимп, "вершина мира". Образ "неба" соотносился в большей степени с понятием стихии, первородной субстанции.
Как известно, вертикальная ось древнегреческой модели мира разделяет мир на три основных части: царство Аида, под которым простирается "бездна вихрей"; мир людей, в котором находится гора Олимп; небо — место обитания богини Ананке — "неотвратимой необходимости". Богиня Ананке — "мать мойр — вершительниц судьбы человека. Между колен Ананке вращается веретено, ось которого — мировая ось" (Лосев, 1987. Т.1. С.75).
Веретено Ананке — источник образа "веретена", столь характерного для стихов "Камня" (ср., например, строки: "Торопится, и грубо остановится, / И упадет веретено..."; "Бесшумное веретено / Отпущено моей рукою..."; "Что с дивной легкостью мы, созидая, числим / И достигает звезд полет веретена...").
Присутствие во множестве стихотворений книги "Камень" тканевых метафор, кристаллизующихся в мотив ткачества, плетения ("И небо мертвенней холста..."; "На перламутровый челнок/ Натягивая шелка нити, / О, пальцы гибкие, начните / Очаровательный урок..."; "Истончается тонкий тлен, — / Фиолетовый гобелен..."; "Бесшумное веретено отпущено моей рукою..."; "Простор, канвой окутанный..." и др.), - еще один аргумент в пользу того, что поэт воспроизводит античную модель мира. Ведь именно во множестве античных мифов упоминаются мойры Лахесис, Клото и Атропос, прядущие нить человеческой жизни и отмеряющие ее продолжительность.
Получается, что Мандельштам воспроизводит античную мифологему, несущую идею рока, судьбы, смертельной опасности, исходящей от небес. Да, небеса пусты - в восприятии человека (то есть недоступны для его органов чувств), но эта пустота, считает поэт, воплощает "гармонию высоких чисел", некие "высшие законы" бытия (см.: "В смиренномудрых высотах..." (1,270)).
Драматизм взаимоотношений человека и неба заключается, по Мандельштаму, в принципиальной несовместимости их масштабов; а так же в ощущении роковой зависимости человеческого бытия от вселенских законов, которые кладут ему смертный предел. Отсюда оценка неба как начала внечеловеческого, и связанный с этим мотив безразличия и "слепоты" небес, проходящий через все творчество поэта (за исключением "воронежских" стихов).
В модели мира поэта "небеса" являются "обиталищем" мойр и Ананке, судьбы, что маркируется рядом типологически близких образов, имеющих почти всегда "негативное" значение. Речь идет, прежде всего, о звездах, вызывающих чувство страха у лирического героя. По мнению Л.Г.Кихней, в образе "звезд" "акцентируется момент их роковой власти над индивидуальным человеческим бытием (возможно, Мандельштам обыгрывает здесь астрологические представления о влиянии звезд на человеческую судьбу) (Кихней, 1997. С. 121). Идея власти звезд над человеком воплощена в стихотворении "Я вздрагиваю от холода..." (1912).
Мифопоэтическая концепция Творца и поэтика «Камня»
Создание человека и Вселенной в христианской теологии мыслится как творческий акт, доказательство существования Бога. Бог является Творцом всего сущего. А поскольку Слово есть Бог, и Слово есть у Бога, то принципу тождественности подчиняются все вещи в мире. Они же тождественны и Слову.
В интерпретации Осипа Мандельштама силлогизм Творца и сущего имеет и обратный смысловой ход (поскольку слово "поэт" (poethos) переводится с греческого языка как "творец"): если Бог - это творец, то и художник (поэт) есть Бог. В ранних «просимволистских» стихах Мандельштама содержится множество указаний на обращение поэта к теме Творения, понимаемого именно в этом ключе (ср.: "Дано мне тело...", "Образ Твой, мучительный и зыбкий...", "Истончается тонкий тлен..." и др.). Здесь лирический герой сам выступает в роли теурга. Однако символизм, для философии и поэтики которого было характерно создание "новых миров", и образ лирического героя-теурга, вызывал у поэта внутреннюю полемику - прежде всего на аксиологическом уровне.
Лирический герой раннего Мандельштама, даже выступая в ипостаси теурга, недоволен свои творением (ср.: "Недоволен стою и тих, / Я, создатель миров моих...").
Однако на рубеже 1911 года все меняется. Выдвинем гипотезу, что смена концепции творчества Мандельштама, его переход от символизма к акмеизму связан со сменой его вероисповедания. Ведь именно в 1911г. Мандельштам был крещен в методистской церкви. Следует особо оговориться, что дело здесь не в конкретной конфессии, а в принятии христианства.
Религиозные искания продолжались в течение всей жизни поэта. Условно можно выделить следующие этапы в становлении религиозного мировоззрения поэта:
1) отрыв от иудаизма;
2) обращение к протестантской церкви. Лютеранство;
3) католичество. Рим;
4) грекоправославие, тесно переплетенное с культурой античности;
5) восприятие Мандельштамом христианства как вселенской идеи, идеи соборности.
Движение от иудейства к христианству, от Ветхого Завета - к Новому соотносится с понятием движения от "общего" к "единичному". "Единичным" является образ лирического героя, который уподобляется "плоду, сорвавшемуся с древа...", "соломинке", "тростинке", выросшей из "омута злого и вязкого...". Наиболее значимой в определении религиозного мировоззрения поэта является, на наш взгляд, книга "Камень".
Специфическое понимание поэтом сути иудейства находит свое отражение в образах "омута"; "хрупкой соломинки" или "тростинки" (получивших свое дальнейшее развитие в цикле "Тристия"); "пустоты неба"; "проклятой бездны"; "выпитого воздуха" и "отравленного хлеба", и в мотивах падения, движения вниз, тяжести, о чем в космогоническом аспекте мы писали в первом параграфе.
Итак, переход на христианские позиции повлек за собой пересмотр концепции поэта. Символистская концепция творчества оказывается несостоятельной, поскольку согласно ей поэт соревнуется с Богом в совершенстве творчества и творения.
Если до 1911 года Мандельштам ставил вопрос о соразмерности поэта Творцу (ср.: "На бледно-голубой эмали..."), где образ Творца амбивалентен (это и Создатель и художник), то после 1911 года Мандельштам склоняется к концепции творчества как подражания Богу.
Крещение в методистской церкви послужило окончательному отрыву от иудейства и обращению Мандельштама к различным направлениям христианства. Мандельштам в своих религиозно-философских поисках не ограничилвася одной конфессией, а обращался и к протестантизму, и к католичеству, и к православию.
Так. стихотворение "Лютеранин" (1912) воспроизводит протестантский религиозный обряд похорон. А стихотворение здесь стою, я не могу иначе..." (1913) посвящено самой сути лютеранских религиозных реформ.
С.С.Аверинцев отмечает: "...протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть "матовому" миру раннего Мандельштама..." (Аверинцев, 1990. С.29).
Протестантизм привлекал Мандельштама своей внешней чистотой и ясностью, ассоциативно связываясь с реформами Лютера, Петра первого, "тихим праздником" протестантских похорон ("Да мостовая праздничная глухо / Ленивые подковы отражала...").
Несколько неожиданно воспринимается финал стихотворения: "И думал я: витийствовать не надо, / Мы не пророки, даже не предтечи...". Образ поэта, возникающий в стихотворении в первой и последней строфах, подчеркивает особое восприятие Мандельштамом христианства и его течений. Поэт остается поначалу наблюдателем со стороны ("Я на прогулке похороны встретил..."), но затем появляются размышления о смысле жизни ("...витийствовать не надо...").
В этом стихотворении мы видим целую систему предметов, которые ассоциируются с изучением чего-либо ("дети", "доски вместо образов", "мел", "цифры", "черная кафедра"). Вера, религия воспринимается поэтом как некий предмет, который можно изучить и логически доказать: "Высокий спорщик, неужели, / Играя внукам свой хорал, / Опору духа в самом деле / Ты в доказательстве искал?...". Поэт тоже изучает протестантизм, католичество, православие, отделяя самое главное в каждом направлении. В протестантизме его привлекает, как уже было сказано выше, ясность, строгость и чистота, логика доказательства.
Католичество соотносится с идеей Рима - "вечного города" - папского, католического Рима. Она отражается у Мандельштама в стихотворениях так называемого "архитектурного цикла".
В то же время, греческое православие подготовило почву для утверждения Мандельштамом идеи мессианской сущности России как средоточия христианской мысли. Православие, соединенное с античностью, становится для поэта религиозным мировоззрением.
Л.Г.Кихней отмечает, что "Искусство нового времени связано, по Мандельштаму, с центральным догматом христианской церкви - "идеей искупления", но мыслится им как подражание этому "единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре". В рамках христианской эстетики мыслит он и акмеистическое творчество, поэтому все его рассуждения в этой связи можно прямо относить и к нему" (Кихней, 1997. С.121).
Но художник в процессе творчества имитирует акты Творения и Искупления. Различия между этими божественными деяниями фундаментальны. Поэтическое произведение обладает соственной субстанцией, и эта субстанция определяется харакетром словесного материала, из которого творит поэт, в отличие от божественного Творца, который созидал из "ничего". Задача художника - не придумать, а как бы вспомнить, "вытащить" из глубин сознания единственный адекватный вещи словообраз. И образ этот должен стать "камнем в соборе" стихотворения. Поэтому Мандельштаму годраздо ближе христианская концепция творчества, состоящая в уподоблении творческого акта акту Бога.
Поэт стремится в своем творчестве подражать Творцу, как бы достичь того, чего достиг Бог, создавая все сущее, — но работая с другим материалом (в данном случае — со словом), в другой сфере — искусства. Соразмеряясь же с Создателем, поэт-символист приравнивает себя Ему.
Отсюда следуют два очень важных эстетических принципа: во-первых, принцип тождества, который Мандельштам манифестировал в "Утре акмеизма", работает и на уровне сопоставления двух реальностей, реальности действительности и реальности поизведения. "Существовать, -пишет Мандельштам в "Утре акмеизма", — высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства. Зрелище математика, не задумываясь возводящего в квадрат какое-нибудь десятизначное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто мы упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно уплотненной реальности, которой оно обладает" (2, 141-142).
Конец "летоисчисления нашей эры" и новая космогония
"Стихи 1921-1925 годов" и "Новые стихи" объединяет общая мифологическая основа, которую можно охарактеризовать как "миф о конце" и "миф о начале". Совершенно очевидно, что Мандельштам в стихах 1920-х - 30-х годов завершает эсхатологическую линию, начатую в "Tristia". Однако специфика стихотворений, написанных после "Tristia", заключается в том, что в них, наряду с "мифом конца", параллельно разрабатывается "миф о начале". Этот феномен двойственности определяет и амбивалентную семантику стихотворений 1920-х - 30-х годов, которую можно охарактеризовать как проявление социокультурной и психологической двойственности. Не случайно в "Грифельной оде" поэт назовет себя "другом ночи" и одновременно "застрельщиком дня".
Жизнь ассоциируется с теплом, но жизнь убывает, тепло уходит, с этим процессом коррелирует усиление к концу цикла "Стихи 1921-1925 годов" тройного мотива холода, ночи и бездомности (ср. образы "табора улицы темной" или "чужого полустанка", с которого герой идет ночью "по пояс в тающем снегу"). Лирический герой остро чувствует убывание жизни, отождествляемой поэтом с теплом: "Я все отдам за жизнь - мне так нужна забота, - / И спичка серная меня б согреть могла" (1, 140).
В постэсхатологическом пространстве "Стихов..." на первый план выходит мотив пространственного, а главное - временного "стыка", "сдвига" (ср.: в "Грифельной оде": "Звезда с звездой - могучий стык". "Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг / Свинцовой палочкой молочной" (1, 149)). Мир теряет былую цельность, становится жестким, все хаотические формы, бывшие в расплавленном состоянии в "Tristia", как бы застывают, затвердевают.
Семантика разрыва, ломки проникает во все области природного и человеческого бытия (ср.: "паровозными свистками разорванный... воздух" (1, 139)), "Раскидать бы за стогом стог, / Шапку воздуха, что томит; / Распороть, разорвать мешок, в котором тмин зашит" (1, 143); "Ломаю ночь, горящий мел" (1, 150).
Мифологическим аналогом мифопоэтики позднего творчества Мандельштама может служить концепция канадского ученого Нортропа Фрая, изложенная в труде "Anatomy of critizism: four essays" (1957), в котором он выделяет два типа художественной образности -демоническую и апокалипсическую.
Оппозиция образов в мифоцентрических произведениях является, по Фраю, ключом для прочтения и истолкования произведений. У Мандельштама мы наблюдаем (в соответствии с ключами Н.Фрая) смешение образов апокалипсического и демонического порядка. Однако термин "апокалипсический порядок" является не совсем адекватным для описания системы образов у Мандельштама. Мы предлагаем заменить его на христианский.
Демоническое воображение полностью противоположно, по Фраю, апокалипсическому: "...небо всегда недосягаемо, "вместо единения души и тела в браке - инцест, гермафродитизм, гомосексуализм; вместо евхаристического символизма - образ людоедства..., животный мир представлен чудовищами и хищниками, растительный мир - страшным лесом, минеральный - развалинами, вода сближается с кровью, страшным морем. Огонь - с адским жаром, любовь с разрушительной плотской страстью..., вместо прямой дороги здесь лабиринт, вместо отношений дружбы и порядка, всеобщей гармонии - коллизия тирана и жертвы, элементы хаоса" (цит. по: Мелетинский, 1995. С.111).
Демонические метаморфозы начинаются в цикле "Стихи 1921-1925 годов" и продолжаются в "Московских стихах" и "Воронежских тетрадях". Их претерпевают жизненно важные субстанции - воздух, вода и кровь.
Воздух оборачивается безвоздушным пространством, "антивоздухом" в стихотворении 1921 года "Концерт на вокзале" (ср.: "Нельзя дышать, / И твердь кишит червями..."). Но уже в 30-е годы воздух становится мертвым" (ср.: "И, спотыкаясь, мертвый воздух ем..."), "дощатым" (ср.: "В дощатом воздухе мы с временем соседи...").
Если в "Tristia" вода была многозначным символом, вбирающим в себя сразу несколько сфер бытия, то в "Стихах 1921-1925 годов" и "Московских стихах" она меняет свою сущность, становится твердой, колючей. Она, как символ поэтической речи, вдохновения подменяется суррогатом (ср.: в стихотворении "Квартира" [1].
Кроме того, вода также становится кровью (ср.: "Из раковин кухонных хлещет кровь, / И пальцы женщин пахнут керосином...").
И в целом семантическое пространство стихов 1920-х - 30-х годов это пространство подмен [1], которые коснулись даже Святых таинств. Хлеб и вино как атрибуты Евхаристии подменяются "страшной требухой" (в "Египетской марке"), "ежом брюхатым" - "вместо хлеба" (в стих. "Сегодня ночью не солгу..."), "отваром из ребячьих пупков" (в "Неправде"). Православная соборность, протестантская средневековая иерархия как содружество равных в 30-е годы подменяются коллизией тирана и жертвы (см.: "Сталинский цикл"). Отношения единения в любви и браке заменяются инцестуальными. (ср.: "Вернись в смесительное лоно, / Откуда, Лия, ты пришла...").
Семантика подмены и разлома касается и такой онтологической категории, как время. Разорванным оказывается не только время эпохальное (Мандельштам осознает и поэтически осмысляет временной разрыв между умершей культурой-Эвридикой, оставшейся в царстве Аида, и культурой новой), но и время индивидуальной человеческой жизни.
Если в "Tristia" время эонично ("Есть ценностей незыблемая скала..."), и все времена - в одном, хотя и "перепутаны" (ср.:"Время вспахано плугом"), то в "Стихах 1921-1925 годов" время разорвано и умирает, приносится в жертву "новому миру" (ср.: "Снова в жертву как ягненка / Темя жизни принесли").
Мандельштам, следуя мифологической логике тождественных отношений между элементами микро- и макрокосма, о чем мы писали выше, соотносит природные процессы с процессами, происходящими в человеческом организме. Отсюда — перенос качеств, присущих организму, на качества мироздания. Время и другие "составляющие" мироздания поэтически переосмысливаются в их корреляции с органическим процессами.
Отметим, что многие исследователи оставляют без внимания тот факт, что если поначалу век предстает в трактовке Мандельштама как животное "Век мой, зверь мой..."), то затем век превращается в человека-великана, который имеет "глиняный прекрасный рот" и "два сонных яблока", — образ столь характерный для антропоморфизированной модели мира (ср.: "Кто веку поднимал болезненные веки - / Два сонных яблока больших...").
В мандельштамовской мифологической модели положение "пасынка веков" не мешает лирическому герою быть одновременно сыном века и унаследовать его «испорченную» кровь (ср.: "Известковый слой в крови больного сына / Твердеет..."). То есть умиранье века инспирирует и буквальное убывание жизни лирического героя как жизни Поэта (ср.: "...слабее жизни выдох, / Еще немного — оборвут / Простую песенку о глиняных обидах/И губы оловом зальют..." (1, 152)).
Таким образом, семантика разрыва времен воплощается не только в мотивах убывания, истаивания дряхлой культуры прошлого века, но и мотивах старения, "истаивания" человеческой жизни (ср.: "Но к млеющей руке стареющего сына / Он, умирая, припадает...", "Жизнь себя перемогает, / Понемногу тает звук"), которые нераздельно связаны с индивидуальным ощущением утекания бытия ("И меня срезает время, / Как скосило твой каблук" (1, 141), "Время срезает меня, как монету, / И мне уже не хватает себя самого" (1, 149)).
Умиранье века и убывание времени коррелирует не только с убыванием собственной жизни, но и с потерей творческого дара, потерей слова (ср.: "...слабеет жизни выдох, / Еще немного - оборвут / Простую песенку о глиняных обидах / И губы оловом зальют"(1, 152), пространства (ср.: "Мы живем, под собою не чуя страны..." (1, 197)).
Мандельштам осознает глобальность этих процессов и в поисках причинно-следственных связей обращается к истории эволюционного развития. Процесс обратной эволюции Мандельштам трактует в субстанциональном плане - как глобальное искажение мировых субстанций, лика природы (ср.: "Природа своего не узнает лица" (1, 197); "И от нас природа отступилась" (1, 186)).
Процесс отвердевания (а вследствие этого - "ломкости") природы, заданный в "Стихах 1921-1925 годов", доведен до своего логического конца в стихотворении "Ламарк" (ср.: "...природа вся в разломах... Здесь провал сильнее наших сил" (1, 186)).
Неомифологический комплекс культурного героя в контексте тоталитарной эпохи
Середина 20-х годов для Мандельштама - переломное время. Неслучайно в его творческой биографии был период пятилетнего молчания, когда поэт не написал ни одного стихотворения (1925-1930).
"Именно с наступлением новой эпохи, - пишет Б.М.Гаспаров, - к Мандельштаму вернулся поэтический голос" (Гаспаров, 1994. С. 188).
Мифопоэтический ракурс понимания сталинской эпохи как новой (при одновременной ее трактовке как "усыхающей" и "разорванной") требовало нового мифологического героя.
Оговоримся, что наряду с мифологическими проекциями героя, о которых речь пойдет ниже, в творчестве Мандельштама этих лет был герой-современник, человек "эпохи Москвошвея". Более того, мифопоэтическая основа присутствует в "Новых стихах" скорее имплицитно, чем явно: мы не наблюдаем здесь прямых отсылок, как в "Tristia", к мифологическим образам и сюжетам.
Мифологическая интенция проявилась в создании антропоморфной модели мира, одновременно перетекающей в модель нового человека, культурного героя нового времени. Эта бинарная модель вписывается в органическую концепцию мироздания и цивилизации, которую, как мы помним, разрабатывал Мандельштам, начиная с "Камня".
По мандельштамовский логике культура, чтобы выжить, должна подражать природе. Процессы, происходящие в природе — умирание, рождение, жизнь — вполне закономерные процессы, они соотносятся с органическими процессами, присущими мирозданию, постоянным переходом от хаоса к космосу, и к новому хаосу и космосу.
Постэсхатологический миф предполагает начало новой космогонии, которое коррелирует с процессом органического рождения, в том числе и ребенка. Поэтому новым героем оказывается, прежде всего, ребенок, который содержит в себе многие качества, присущие первочеловеку. С его рождением начинается мифологическое первовремя, он познает пространство в первый раз и заполняет его сообразно своему восприятию первовещами и первоявлениями.
Стихи, написанные Мандельштамом в 1921-1923 гг. (до стихотворения "Нашедший подкову", которое является, на наш взгляд, поворотным в описании процесса космогонии в этой книге), можно назвать постэсхатологическим мифом, в котором поэтом утверждаются новые основы мироздания. Поэт осторожно приступает к выбору новых соответствий между природой и культурой, уверившись, однако, окончательно в том, что мироздание (в целом) и цивилизация, и культура (в частности) подчиняются законам природы.
Изменяется сам ракурс восприятия "новой" действительности. "Узловым" стихотворением этого цикла является "Умывался ночью на дворе" (1921). "В эти 12 строчек, - пишет Н.Я.Мандельштам, - в невероятно сжатом виде вложено новое мироощущение возмужавшего человека, и в них названо то, что составляло содержание нового мироощущения: совесть, беда, холод, правдивая и страшная земля с ее суровостью, правда как основа жизни" (Мандельштам (И.), 1987. С.49-50).
В "Стихах 1921-1925 годов", — как отмечает Л.Г.Кихней, — "разворачивается процесс усыхания и отвердения мира. Стихийный разлив закончился, бытие вновь возвращается к твердым формам (отсюда образы позвоночника, хребта, хряща), но затвердевание происходит в хаотическом, спутанном состоянии (отсюда — строки "Колтуном пространства дышал..."), поэтому оно сопровождается хрупкостью, ломкостью. Качества хрупкости, ломкости в сочетании с жесткостью (затверделостью) становятся определяющими в цикле" (Кихней, 1997. С.58).
Поэт попадает на линию разлома времен и культур, и здесь очень важным представляется поиск "отправной точки", места синтеза, где соединялись бы воедино культуры и времена. В этом смысле показательно стихотворение "Грифельная ода", в котором упоминается город Села-Петра, подробную интерпретацию образа которого дают Г.Амелин и В.Мордерер (См.: Амелин, Мордерер, 2000. С. 48-51). Мандельштамовские строки: "Крутые козьи города, / Кремней могучее слоенье, / И все-таки еще гряда — / Овечьи церкви и селенья!» посвящены этому городу, который в буквальном смысле слова вырастал из горного ландшафта: "Это был один из замечательнейших городов древнего мира. Он лежал близ подошвы горы Ор, в 3-х днях пути ... от горы Синай. Над ним со всех сторон висели скалистые горы, и целые дома были высечены в скале. ... Петра стоял в замечательной естественной впадине или углублении, окруженный скалами, во множестве которых были иссечены пещеры для домов, храмов и гробниц" (Цит. по: Амелин, Мордерер, 2000. С.48-49).
В этом городе соединялись иудейская, эллинская и христианская культуры, поэтому он становится для Мандельштама локусом единства, соборности, исторического синтеза, местом "могучего стыка".
Не следует, однако, утверждать, что этот город становится отправной точкой пересоздания мира. Это — попытка Мандельштама найти такую точку. Позднее (в 30-х гг.) поэт убедится в невозможности возврата к старой культуре, невозможности исторического синтеза, потому, что "небо беременно будущим", и будущее это еще не наступило; поэт осознает, что, возможно он его и не увидит.
Особое место в поэтике "Стихов 1921-1925 гг." занимают "хлебные образы", парадигма которых включает в себя не только образы "хлебных Софий", но и генетически связанные с ними образы "соломы", "сухоньких трав" (Ср.: "Словно хлебные Софии / С херувимского стола / Круглым жаром налитые / Подымают купола..."; "Соборы вечные Софии и Петра, / Амбары воздуха и света, / Зернохранилища вселенского добра / И риги нового Завета..." , "И свое находит место / Черствый пасынок веков — / Усыхающий довесок / Прежде вынутых хлебов..."; Чтобы розовой крови связь, / Этих сухоньких трав звон, / Уворованная, нашлась, / Через век, сеновал, сон..."; "Я по лесенке приставной /Лез на всклоченный сеновал, — /Я дышал звезд млечных трухой, / Колтуном пространства дышал...").
И как внутри всякой парадигмы здесь образы с хлебной и соломенной семантикой противопоставляются. В первых воплощается идея одомашнивания мира, выраженная в "домовитой душе" хлебной опары. Во вторых отражается обратная сторона, антипод хлеба — пустая форма с выхолощенным содержанием. В ту же смысловую парадигму входит и семантика черствости, репрезентирующая процесс отверделости и усыхания времени (опять-таки через посредство хлебной символики).
Солома — пшеница, срезанная под корень, высохшая, обезвоженная органическая субстанция, в какой-то степени даже выхолощенная (солома — стебель без колоса, без зерен пшеницы).
Л.Г.Кихней указывает на статью Мандельштама, написанную в 1922 году, — "Пшеница человеческая". В этой статье Мандельштам "выстраивает своего рода метафорическую теорему, в которой отдельные люди соотносятся с "зернами в мешке", а "состояние зерна в хлебах соответствует состоянию личности в том совершенно новом и не механическом соединении, которое называется народом (2, 191). Совершенно ясно, что метафорическая антиномия зерно — хлеб семантически и функционально соответствует антиномии камень — собор" (Кихней, 2000. С. 62).
Л.Г.Кихней отмечает, что "Московский" и "воронежский" циклы "организованы на противопоставлении двух мотивов", которые выражаются в углублении деструктивной характеристики действительности, выражаемой осознанием лирического героя "своего маргинального положения "пасынка" века", с одной стороны, и, с другой стороны, в парадоксальном выводе Мандельштама о незаконности любого времени, не только времени, современного поэту (ср. "Как всякое другое, ты, время, незаконно"). "Именно поэтому, — как пишет далее Л.Кихней, — "идея одомашнивания мира принимает облик гамлетовской задачи "выправления" вывихнутого века".
Органическая концепция мира у Мандельштама воплощается и в постэсхатологическом мифе стихотворений, написанных в 1930-е годы.