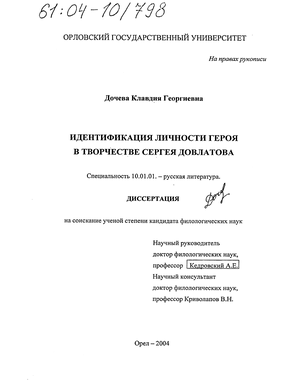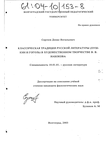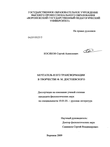Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Предыстория» художественного феномена Сергея Довлатова 22
Глава II. Своеобразие идентификационной политики героя Сергея Довлатова 98
2.1. Роль «вещи» в идентификации личности героя Сергея Довлатова 98
2.2. Семейно-родственные отношения и «дружество» как основы идентификационной практики довлатовского героя 105
2.3. Игра как идентификационная необходимость героя Сергея Довлатова 128
2.4. А.С. Пушкин - идентификационный резерв «Заповедника» 161
Заключение 175
Литература 179
- Роль «вещи» в идентификации личности героя Сергея Довлатова
- Семейно-родственные отношения и «дружество» как основы идентификационной практики довлатовского героя
- Игра как идентификационная необходимость героя Сергея Довлатова
- А.С. Пушкин - идентификационный резерв «Заповедника»
Введение к работе
Творчество Сергея Донатовича Довлатова (1941-1990) - одно из самобытных явлений русской литературы конца XX столетия.
Несмотря на то, что литературное наследие этого писателя невелико по объему - оно представлено тремя, в некоторых изданиях четырьмя томами прозы, - его писательская художественная манера отмечена особым вниманием как со стороны читательской аудитории, так и со стороны отечественной и зарубежной критики: «Ни о каком другом русском писателе довлатовского поколения не пишется сегодня столько студенческих работ и научных диссертаций — не только в России, но и в США, Канаде, Англии, Германии, Японии»1. Синтез повествования и индивидуального мифа приумножает интерес читателей к творческому феномену С. Довлатова и формирует представление о Довлатове как о фигуре знаковой.
Подтверждением популярности С. Довлатова в нашей стране и за рубежом является огромное количество критической и научной литературы, обилие мемуаров, специальных статей, рецензий, сайтов, а также заметно выросшее в последние годы количество переизданных сборников, собраний сочинений; показательна и сама реакция в современном культурном пространстве на имя ДОВЛАТОВ. Думается, что исследование творчества этого писателя будет долгое время пребывать в ранге репрезентативных тем.
Такое вполне соразмерное достоинствам писателя внимание обусловлено несколькими причинами: масштабом его художественного дарования, стилевым своеобразием произведений, оригинальностью автор-
Арьев А.Ю. // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. Итоги Первой международной конференции «Довлатовские чтения». СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 1999. С. 3.
ской позиции. Взыскательная подчиненность С. Довлатова русской литературной традиции, органичное и естественное следование ей, не воспрепятствовали тому, что довлатовская проза стала развиваться по собственным, подчас необъяснимым законам, подчиняясь особой эстетике.
Совместимость классических традиций и самобытности сформировали то «оригинальное единство, при котором писатель воспринимается как автор одного текста - «пятикнижия» - «метаромана в пяти частях»1. Созидательная авторская ориентированность на создание художественной целостности из фрагментов и частей затронула не только текстовую организацию, но и распространилась на мировоззренческие, эстетические позиции писателя, заинтересованного в восстановлении мира как целостности и реставрации личности как целостности.
Спектр исследований, посвященных творчеству Сергея Довлатова, достаточно разнообразен и широк, но еще, к сожалению, не образует полной и системной картины. Можно отметить некоторый дисбаланс: преобладают работы, характеризующие и осмысливающие новаторские черты прозы Довлатова, но в меньшей степени уделяется внимание вопросам преломления литературных традиций в художественной системе писателя.
Над исследованием жанрово-композиционных особенностей прозы С. Довлатова работали такие литературоведы как Ю. Власова, О. Вознесенская, К. Мечик-Бланк, А. Арьев, Ж. Мотыгина; Е.Курганов и др. Проблемами соотношения автора и героя, героя и повествователя занимались А. Генис, П. Вайль, В. Попов, Б. Рохлин, Н. Анастасьев, В. Курицын и др. Характер повествования описывали М. Липовецкий, Е. Янг, В. Ронкин, И. Каргашин и др. Историко-литературный аспект исследо-
Сухих И. Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту // Первое сентября. 2000. №6. С. 4.
вали И. Бродский, И. Серман, В. Нечаев, М. Зайчик, А. Мориа, И. Сухих и др. Изыскания мемуарного характера принадлежат Л. Уфлянду, Л. Штерн, А. Пекуровской, В. Соловьеву, Е. Клепиковой, А. Генису. (Мы подчеркиваем условность подобной дифференциации, поскольку в каждой из работ в тесной связи и взаимообусловленности рассматривается блок разнообразных проблем). При малом количестве объемных исследований преобладает внушительное количество публикаций в газетах и журналах, пространных отзывов, обсуждений в рамках «круглых столов», «интернетных гостиных», не претендующих на системность освоения художественного наследия писателя. Среди солидных исследований можно выделить следующие: монографию Игоря Сухих «Сергей Довла-тов: время, место, судьба»1, в которой творчество Довлатова рассматривается с учетом многих аспектов, объемно и глубоко; кандидатскую диссертацию О.А. Вознесенской «Проза Довлатова: Проблемы поэтики»2, в которой исследуется специфика поэтики Сергея Довлатова, в частности, своеобразие жанра рассказа в довлатовском творчестве. Работа Ю.Е. Власовой «Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова»3 посвящена исследованию жанровых особенностей произведений писателя, проблемам выявления художественного хронотопа. В этой работе рассматриваются вопросы соотношения автора, повествователя и героя, исследуется традиционное и новаторское в довлатовской прозе.
В кандидатской диссертации Ж.Ю. Мотыгиной «С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция, поэтика»1 в центре внимания оказываются проблемы поэтики и стиля прозы Довлатова; проведен ана-
1 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996. Вознесенская О.А. Проза Довлатова: проблемы поэтики. М„ 2000. Власова Ю.Е. Жанровое своеобразие прозы С. Довлатова. М., 2001.
лиз творческой индивидуальности прозаика, сосредоточено внимание на своеобразии писательской идейно-творческой позиции. Желая схематизировать собственное исследование, Ж.Ю. Мотыгина прибегла к употреблению моделей и схем, это придало работе структурную оригинальность и строгую системность.
Имеется ряд научных работ, исследующих языковую специфику произведений Сергея Довлатова: в частности, кандидатская диссертация В.В. Филатовой, посвященная проблемам авторизации предложения в довлатовском художественном тексте; кандидатская диссертация Буки-ревой Т.А. «Аспекты языковой игры: аномальность и парадоксальность языковой личности С. Довлатова».
Номер журнала «Звезда» (1994, №3) - один из первых специализированных «авторских» номеров — успешно перерос в солидное дополнение к трехтомнику - книгу «Малоизвестный Довлатов». С этого момента, хотя и с большим опозданием, фигура Довлатова на отечественной литературной ниве «узаконилась» всеобщим признанием.
В 1999 году фондом С. Довлатова были опубликованы материалы Первой международной конференции «Довлатовские чтения» («Городская культура Петербурга - Нью-Йорка 1970 - 1990-х годов»), где, помимо эпистолярного наследия писателя, были представлены доклады, посвященные вопросам художественной организации прозы Сергея Довлатова, воспоминания его друзей, родственников. Для нашего исследования наибольшую ценность в этом сборнике представляют статьи Бориса Рохлина «Кто отражается в зеркале» и Марка Липовецкого «...и разбитое зеркало».
Когда назрела необходимость «легитимировать» внушительную
Мотыгина Ж.Ю. С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция, поэтика: Астрахань, 2001.
часть материалов, располагающихся на сайтах в Интернете, женой писателя Еленой Довлатовой при поддержке довлатовского фонда в 2001 году была издана книга «О Довлатове» (издательство Нью-Йорк - Тверь), которая включила ряд статей из Интернета и периодических изданий.
Книгу А. Гениса «Довлатов и окрестности»1, стиль которой смоделирован «довлатовскои» нотой, критика оценивает как исследование подчеркнуто не литературоведческое, — это своеобразное авторское раздумье о Сергее Довлатове - человеке, писателе, феномене. По словам М. Липовецкого, Н. Ивановой, сама вольная структура генисовской книги сопротивляется таким понятиям, как «теоретическая модель», «эстетика». Литературоведы отмечают, что за остроумностью, изысканностью легкого эссе скрывается внушительная теоретическая база, ценная научная информация, умело камуфлируемая А. Генисом мелодией лирических отступлений, анекдотов, шуток, философией повседневности.
Значительную часть материалов о С. Довлатове составляют мемуары и воспоминания его друзей. Думается, что особым комментарием к довлатовскому творчеству стал роман «Когда случалось петь С.Д. и мне»2 первой жены Довлатова А. Пекуровской и сошедшиеся под одной обложкой повести И. Клепиковой «Трижды начинающий писатель» и В. Соловьева «Довлатов на автоответчике»3. Обсуждение оригинальности этих книг невозможно без актуализации ряда их противоречий. Одним из таких противоречий стало созидание писателями свидетельств личного соприсутствия С. Довлатову и вместе с тем целенаправленное разрушение его репутации.
Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 1999.
2 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне (Сергей Довлатов глазами первой
жены). СПб.: Symposium, 2001.
3 Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами: Трагедия веселого человека.
М.: Коллекция «Совершено секретно», 2001.
Когда «главный литератор» книг Довлатова оказался вне досягаемости, а его окружение уже впало в болезненную зависимость находить свое постоянное отражение в литературе, писателя поместили в ореол догадок, сплетен, упреков, зачастую обеспеченных качеством «мелкой» памяти, и рядом с его именем вписали собственные имена.
В блоке анализируемой литературы считаем необходимым подробнее остановиться на «Эпистолярном романе» Сергея Довлатова — Игоря Ефимова1. Книга нашла горячий отклик у читающей публики. С ее публикацией в издательстве «Захаров» на страницах литературных журналов, аренах «дискуссионных клубов», в Интернете развернулось динамичное озвучивание мнений по поводу личности Довлатова: кто он: «...ни за что обидевший лучших деятелей литературы XX века. Алкоголик, замучивший семью и алкоголем погубленный. Предатель интересов дружбы и любви» или же «...негодяй, который считается одним из самых ярких (и любимых читателем) прозаиков конца века»3?
Обратившихся к переписке тревожит характер психологического режима, установленный между адресатом и адресантом (С. Довлатовым и И. Ефимовым), а именно их противоречивые иерархические позиции. И. Ефимов - с главенствующей, распорядительской, учительствующей и откровенно прагматической «эпистолярной позицией», заведомо ориентированный на то, что эти письма должны стать литературным дос-тоянием: «Сережа, я люблю Ваши письма и храню их для потомства...»4.
Сергей Довлатов - Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. М.: Захаров, 2001.
Иванова Наталья Чужие письма читать не рекомендуется // Знамя. 2001. №5. С. 214.
3 Там же.
4 Сергей Довлатов - Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. М.: Захаров, 2001. С. 63.
Довлатов - неизменный, ясный, страдающий и правдивый.
Авторская претензия Игоря Ефимова на обладание «материалами», «продуктом» (если таким образом можно обозначить переписку двух друзей-недругов) слишком серьезна. Зная, что в письмах с наибольшей динамикой отражается опыт самоанализа и самонаблюдения, наиболее упорядоченно (вопрос — ответ) проявляется авторефлексия, Игорь Ефимов проводит над С. Довлатовым своеобразный психологический эксперимент.
Задавая определенный эмоционально-психологический режим и направляя переписку в нужные, любопытные для общественного мнения и для собственного интереса русла, Ефимов словно бы провоцирует у Довлатова реакцию покаяния-самооправдания. Предъявляя «обидчику» обвинения, И. Ефимов выступает в роли своеобразного истца — праведного судии. Намерение устыдить (вывести собеседника из «бесстрастного» состояния) - экстремальная мера, предполагающая в качестве ожидаемого результата покаяние, самораскрытие, употребляемое в качестве безусловного образца для обнаружения скрытых механизмов довлатов-ского художественного творчества, в идеале -для собственного образца: « ...потому что у меня в душе нет - признаю это с завистью и некоторым почтением - таких бурных страстей, и мне приходится подолгу высматривать и выведывать их в других людях»1.
Осознавая разницу между «рабочим» «умеренным» психологическим надрывом и реальным душевным волнением, усомнившись в искренности «авторского» исповедального чувства, Ефимов испытывает диапазон эмоционально-душевных возможностей Довлатова как писателя и человека: «Всю жизнь Вы использовали литературу как ширму, как
Сергей Довлатов - Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. М.: Захаров, 2001. С, 424.
способ казаться. Вы преуспели в этом...» ; «Перечтите "Записки из подполья». Перечтите "Падение" Камю. Перечтите Толстого, Руссо, Блаженного Августина. Не для того, чтобы научиться у них каяться (в этом нет никакой нужды). А для того, чтобы дать душе некую раскачку...» . В ответ на ефимовскую притязательную заявку в письме от 19 января 1989 года Довлатов пишет, что перестал верить в способность человека объективно судить о себе самом, и потому не знает, каков он сам. Правдивую повесть о себе написать не в состоянии, писать психологическую драму о собственном внутреннем мире никогда не будет, поскольку все доверительные лирические признания и сомнения уже есть в его книгах.
Мы не случайно прибегли к столь подробному анализу данного романа. До Игоря Ефимова в литературе практически никто так серьезно и глубоко не воспринимал проблему довлатовского творчества, никто не пытался довести «разбор» феномена Довлатова до уровня молекулярного, формульного - обнаружить ядро, соль, закваску, зазор между подлинным, глубинно лирическим и «балагурно-упрощенным».
Актуальность работы предопределена фактической неисследо-ванностью истоков катастрофического мироощущения довлатовского героя со всеми вытекающими отсюда последствиями: глобальным пересмотром ценностных ориентиров, своеобразной идентификационной практикой, осуществляемой с опорой на подчеркнуто негероический поведенческий опыт. Актуализация нового жанрового контекста (Довлатов - лирическая проза конца 1950 - 1980 - х гг.) позволяет выявить те жан-рово-стилевые и композиционные особенности довлатовской прозы, которые никогда бы не были обнаружены вне проекции на соответствующий литературный ряд С. Довлатов — О. Берггольц, В. Солоухин, В. Ка-
Сергей Довлатов - Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. М.: Захаров, 2001. С. 432. 2 Там же. С. 422.
таев, Ю. Нагибин). Не случайно в поиске кардинальных сходств в диапазоне от «Довлатов и ряд русской классической литературы (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов, Зощенко, Платонов)» - до «Довлатов и нью-йоркская школа (Хемингуэй, Сэлинджер, Апдайк, Рот, Беллоу)» зоркий критический взгляд Марка Липовецкого приковывает «исповедальная проза» 1960-х годов: «В этом смысле Довлатов, начинавший писать на исходе 1960-х, не продолжает, а отталкивается от «исповедальной прозы» оттепели. В этой прозе герой был литературной тенью своего поколения, его полномочным представителем»1.
В исследовании Ж.Ю. Мотыгиной также приводится целый ряд свидетельств о намеренно подавляемых писателем сентиментально-романтических элементах, имеющих близкородственное отношение к лирической прозе начала 1960-х годов и вышедших наружу лишь на последнем этапе довлатовского творчества в форме ретроспективных повествований о любви («Филиал»). Рассматривая творчество писателей, относящихся к представителям лирического направления прозы 1960 - 80-х годов, в едином контексте с прозой Сергея Довлатова, мы извлекаем и учитываем только те критерии и параметры, которые удостоверяют типологическое сходство метапрозы Довлатова с лирической прозой 1960 - 80-х годов. Однако утверждение, что Сергей Довлатов «вырастает» из традиционной лирической прозы 1960-х годов, не означает, что речь будет идти лишь о некотором типологическом сходстве (сородственность абсолютно не обусловлена сознательной ориентацией Довлатова на рассмотренную творческую манеру). Сравнение подобного плана призвано подтвердить основательность произошедших в литературе перемен (демократизации литературного процесса в целом) и раскрыть внутренний
Липовецкий М. «И разбитое зеркало...» Переписывание автобиографии у С. Довлатова // L - критика. Ежегодник академии русской словесности.- М.: АРСС, 2000. С. 181-196.
потенциал прозы Довлатова, формирующейся в ходе сложных жанрово-стилевых исканий в рамках новой эстетической парадигмы; помочь выявить своеобразие авторской позиции и позиции автобиографического героя Довлатова.
Привлекая в исследование в качестве ведущего многозначный и не вполне литературоведческий термин идентификация и используя его применительно к творчеству Сергея Довлатова, мы, возможно, поступаем рискованно. Истоки употребления понятия идентификация применительно к творческому феномену Сергея Довлатова можно объяснить своеобразием рассматриваемых проблем, для решения которых потребуется терминологическая конкретность. Осмысливая термин идентификация в качестве ведущего, представим ряд вариантов из академических научных источников, дающих определение понятия идентификация. Термин идентификация широко распространен во многих областях научных знаний: в литературоведении, в психологии, этнологии, криминалистике, культурологии, философии и других науках. В литературоведении значение данного термина дифференцировано на уровне анализа взаимоотношений между читателем и литературным персонажем: «самоотождествление читателя с литературными персонажами»1 расценивается как нормосозидательный процесс, продиктованный прежде всего психологическими потребностями читателя в усвоении чужого опыта.
Л.Я. Гинзбург в работе «О литературном герое» говорит о литературе, которая веками решала проблемы идентификации героя тем, что его «не выдумывали, а брали, заимствовали из разных источников - исторических или фантастических, или исторических и фантастических
Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины: Энциклопедический справочник. М., 1996. С. 45 -46.
одновременно» . По словам исследователя, сам «...литературный герой ориентирован на те или иные представления, уже существующие в соз-нании читателя» . В данном случае идентификация - это адекватный выбор героя для литературы согласно исторической, культурной и бытующей в общественном сознании потребности. Сравним определения, данные идентификации в различных словарях. Так, «Психологический словарь» трактует понятие идентификация следующим образом: идентификация — отождествление:
в психологии познавательных процессов идентификация — узнавание, установление тождественности какого-либо объекта;
в психоаналитике — процесс, в результате которого индивид бессознательно или частично бессознательно, благодаря эмоциональным связям ведет себя (или воображает себя ведущим) так, как если бы был тем человеком, с которым данная связь существует;
в социальной психологии — отождествление себя с другим человеком, непосредственное переживание субъектом той или иной степени тождественности с объектом 3.
Идентификация - отождествление людьми друг друга и себя с определенной культурной категорией (личностными чертами, групповыми нормами, ценностями)4.
Идентификация (от ср.-век. лат. identifico - отождествляю). Отождествление, признание тождественности, отождествление объектов, опознание;
1 Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Советский писатель, 1979. С. 85 - 86.
2 Там же.
3 Психологический словарь // Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова.
М.: Педагогика, 1983. С. 122.
Хоруженко К.М. Культурология: Энциклопедический словарь. Ростов-н/Д.: Феникс, 1997. С. 161.
в криминалистике - установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков (например, идентификация личности по почерку, по следам рук и т. п.);
в психологии и социологии - процесс эмоционального и иного самоотождествления личности с другим человеком, группой, образцом;
в технике, математике — установление соответствия распознаваемого предмета своему образу (знаку)1, уподобление, опознание объектов, личностей в процессе сравнения, сопоставления. В психологии и социологии этот термин применяется для классификации, анализа знаковых систем, распознавания образов, а также обозначает самоотождествление личности с другим человеком, социальной группой или образцом.
Наиболее адекватным в контексте нашего исследования следует воспринимать психологическое определение данного понятия, рассматривающее идентификационную политику героев как защитный механизм. Мы принимаем за основу толкование термина в «Кратком психо-логическом словаре» , в котором понятие идентификация рассматривается как механизм актуально психологический: существующий в специфике выполнения (исполнения) защитной функции, в особенности при сочетании с другими защитно-адаптивными механизмами.
Впервые в психологии понятие идентификация было дифференцировано в работах Зигмунда Фрейда, в частности, в его «Психологии
1 СЭС. М: Советская энциклопедия, 1981. С. 481.
Краткий психологический словарь. / Под ред. А.В. Петровского М.Г. Ярошенко. М., 1985. С.109.
т і
масс и анализе человеческого "Я"» . В системе защитных механизмов, классифицируемых по критерию направленности против фрустраторов (внешних и внутренних), рассматриваются следующие механизмы: бегство (уход) от ситуации; отрицание; идентификация; ограничение "Я"; фантазия и др.
Важнейшим шагом для того, чтобы личность смогла ощущать себя репрезентантом этнической группы также является процедура идентификации. Выведением термина на данный научный уровень мы обязаны В. Тернеру, Э. Эриксону, их трудам по теории идентичности и проблемам этничности. Актуальной для нашего исследования является идентичность в культурологическом осмыслении - в качестве процесса эмоционального и социального самоотношения индивида с другим человеком, группой, образцом или идеалом, в результате которого формиру-ется идентификация личности .
Обращаясь к понятию «идентификация», мы предпринимаем попытку сложить о герое Довлатова представление, как
о личности маргинальной, испытывающей неудобства в мире абсурда и хаоса;
личности, не дающей законченной оценки всем возникшим в результате идентификационной практики тождествам, парам, сочетаниям, сторонящейся диктата, дидактики, убеждения, могущего быть абсолютным и непогрешимым. Довлатов неоднократно «перекраивает» собственную биографию, и в этом состоит оригинальность его жизненной позиции, нацеленной на защиту от привнесения в мир однозначного суждения о человеке и действительности. Его текст ведет себя так же:
Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции Зигмунда Фрейда. М.: Азбука-классика, 2003.
2 Культурология. XX век: Словарь. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 136.
«фактически теряет линейность. Он превращается в набор возможных вариантов развития»1.
Динамичная игра писателя со своей судьбой (игра с текстом, с читателем, с персонажами, языковая игра) выступает как стратегическая программа, не дозволяющая воспринимать судьбу как строго предназначенную стезю.
Важной стилевой тенденцией в этот период (в меньшей степени в литературе последующего десятилетия) становится авторская потребность (и думается, что она пробуждена не только социально-идеологическими причинами) воспроизведения образа эпохи в максимально независимой от соцреалистического канона форме; возможность воспринять эпоху в качестве источника «готовых» сюжетов и героев; предоставление в творческую мастерскую собственной жизни в качестве содержательного и структурного материала, а художественного творчества как «терапевтической» поддержки автора в акте духовной самостабилизации.
Мы стремимся структурировать идентификационную практику довлатовских героев, отмечая узловые точки соприкосновения лирической прозы и прозы Сергея Довлатова, выявляя те самостоятельные составляющие, из которых она складывается в прозе последнего. Ценность идентификационной практики у героев Довлатова определяется, по нашему мнению, преимущественно двумя факторами: неизменным проецированием довлатовским героем на себя подчеркнуто сниженных человеческих качеств и регулярной его включенностью в состояние игры или контригры, высвечивающих нравственную состоятельность играющего
1 Размышления Лотмана Ю.М. о «Бесах» Ф.М. Достоевского могут в данном случае послужить прямой аналогией к творчеству Сергея Довлатова // Лотман Ю.М. Текст в процессе движения: автор - аудитория, замысел - текст / Ю.М. Лотман Семиосфе-ра. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки (1968-1992). СПб., 2000. С.214-215.
Так как игровая ситуация упраздняет всякое притязание на овладение истиной и позволяет формировать невозмутимое отношение к миру как данности зыбкой, модифицирующейся, немотивированной (где нет границ между верхом и низом, вечным и сиюминутным, бытием и небытием - идеи М. Бахтина, Й. Хейзинги, Е. Финка, Г. Гессе, М. Липовецкого), довлатовский герой осознанно отдает предпочтение игровой идентификации с целью гармонизации действительности. В нашем исследовании мы используем теоретические работы по семиотике Ю.М. Лотмана, труды М.М. Бахтина о народной карнавальной культуре Средневековья и Ренессанса и об особенностях диалогизированной структуры.
Обретение цельности, разработка «возрожденческой» программы по реконструкции распадающегося мира, поиск «связи сущего» во имя изживания хаоса и достижения цельности, гармонии в мире - ревностные идеи XX века. Идея индивидуализма особым образом была отреф-лектирована литературным поколением 1960-х годов и воспринята им как программная. В качестве предпосылок нестабильности, зыбкости мироощущения героев прозы 1960-х - 80-х годов мы пытаемся вскрыть социальные, культурные и религиозные особенности этой эпохи.
В докладе «Кто отражается в зеркале», прозвучавшем на первой международной конференции «Довлатовские чтения», Борис Рохлин отмечает немаловажную особенность в обращении автора со своими героями. С одной стороны, это целенаправленная установка на «одновременность расстояния», с другой - «взаимопроникаемость»1: окружение -зеркало, в котором автор пытается отобразить себя и найти с окружающим устойчивые, а иногда мнимые черты сходства, подобия, общности, родства: «Словно бы автор отразился во множестве зеркал, но в каждом
1 Рохлин Б. Кто отражается в зеркале // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. Итоги Первой международной конференции «Довлатовские чтения». СПб.: Изд-во журнал «Звезда», 1999. С. 165.
по-разному — другое лицо - другая история, - оставаясь при этом в каждом из персонажей (курсив мой - Д. К.), никуда не уходя, пребывая на сцене»1. Установление диалога с Другим, налаживание и устроение душевной связи, идентификация с окружающими мыслятся довлатовскому герою как спасительные мероприятия. «Именно диалогическое сопряжение своего личного хаоса с хаосом Другого порождает парадоксальное ощущение соответствий логики, не отменяющей, однако, абсурдности каждой отдельной жизни. Лишь при условии обращенности и открытости к диалогу с Другим фантики и осколки жизни могут сложиться <...> в линии судьбы. Своей собственной судьбы - вот что главное» .
Отражаясь и изучая собственное отражение в Других, герой С. Довлатова получает возможность осмыслить и оправдать окружающий мир, утвердив на основе установленного «идентифицирующего сходства» собственный автопортрет. Источником (компонентом) его восстановительного конструирования становятся неидеальные (неэталонные) структуры: «...Иного принципа отношений между людьми, чем принцип равенства, он не признавал. Но понимал: равными должны быть люди разные, а не одинаковые»3. По словам В. Куллэ, за этим стоит не только личностное целомудрие, не только заслуживающее уважения достоинство художника, но и осознанная эстетическая позиция: «Довлатов, в сущности, не описывает людей как таковых. Он примеряет их на себя. Как маски. Феноменальная зоркость автора служит единственной цели:
Рохлин Б. Кто отражается в зеркале // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. Итоги Первой международной конференции «Довлатовские чтения». СПб.: Изд-во журнал «Звезда», 1999. С. 164.
2 Липовецкий М., Лейдерман Н. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реа
лизме // Новый мир. 1993. №7. С. 243.
3 Арьев А. Наша маленькая жизнь // Сергей Довлатов Собрание сочинений: В 3 т.
Т.1. СПб.: Лимбус - Пресс. С. 13.
обнаружить в человеке крупицу человеческого, которая позволяет автору лишний раз убедиться в собственной человечности»1.
Предметом исследования становится художественный опыт Сергея Довлатова как противоречивое единство традиционных и новых взглядов на проблему самореконструкции.
Объектом исследования избраны такие произведения С. Довлатова как «Зона», «Компромисс», «Заповедник», «Ремесло», «Филиал», «Иностранка».
Цель исследования: раскрыть природу, назначение и эстетическую ценность идентификационной практики для героев лирической прозы 1960 - 80-х годов, определить степень соответствия творчества Сергея Довлатова обозначенному контексту.
Поставленная цель достигается в решении ряда взаимосвязанных задач исследования:
- установить степень принадлежности феномена С. Довлатова ло
гике событий, происходящих в прозе конца 1950-х годов;
исследовать характер эволюционных изменений в лирической прозе 1960-х - 80-х г., объяснить самобытность ее героя характером его идентификационной активности;
рассмотреть особенности идентификационной практики героев С. Довлатова в плане ее оформления: в мимесисе (подражании), в игре, посредством реконструкции кровно-родственных, генетических связей, через вещь, имеющую знаковый характер т.д.;
установить значение в идентификационной практике ведущих мотивов: солидарности, сопричастности, ответственности, вины-беды. Поставленные задачи определяют методологию исследования.
Для решения поставленных задач нами применяются традиционные для современного литературоведения методы: сравнительно-исторический, типологический, историко-литературный, целостного анализа текста, ис-
1 Куллэ В. Бессмертный вариант простого человека // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. Итоги Первой международной конференции «Довлатовские чтения». СПб.: Изд-во журнал «Звезда», 1999. С. 238.
пользован прием «медленного прочтения». Теоретической основой исследования стали труды М. Бахтина об игровом и карнавальном мироощущении личности, о соотношении позиции автора и героя; работы по семиотике Ю. Лотмана; исследования Л. Гинзбург о герое и психологической прозе; работы Ю.Тынянова; М. Ямпольского о культурологическом предназначении мимесиса; М. Липовецкого, М. Эпштейна, И. Ильина о постмо-дернистическом освоении хаоса, а также работы других теоретиков литературы и философии. Разработанные ими положения и концепции легли в основание изучения художественной системы С. Довлатова и позволили нам выявить некоторые общие закономерности современного литературного процесса.
Научная новизна исследования: работа предполагает расширение и углубление сведений об одном из крупнейших писателей конца XX века С.Д. Довлатове, а также выход на уровень обобщений, не имеющих широкого распространения в критической литературе по творчеству писателя. Не утверждая, что отечественная лирическая проза 1960-х и более поздних годов оказала прямое влияние на становление Довлатова как писателя (отмеченная сородственность абсолютно не обусловлена сознательной ориентацией Довлатова на рассмотренную творческую манеру) обнаруживается прочная связь между лирической прозой конца 1950-х - 80-х годов и мета-прозой С. Довлатова. Лирическая проза оценивается как близкий прозаику контекст, подспудно сообщающий довлатовской художественной манере характерную интонацию и своеобразное развитие. Включение творчества писателя в режим разговора о лирической прозе представляется новизной; до настоящего времени критикой, к сожалению, не был предложен единый контекст, который позволял бы смело сопоставлять столь самобытные и разные произведения. Однако можно обнаружить целый спектр условий для их сопряжения и сопоставления в едином смысловом поле.
Не подвергая сомнению активного влияния на становление творческого феномена С. Довлатова американской традиции, проза Довлатова
рассматривается как развивающаяся под эгидой отечественного влияния. Мы определяем автобиографического героя Довлатова как личность, осознающую и испытывающую на себе дискретность мира, фрагментарность, разъятость — т.е. маргинальную личность, стремящуюся восполнить себя в активной проекции на многообразное окружение, на основе манифестируемого сходства оправдать и «оцелесообразить» мир.
На защиту выносятся следующие положения.
Художественная система Сергея Довлатова сформировалась в русле новой эстетической парадигмы и обнаруживает серьезное типологическое сходство с лирической прозой по целому ряду параметров.
Нетрадиционная для лирической прозы рефлексия по поводу создаваемого текста — момент, отделяющий творчество Довлатова от традиционной лирической прозы и сближающий его с метапрозой.
Компонентом восстановительного реконструирования довлатов-ского героя становятся неидеальные (неэталонные) структуры: уродливая, иррациональная, неисправимая, но реальная натура, которая приобретает статус достойной подражания.
На принципе равенства, тождества между автобиографическим героем и людьми «неэталонного» типа (адмиративный тип идентификации -Ю. Борев) зиждется довлатовское понимание мира. Судить себя, а не другого, установив предельно заниженный уровень самооценки (мотив беды), вписаться в несовершенство мира, являя собой неотъемлемую его часть, конгломерат грехов и пороков, обрести утраченную целостность. Вина у Довлатова — это не только внутреннее недовольство собой, но и декларация несовершенства мира в целом.
Следуя концепции М.М. Бахтина, согласно которой вещи и идеи объединены фальшивыми иерархическими отношениями (компромисс,
язык, обман - доказательство фиктивной связи), смеем утверждать, что в основе идентификационной практики героя Сергея Довлатова лежит идея возобновления тождества, равноправия и установления диалога между людьми. Через обращение к бытийным феноменам - абсурду, игре, карнавалу - в поиске подлинной и бескомпромиссной жизни герой Довлатова формирует свою идентификационную мобильность.
Практическая значимость исследования. Материалы, обобщения, выводы могут применяться в ходе дальнейшего изучения творчества С.Д. Довлатова: при чтении курсов по русской литературе XX века, спецкурсов, проведении семинаров по истории современной русской литературы как в вузах, так и в школах.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры литературы Курского госуниверситета, на Международной научной конференции «Национальные картины мира: язык, литература, культура, образование» (Воронеж - Курск, 2003), нашли отражение в пяти научных публикациях.
Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка, насчитывающего более 250 наименований.
Роль «вещи» в идентификации личности героя Сергея Довлатова
Искренность и простота, преобладающие над символическим мышлением, - черты прозы Сергея Довлатова. «Вещь» в его прозе не обладает теми символическими назначениями, которые, к примеру, из собственных постмодернистических убеждений и склонностей предписывает ей Вяч. Курицын, уверяя, что основной массив довлатовского письма буквально «запаралелливается» на приеме перечня — каталога, тяготея к фикции порядка. Бесспорно, в довлатовской прозе имеет место множество проявлений постмодернистической поэтики, однако автором в качестве ведущих мотивов в презентации «вещи» используются не только кодирование, «прием перечня», «реестра», «каталога»2, позволяющие представить официальную советскую культуру и быт как объект деконструкции, но «вещь» как позитивное назначение в установлении подлинного диалога-контакта между людьми, поиске родства, равенства, созидании памяти, вещь как идентификационная предпосылка. Отметим одну важную особенность эстетики Довлатова: суженное, материально-утилитарное отношение к «вещи» трансформируется у довлатовского героя в особый тип образности: «вещь» воспринимается им как благостное и ценное, но не с точки зрения ее буквальной ценности (консюмерический подход, диктуемый философией повседневности: «Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять темно-серых костюмов» (2, 253)), а с точки зрения ценности идентификационной (субъективной). И это для не в полной мере индивидуализированного сознания - достойный выход.
«Вышедший из моды двубортный костюм с широкими лацканами на брюках. Поплиновая рубашка цвета увядшей настурции. Полуботинки корабельной формы. Вельветовая куртка, сохраняющая запах чужого табака. Зимняя шапка из фальшивого котика. Креповые носки с электрическим блеском» — это не только атрибуты быта целой цивилизации,
«советское тряпье», «вещи» с «барахолки истории», но, как это характерно для довлатовской эстетики, — «вещи» не для одного, но для многих. «Все проявления материально-телесной жизни и все вещи отнесены здесь ... не к единичной биологической особи и не к частному и эгоистическому, «экономическому» человеку, - но как бы к народному, коллективному, родовому телу»1. Вещь исполняет посредствующую функцию, координируя и сближая ее обладателей. Вещи «с чужого плеча» — воплощение общего пережитого в предельно частном опыте и лирическом воспоминании.
Довлатов пишет книгу «о личностных смыслах вещей»2, используя «вещь» в качестве посыла вскрыть заблокированные зоны собственной памяти и памяти своего поколения, одновременно с этим представляет воспоминания в строго дозированном, упорядоченном варианте, находящем естественное подкрепление в структурно-композиционном оформлении повести («Чемодан»). Мы используем термин, введенный американской исследовательницей Элисон Ланд-сберг, «протезированная память» с целью осмысления «вещи» в довлатовской прозе как «протеза» для человеческих воспоминаний, «связующего звена» между героями, гаранта гармонизации отношений и мира, поскольку, по Довлатову, именно вещь предоставляет содержательный набор свидетельств, доказывающих сородственность и тождественность людей в мире. В прозе писателя открыто манифестируются черты подобия советского бытового общежития: сходность жилищных условий: мебели, одежды (прозрачная аналогия с «Иронией судьбы, или С легким паром» - кинокартиной, обыгрывающей комическую ситуацию, возникшую на базе неразличения (тиражированности) вещного мира: одинаковый адрес, одинаковые ключи, неразнообразная мебель)). Не случайно известный американский прозаик Джозеф Хеллер отозвался о Довлатове так: читая его, чувствуешь, «что каждая жизнь уникальна, но в каждой есть что-то близкое нам всем»1.
Точно «такие же» джинсы (спектакль «Колокол» по Хемингуэю («Компромисс»): «Спектакль ужасный, помесь «Великолепной семерки» с «Молодой гвардией». Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, не нем были польские джинсы. В точности как у меня» (1, 188). Точно «такие же» трусы («Компромисс»); «такая же» шапка (история с братом), одинаковые носки (партии в магазинах) («Чемодан»), сетование жены Головкера Лизы на то, что «все мы здесь безразмерные» («Встретились, поговорили»); схожие книги на полках, «те же» кумиры и портреты вождей в рамках, предсказуемость интерьера - на всех этих приметах повсеместной стандартизации, повторяемости зиждется довлатовская логика мира. В повторяемости оправдывается и утверждается довлатовский герой. «Тиражированность», «повторяемость выступают важной характеризующей довлатовской прозы: это отражается и на композиционной организации текстов (практически все рассказы строятся из структурно однотипных эпизодов), и в поэтике: Довлатову присущи сюжетные и структурные повторы: писатель часто повторяет «сам себя, по два, три, а то и по четыре раза пересказывая одни и те же истории, анекдоты, сцены2.
Семейно-родственные отношения и «дружество» как основы идентификационной практики довлатовского героя
Искренность и простота, преобладающие над символическим мышлением, - черты прозы Сергея Довлатова. «Вещь» в его прозе не обладает теми символическими назначениями, которые, к примеру, из собственных постмодернистических убеждений и склонностей предписывает ей Вяч. Курицын, уверяя, что основной массив довлатовского письма буквально «запаралелливается» на приеме перечня — каталога, тяготея к фикции порядка. Бесспорно, в довлатовской прозе имеет место множество проявлений постмодернистической поэтики, однако автором в качестве ведущих мотивов в презентации «вещи» используются не только кодирование, «прием перечня», «реестра», «каталога»2, позволяющие представить официальную советскую культуру и быт как объект деконструкции, но «вещь» как позитивное назначение в установлении подлинного диалога-контакта между людьми, поиске родства, равенства, созидании памяти, вещь как идентификационная предпосылка. Отметим одну важную особенность эстетики Довлатова: суженное, материально-утилитарное отношение к «вещи» трансформируется у довлатовского героя в особый тип образности: «вещь» воспринимается им как благостное и ценное, но не с точки зрения ее буквальной ценности (консюмерический подход, диктуемый философией повседневности: «Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять темно-серых костюмов» (2, 253)), а с точки зрения ценности идентификационной (субъективной). И это для не в полной мере индивидуализированного сознания - достойный выход.
«Вышедший из моды двубортный костюм с широкими лацканами на брюках. Поплиновая рубашка цвета увядшей настурции. Полуботинки корабельной формы. Вельветовая куртка, сохраняющая запах чужого табака. Зимняя шапка из фальшивого котика. Креповые носки с электрическим блеском» — это не только атрибуты быта целой цивилизации, «советское тряпье», «вещи» с «барахолки истории», но, как это характерно для довлатовской эстетики, — «вещи» не для одного, но для многих. «Все проявления материально-телесной жизни и все вещи отнесены здесь ... не к единичной биологической особи и не к частному и эгоистическому, «экономическому» человеку, - но как бы к народному, коллективному, родовому телу»1. Вещь исполняет посредствующую функцию, координируя и сближая ее обладателей. Вещи «с чужого плеча» — воплощение общего пережитого в предельно частном опыте и лирическом воспоминании.
Довлатов пишет книгу «о личностных смыслах вещей»2, используя «вещь» в качестве посыла вскрыть заблокированные зоны собственной памяти и памяти своего поколения, одновременно с этим представляет воспоминания в строго дозированном, упорядоченном варианте, находящем естественное подкрепление в структурно-композиционном оформлении повести («Чемодан»). Мы используем термин, введенный американской исследовательницей Элисон Ланд-сберг, «протезированная память» с целью осмысления «вещи» в довлатовской прозе как «протеза» для человеческих воспоминаний, «связующего звена» между героями, гаранта гармонизации отношений и мира, поскольку, по Довлатову, именно вещь предоставляет содержательный набор свидетельств, доказывающих сородственность и тождественность людей в мире. В прозе писателя открыто манифестируются черты подобия советского бытового общежития: сходность жилищных условий: мебели, одежды (прозрачная аналогия с «Иронией судьбы, или С легким паром» - кинокартиной, обыгрывающей комическую ситуацию, возникшую на базе неразличения (тиражированности) вещного мира: одинаковый адрес, одинаковые ключи, неразнообразная мебель)). Не случайно известный американский прозаик Джозеф Хеллер отозвался о Довлатове так: читая его, чувствуешь, «что каждая жизнь уникальна, но в каждой есть что-то близкое нам всем»1.
Точно «такие же» джинсы (спектакль «Колокол» по Хемингуэю («Компромисс»): «Спектакль ужасный, помесь «Великолепной семерки» с «Молодой гвардией». Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, не нем были польские джинсы. В точности как у меня» (1, 188). Точно «такие же» трусы («Компромисс»); «такая же» шапка (история с братом), одинаковые носки (партии в магазинах) («Чемодан»), сетование жены Головкера Лизы на то, что «все мы здесь безразмерные» («Встретились, поговорили»); схожие книги на полках, «те же» кумиры и портреты вождей в рамках, предсказуемость интерьера - на всех этих приметах повсеместной стандартизации, повторяемости зиждется довлатовская логика мира. В повторяемости оправдывается и утверждается довлатовский герой. «Тиражированность», «повторяемость выступают важной характеризующей довлатовской прозы: это отражается и на композиционной организации текстов (практически все рассказы строятся из структурно однотипных эпизодов), и в поэтике: Довлатову присущи сюжетные и структурные повторы: писатель часто повторяет «сам себя, по два, три, а то и по четыре раза пересказывая одни и те же истории, анекдоты, сцены2. ... Через повторяемость выражается эпическое понимание бытия как закона, неуклонно и монотонно реализующего свою власть» . Повторяемость (устойчивый прием в по-стмодернистическом тексте) у Сергея Довлатова предопределяет не только сюжетную динамику, но и осуществляет гармонизацию действительности. Например, в прозе писателя традиционна ситуация столкновения миров и воспоминаний: внедрение в гладкую повествовательную канву фрагментов, осколков, отражений, теней прошлого.
Игра как идентификационная необходимость героя Сергея Довлатова
Идентификационная практика довлатовского героя обогащается привлечением разнообразных игровых способов, это значительно расширяет и усложняет контекст его идентификационных исканий. В современной западной и отечественной философии и психологии достаточно отчетливо дифференцированы полномочия игрового феномена. В работе Н.Б. Сазонтьевой «Игра как метод и проблема современной психологии»1, наряду с восприятием игры как акта по пересимволизации действительности, воздействия на социальную организованность (ие-рархизацию общества) и культуру взаимоотношений, автором учитывается такая важнейшая составляющая игровой деятельности, как самоидентификация в игре. Наше внимание сосредоточено на специфике игры как идентификационной необходимости довлатовского героя.
Можно развести понятия тождество «игровое» и «идентификационное», хотя принципиально это не входит в задачи нашего исследования. Нами уже подчеркивалось, что в основу идентификационной практики героев Довлатова положена идея солидаризации и реализации потребности во всеобщей ответственности. Идентификационное тождество, обретаемое личностью в ходе идентификации, воспринимается последней как тотальность.
Игра - это достаточно продуктивный способ понимания бытия и общения с бытием, игровая идентификация (в нашем постижении этого понятия) воспринимается как политика, долгосрочный труд по «заполу-чению» тождества «для Себя», терпеливый процесс свыкания с полученной информацией, ролью. Неигровая идентификационная практика складывается из мельчайших осколков окружения: «Словно бы автор отразился во множестве зеркал, но в каждом по-разному»1. Для актера в игре исключительно важно заполучить тождество с целостным образом, с ролью, которую потребуется сыграть. Ему необходимо не только достроить себя для игры, но и динамично перестроить: принять личину, маску, лицедействовать, поскольку роль может быть прямой противоположностью его нравственно-этической организации. Роль - это тождество, мимесис, лукавое подражание, соподчинение актерствующего в ходе игры порядку игры (сценарию) (Й. Хейзинга, X. Ортега-и-Гассет, М. Бахтин, Е. Финк, Г. Гессе, Д.Б. Эльконин), конкретному, целостному образу (роли), от которой реально избавиться, выйдя из игры, (хотя это не всегда представляется легко возможным). Из игры и из роли можно выйти, сбросив костюм или маску, сложнее, если человек окончательно сжился с ролью и привык видеть мир как театр. «...Оглядевшись, я неожиданно подумал, что сижу в театре. Занавес раздвинут, свет погас. Актеры давно уже на сцене. Реальная жизнь осталась за кулисами. И ты, как мальчишка, - бессилен. Ты знаешь, что Яго, допустим подлец, и не вмешиваешься. Все равно ты не можешь помочь. И вообще - где арти-сты, где зрители? Кому надо хлопать в финале? Все перепуталось...» .
Творческая личность, живущая в условиях смены скрытых и явных «игр» власти, рано или поздно должна принять решение: либо заключить контракт, компромисс с властью и «играть» по ее - «власти» -правилам и законам роли, которые не всегда сущностно и качественно совпадают с совестью, и в обстоятельствах лжи принимать «компромиссные» решения: «Эти люди, предрасположенные к новой игре ... могли воспринимать себя как персонификацию порядка, задаваемого партией. Личные признаки вытеснялись в пользу господствующей формы, обычная речь - в пользу господствующей идеологии. Имело место не просто слияние с ролью, но практически полное подчинение антииндивидуалистическому принципу. Стиль отсутствует, ибо нет поиска личной идентичности. ... Жизненная игра серьезна не только оттого, что таковая была смертельно опасна, но и потому, что нет дистанции по отношению к собственной позиции. Человек и роль слиты»1. «Человек с головой, конечно, пытался перехитрить систему — изобретая разные обходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на ложь... ... Но ты понимаешь, что сплетенная тобой паутина - паутина лжи, и несмотря на любые успехи и чувство юмора, будешь презирать ее. Это - окончательно торжество системы: перехитришь ты ее или же примкнешь к ней, совесть твоя одинаково нечиста»2. Второй вариант - в условиях полнейшего дефицита истин совершать собственную «игру», кардинально противоположную навязанной - то есть «антиигру».
Герои Сергея Довлатова (как и сам автор) вынуждены возрождать себя в горниле «игрового существования». Изучая притязания довлатов ских персонажей, мы сможем обнаружить самоочевидную потребность их в исполнении роли. Игра довлатовских персонажей бывает: Раскрепощающей: эта игра — искусство; игра бескорыстная, бесхитростная, нелепая, никоим образом не связанная с материальными интересами и целями (пример тому — «женская игра»): поведение, корректно обозначенное писателем как «женское притворство»: это абсурдно-непредсказуемая игра Таси («Филиал»), профессиональная -стюардессы Лиды из «Роли», романтически изящная - Вари Звягиной («Дорога в новую квартиру»), голливудская — молодой журналистки Эви из «Компромисса», Анастасии Мелешко: « — Где вы учитесь? Тут она начала врать. Какая-то драматическая студия, какая-то пантомима, югославский режиссер вызывает ее на съемки. ... Как благородно эволюционировало вранье за двести лет! Раньше врали, что есть жених, миллионер и коннозаводчик. Теперь врут про югославского режиссера. Когда-то человек гордился своими рысаками, а теперь... вельветовыми шлепанцами из Польши. ... Я в таких случаях молчу -пусть. Бескорыстное вранье — это не ложь, это поэзия" (1,184). «Пусть лгут, кокетничают, изображают уцененных голливудских звезд... Какое счастье - женское притворство!..» (1, 248); Близкая по значению, но не равнозначная первому виду игры — виртуозная игра — «своя» игра, трансформирующая праздник — советское массовое мероприятие - в действо карнавального типа; Игра - компромисс, «дурное лицедейство», вынужденная игра (например, журналистская работа в газете («Компромисс»)); «Контригра», по канонам и форме тождественная стационарному ритуалу, но организуемая и проводимая героем как «антиигра» (Э. Буш и др.).
А.С. Пушкин - идентификационный резерв «Заповедника»
Пушкин довлатовского «Заповедника» - законсервированный «продукт», практический аналог «невыездного» Пушкина B.C. Высоцкого: «Другой бы, может, и запил, А он махнул рукой! Что я? Когда и Пушкин был всю жизнь невыездной»1, уникальный образец идентификационной практики главного автобиографического героя, генератор его лирических переживаний, редактор переломных миграционных решений: «Моя жена все чаще заговаривала об эмиграции. Я окончательно запутался и уехал в
Пушкинские Горы...» (1, 376). B.C. Непомнящий в работе «Феномен Пушкина и истинный жребий России. К проблеме целостной концепции русской культуры» говорит о том, что «мой Пушкин» — сложная идентификационная система, организуемая не только частным взглядом, единоличным мнением, пристрастием, «мой Пушкин» - «это мой автопортрет, моя система ценностей в практическом приложении»1; ворота в духовный мир, то центральное и функциональное в личности, что не зависит от ее вкуса и выбора, но несет глубинный всеполагающий смысл. В нашем смысловом (семантическом) восхождении к понятию «Пушкин - идентификатор» будут уместны и слова Г.В. Адамовича, о том, что на Пушкине мы проверяем себя и, вглядываясь в его облик, сами себя судим. Г.В. Адамович - один из немногих, кто трактует курьезную и пристрастную житейскую и творческую потребность во что бы то ни стало сказать о Пушкине что-то «свое» - как стремление бессознательное, существующее в виде неизбежной «необходимости вне нас». Процесс идентификации многие психологи также рассматривают как «бессознательную» проекцию личности себя на нечто иное, чем она сама (К.Г. Юнг). «Всеотзывчивость Пушкина», с одной стороны, оказывает мощное стимулирующее воздействие на идентификационные маневры личности, с другой стороны, - последствия идентификационной практики для каждого «истца», стремящегося под покров поэта, непредсказуемы и неоднозначны: «Предъявлять Пушкину нравственные, идеологические претензии также глупо, как упрекать в аморализме ястреба или волка».2
Практическое соучастие поэта всякому культурному явлению: Пушкин - «безотказно действующий аккумулятор»1; Пушкин - воплощение совершенного и всеобъемлющего синтеза (слияния) со «всяким» покушающимся на приватный контакт с ним: «Я перелистывал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость...» (1, 329); Пушкин - лучший друг, собеседник, советчик, «вечный спутник», с кем сверяют свое чувство прекрасного ; Пушкин — идентификатор... - та «универсальная» пластичность, за которой реально усмотреть «знак внутренней пустоты»3; возможность такого взгляда стала весьма существенным приобретением «постмодернистической коалиции» (Борис Парамонов «Пушкин - наше ничто», «Конец стиля»).
Однако из общего хода почти двухсотлетней идентификационной практики, пушкинисты отмечают ее явный милитаристический смысл: «сподобиться Пушкину означало и отменить его, и одновременно сменить»4. Факторами, обусловливающими эту идентификацию, становятся: стратегия и соревнование - борьба с иерархией за собственное место (рядом, за счет и вопреки авторитету Пушкина).
Всеобщая настроенность на Пушкина обнаруживается в одном из эпизодов «Заповедника» при попытке автобиографического героя процитировать пушкинское «К няне» и неожиданном (неосознанном) переходе на лирику Есенина: «Перебираюсь в комнату Арины Родионовны... «Единственным по-настоящему близким человеком оказалась кре постная няня...» Все, как положено... «...Была одновременно снисходительна и ворчлива, простодушно религиозна и чрезвычайно деловита...» И, наконец: - Поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки... И тут я на секунду забылся. И вздрогнул, услышав собственный голос: Ты еще жива, моя старушка, Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой... Я обмер. Сейчас кто-нибудь выкрикнет: «Безумец и невежда! Это же Есенин - «Письмо к матери»...» (1, 352-353). Интонационный переход в близкое и созвучное (по слуху и по наитию) есенинское русло вскрывает проблему «оккупированного» Есениным подсознания героя, концентрируя внимание героя на метатексто-вые отношения, на дерзкую поразительность сближений и смешений русской литературы, буквально «настоянной» на Пушкине. Есенинское признание: «хочу походить на Пушкина, самого лучшего в мире поэта» - может быть воспринято в данном случае как удачное иллюстративное тому подтверждение. Известно, что Сергей Есенин выступает в «роли Пушкина» и в «Пугачеве», и «Москве кабацкой», и в «Песни о великом походе».