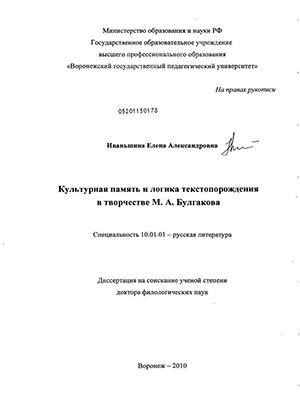Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Культурная память и особенности ее актуализации в булгаковском тексте 28
ГЛАВА 2. Трансформации как механизм текстопорождения (соотношение текста и метатекста) 66
2.1. «Роковые яйца» как модель текстопорождения 66
2.2 Петух и змей в зеркале булгаковского сюжета 99
2.3 Оптическая аппаратура и ее функции 114
ГЛАВА 3. Идея преображения в поэтике М. Булгакова 126
3.1. Семантика преображения в повести «Собачье сердце» 126
3.2. Святочные маски в «Зойкиной квартире» и «Собачьем сердце» 152
3. 3. Семантика ряженья в «Зойкиной квартире» 158
3.4. Костюм как семиотический код 188
3.5. Смерть и преображение поэта в пьесе «Александр Пушкин» 198
ГЛАВА 4. Смешение языков как конструктивный принцип булгаковского творчества 221
4.1 Ревизия ценностей в пьесе «Багровый остров» (логика обмена) 221
4.2. Искусство и жизнь в «Полоумном Журдене» 252
4.3. Смешение времен в пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич» 259
4.4. Безумие и ум в «Дон Кихоте» 267
4.5. «Ревизор» как метатекст 273
ГЛАВА 5. Возвращение слова и воскрешение мастера 282
5.1. Реконструкция испорченного текста в пьесе «Адам и Ева» 282
5.2. Завещание автора читателю в романе «Мастер и Маргарита» 317
Заключение 371
Примечания 384
Библиография
- Петух и змей в зеркале булгаковского сюжета
- Семантика ряженья в «Зойкиной квартире»
- Искусство и жизнь в «Полоумном Журдене»
- Завещание автора читателю в романе «Мастер и Маргарита»
Введение к работе
Постановка проблемы. М. А. Булгаков относится к числу тех писателей, художественная система которых отличается уникальной целостностью: элементы этой системы составляют устойчивый смысловой комплекс, реаранжируемый многократно и в разных комбинациях. Основой этой разнообразной целостности является специфический рецепт, который воплощает художник от произведения к произведению. Этот рецепт унаследован им как учеником от предшественников, старших по цеху культуры. Рецепт есть описание вещи и ее изготовления, а также указание на происхождение материала, из которого эта вещь изготовляется, так как знание о прошлом вещи отождествляется с мудростью и является ключом к ее использованию (Д. Э. Харитонович).
Практически каждый отдельно взятый оригинальный булгаковский текст рассказывает о своем происхождении и представляет культурную традицию, замещая ее различными эквивалентами (в том числе деньгами, которые являются универсальным знаком-заместителем). Творчество М. А. Булгакова - театральный роман, в котором главным артистом является сам автор, разыгрывающий перед читателем процесс собственной творческой рефлексии, то есть выступающий в осознании своей культурной роли, своих творческих принципов, своей позиции по отношению к материалу, с которым он работает, или аппаратуры. Как устроена аппаратура мастера, какими свойствами обладает, какая логика лежит в основе ее работы - ответы на эти вопросы предполагают исследование творческой стратегии М. Булгакова-художника, его профессиональных секретов. К блестящей книге итогов писатель шёл постепенно, совершенствуя и осмысливая свой творческий инструментарий, который является аналогом дара, мастерства как инструмента текстопорождения. Этот инструмент не является собственностью того или иного творящего субъекта: он представляет собой достояние культуры и аккумулирует ее память. Творящий субъект является «инструментом» воспроизводства культуры, то есть каналом связи времен. В творчестве самого М. А. Булгакова эта роль культурной памяти как творящей силы, проявляющейся в мастере и плодах его творчества, отрефлектирована многогранно. Булгаковский текст1 даёт все основания для того, чтобы рассматривать его как модель литературной культуры: он соотносится с культурой как часть с целым; часть гомеоморфна целому и является не дробью целого, а его символом (текст содержит целостный образ культуры). Учитывая, что культура является формой коллективной памяти, можно сказать, что структура булгаковского текста и представляет собой - в своей инвариантной основе - репрезентацию пространства культурной памяти.
Роль традиции в булгаковском творчестве так или иначе осмыслена во многих работах (работы М. О. Чудаковой, Б. Ф. Егорова, И. В. Григорай, В. А. Чеботаревой, И. Ф. Бэлзы, И. 3. Белобровцевой и С. Кульюс, Б. М.
1 Имеется в виду художественное наследие как единое целое, обладающее устойчивыми структурными свойствами.
Гаспарова, П. Абрахама, М. Йовановича, И. Л. Галинской, О. Д. Есиповой, М. Петровского, А. А. Кораблева, О. Кушлиной и Ю. Смирнова, А. А. Грубина, Р. Джулиани, Р. Я. Клейман, А. К. Жолковского, И. Е. Ерыкаловой, М. Золотоносова, В. Сисикина, И. С. Приходько, Л. Л. Фиалковой, В. Ш. Кривоноса, В. В. Химич, Е. А. Яблокова, Ф. Федорова, Г. Г. Ишимбаевой, О. С. Бердяевой). Как правило, их авторы рассматривают «влияние» на писателя одного или нескольких предшественников (Данте, Гёте, Пушкина, Гофмана, Гоголя, Достоевского, Салтыкова - Щедрина, Л. Толстого, Чехова), культурных кодов и жанровых моделей, философских идей или отдельных текстов. Специально рассмотрению того или иного аспекта традиции в булгаковском творчестве посвящены диссертационные исследования И. В. Григорай, А. А. Кораблева, П. А. Забровского, Е. Г. Серебряковой, Л. В. Борисовой, Н. Е. Титковой, О. А. Павловой, М. Г. Васильевой.
Соблазн классики, - эта формула М. О. Чудаковой определяет такое социопсихологическое и социокультурное явление в литературе, как мышление по аналогии с существующими образцами. В то же время литературоведы приходят к выводу, что отношение писателя к литературным традициям сложнее, чем простое их усвоение и следование им, что в творческом методе Булгакова важнейшее смысло- и структурообразующее место занимает игра с культурным наследием (И. 3. Белобровцева). Концепция такой игры «разоблачена» в пьесе «Багровый остров»: используя известный культурный «реквизит», автор (ср. с директором театра) приспосабливает его к требованиям текущего репертуара и представляет новую пьесу, «сшитую» из старого материала. Базой заимствования является театральная кладовая - вещественный аналог культурных «закромов».
Однако в литературоведении нет интегральных исследований, где были бы осмыслены порождающая роль и механизмы культурной памяти в процессе создания новых текстов у Булгакова и которые освещали бы эту проблему, охватывая художественное творчество писателя как концептуальную целостность.
В настоящее время, когда имеются не только все предпосылки для создания интегральных моделей булгаковского творчества, но и сами такие модели (примером является систематическое описание художественного мира писателя, сделанное Е. А. Яблоковым2), НАУЧНО АКТУАЛЬНЫМ представляется рассмотрение булгаковского творчества как модели культуры, логики ее (культуры) самосознания и самоописания. В этом случае литература представляет собой пример моделирования второго порядка. Если художественный мир, будучи моделью первого прядка, отражает и оценивает реальность и задает программу поведения по отношению к ней (пространство текста осмысливается как аналог реального пространства), то моделирование второго порядка располагается в пространстве метасемантики и предполагает концептуальное осмысление текст-текст отношений (текст отражает и оценивает другие тексты и задает программу «правильного» текстопорождения). Реальность в этом случае играет
2 См.: Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. - М., 2001.
подчиненную роль (изображенное реальное пространство переосмысливается как пространство текста). Если в первом случае текст отсылает к миру, то во втором - мир открывается как текст.
Ю. М. Лотман определяет культуру как смысл опорождающую
структуру, или интеллектуальное устройство. Подобной
смыслопорождающей структурой является и отдельно взятый достаточно сложный текст, а также человеческая личность, рассматриваемая как текст. Элементы этого ряда (индивидуальный интеллект - художественный текст -культура) обнаруживают черты изоструктурности и изофункциональности. Все они осуществляют следующие действия: хранят и передают информацию; обладают языком и механизмом порождения правильных текстов на этом языке; осуществляют алгоритмизованные операции по правильному преобразованию этих сообщений; образуют новые сообщения. В коммуникации с культурным контекстом текст выступает не как сообщение, а в качестве его полноправного участника, субъекта - источника или получателя информации. Отношения текста к культурному контексту могут иметь метафорический характер, когда текст воспринимается как заменитель всего контекста, которому он в определенном отношении эквивалентен, или же метонимический, когда текст представляет контекст как некоторая часть - целое. Таким образом, «текст, с одной стороны, уподобляясь культурному макрокосму, становится значительнее самого себя и приобретает черты модели культуры, а с другой, он имеет тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь автономной личности»3.
В числе коммуникативных функций текста Ю. М. Лотман называет функцию культурной памяти (общение между аудиторией и культурной традицией). Пространство культурной памяти представляет собой знаковый, языковой и текстовый универсум (семиосферу), элементы которого взаимно поддерживают и определяют друг друга. Активной здесь оказывается потенциально вся толща текстов: актуальные тексты высвечиваются памятью, а неактуальные не исчезают, а как бы погасают, переходят в потенцию.
По сути смерть является местом зарождения культурной памяти, а память об умерших - первичной формой культурного воспоминания (Я. Ассман). В. Н. Топоров пишет о том, что обретение памяти неизбежно связано с нисхождением в Аид. Поэт, как и сказочный герой, является посредником между тем царством и этим (в пространстве) и между прошлым и настоящим (во времени).
Условием текстопорождения (текстопорождение - выработка новых сообщений) является наличие в смыслопорождающем устройстве (индивидуальном сознании - художественном тексте - культуре) двух (как минимум) различных структур (языков, текстов) с разной степенью взаимной непереводимости. Чтобы установить их относительную переводимость, требуется некоторая метаязыковая система. Метатекстуалъностъ -
3 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. - СПб., 2002. - С. 161.
сознание о тексте в широком смысле слова . Булгаковские тексты, как правило, относятся к сфере метасемантики, то есть могут быть рассмотрены как метатексты. В них отрефлектирована та функция литературы, которую Д. М. Сегал определяет как функцию охранной грамоты. Он отмечает, что, начиная с конца двадцатых годов XX века, осознание этой особой функции литературы и тех ее изменений, которые последовали после Октября, отразилось в ряде текстов, в которых литература вышла на уровень самоописания. Эти тексты фокусируют основное внимание на литературе как деятельности и личной профессии, затрагивают проблему свободы слова и переносят на слово (текст) признаки настоящей, подлинной действительности (которая является противовесом неподлинной реальности). Такие тексты выполняют функцию культурной памяти, помещая механизм передачи традиции внутрь сюжета и одновременно рефлектируя по этому поводу, и позволяют разворачивать механизм литературного моделирования при изменении внешних условий; они содержат в себе правила своего функционирования и обладают программирующей силой в отношении судьбы автора и читателя; кроме того, здесь актуализируется инструментальная, магическая функция литературы по отношению к внелитературной реальности5. Литература в этом случае представляет собой пример моделирования второго порядка. Она работает двояким образом: во-первых, создает модель реальности (референтная функция) и задает программу поведения по отношению к ней, во-вторых, рассматривает самое себя как моделирующее устройство (автореферентная функция).
Высокая степень интертекстуальности произведений М. А. Булгакова стала доказанным научным фактом. Данная работа не сводится к выискиванию и количественному умножению литературных подтекстов булгаковских произведений. Способность текста наращивать при перепрочтении свои смыслы (объем памяти) - явление закономерное (особенно если мы имеем дело с таким высокоорганизованным текстом, как булгаковский), воспринимаемое в очерченном здесь поле не как помеха, а как необходимое условие его существования во времени. Нас интересуют не столько сами подтексты (хотя химический состав культурной памяти булгаковского текста выявляется неизбежно), сколько то, как работает булгаковский «диалект памяти», как осуществляется в булгаковском тексте концептуализация культурного прошлого и как - через актуализацию мнемонических «следов» - происходит смысловое расширение текста, развертывание свернутого в нем культурного потенциала.
ЦЕЛЬ данного исследования - выяснение роли культурной памяти в процессе текстопорождения, воплощенном в булгаковском творчестве.
4 В исследовании О. С. Бердяевой метатекст понимается иначе - как единство булгаковского творчества,
организованное прежде всего мотивно (то есть как «сверхтекст»). См.: Бердяева О. С. Проза Михаила
Булгакова. Текст и метатекст. Автореф. дис. ... доктора филол. наук. - Великий Новгород, 2004. - С. 3.
5 См.: Сегал Д. М. Литература как охранная грамота. - М, 2006. - С. 50-155.
В соответствии с означенной целью в процессе исследования нами решались следующие ЗАДАЧИ:
і. Обосновать правомерность рассмотрения булгаковского текста как модели культуры (метатекста).
2. Описать механизмы текстопорождения, художественные версии
которых разыграны в булгаковских произведениях (выяснить вопрос о
соотношении текста и метатекста в рамках отдельно взятого
художественного целого).
3. Показать, как выражены и как работают в булгаковском тексте
оппозиции «свое - чужое», «новое - старое», «живое - мертвое».
-
Выяснить, в каких пространственных формах моделируется у Булгакова образ традиции и как актуализирована в его произведениях проблема культурной археологии.
-
Описать принципы работы творческого инструментария булгаковского мастера и показать, как булгаковский текст возвращает читателя к своим истокам.
-
Реконструировать основные коды булгаковского языка описания культуры и определить логику их развертывания.
-
Реконструировать «подтекстный» культурный слой булгаковских произведений и определить авторские предпочтения в диалоге с традицией.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследования заключается в том, что в нем впервые дано системное описание булгаковского творчества как динамического единства текста и метатекста.
Объектом диссертационного исследования являются общие закономерности творчества М. А. Булгакова.
Предмет исследования - соотношение в булгаковском творчестве потенциала культурной памяти и процессов текстопорождения.
Материалом исследования являются оригинальные произведения М. А. Булгакова, а также булгаковские инсценировки классических литературных произведений. Отбор материала обусловлен поставленной целью: нами рассматриваются прежде всего наиболее репрезентативные с точки зрения заявленной темы произведения - те, в которых эксплицированы культурная позиция автора и логика текстопорождения, а потому грань между языком-объектом и метаязыком художника максимально прозрачна.
Общей методологической основой исследования является системное
единство выработанных литературоведением теоретического и историко-
литературного подходов к объекту изучения. Поставленные задачи требуют
применение структурно-семиотического, мифопоэтического,
психоаналитического методов, принципов теории подтекста и теории интертекстуальности, а также приемов мотивного анализа.
Методологической базой исследования являются работы Я. Ассмана, А. Н. Афанасьева, А. К. Байбурина, Г. Башляра, Б. М. Гаспарова, А. ван. Геннепа, А. К. Жолковского, А. И. Иваницкого, В. В. Иванова, Л. М. Ивлевой, Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, М. Мосса, В. Я. Проппа, П. Рикёра, В. П. Руднева, Д. М. Сегала, О. А. Седаковой, И. П. Смирнова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, Е. Фарино, Н. А. Фатеевой, А. А. Фаустова, 3. Фрейда, О. М. Фрейденберг, М. Фуко, Т. В. Цивьян, У. Эко, М. Элиаде, А. Эткинда, К.-Г. Юнга, М. Б. Ямпольского. Из работ о творчестве М. А. Булгакова для нас особо значимы работы М. О. Чудаковой, А. М. Смелянского, А. А. Кораблева, Б. М. Гаспарова, В. В. Химич, Е. А. Яблокова, И. Белобровцевой и С. Кульюс.
Теоретическая значимость. Предложенная в диссертации концепция булгаковского творчества расширяет представление о тексте и его моделирующих свойствах, о работе культурной памяти и механизмах ее актуализации в художественном тексте, о творческой рефлексии, о соотношении текста и метатекста, текста и культурных кодов (подтекстов). Особое значение предложенная в диссертации концепция имеет для понимания процесса функционирования культуры как генерации «новых» и актуализации «старых» текстов, их столкновения и взаимодействия.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут быть применены в общих и специальных вузовских курсах по истории литературы XX века, теории литературы, истории культуры; материалы исследования могут быть использованы для спецкурсов и спецсеминаров по творчеству М. А. Булгакова.
Положения, выносимые на защиту
-
Творчество М. А. Булгакова манифестирует семантический, или символический тип культуры (Ю. М. Лотман), который предполагает описание себя как совокупности иерархически организованных текстов; высшую ступень иерархии образуют священные тексты, которым приписывается значение истинности. Булгаковские тексты устроены по типу священных: они посвящены тайнам ремесла и содержат рецепты творчества, которые осмысливаются и передаются в узком кругу. Функцию метаописания у Булгакова берет на себя метатекст, который совпадает с текстом и является одной из его функций.
-
Логика замещения определяет знаковую специфику булгаковской семиосферы, которая может быть представлена как система эквивалентностей, являющихся трансформациями некоего семантического кода. Этот код - память культуры - транслируется от текста к тексту, в основе своей оставаясь неизменным. В рассматриваемом типе культуры
функция замещения считалась главной в знаке: при этом замещаемое воспринималось как содержание, а замещающее - как выражение.
3. Смешение языков - конструктивный принцип булгаковского текста,
который провоцирует читателя на перевод. Принцип языкового смешения
осознан самим текстом и выведен в сферу метасемантики, где ему
соответствуют автометаописательные эмблемы: котел (и его синонимы -
примус, самовар и вулкан) и кухня. Многоязычие системы - необходимое
условие текстопорождения (выработки текстом новых сообщений в процессе
коммуникации и автокоммуникации).
4. Большинство булгаковских текстов объединены
«профессиональной» темой и представляют мир в образе мастерской
(зоологической, медицинской, швейной, театральной, химической); все
разнопрофильные мастерские являются иноформами творческой
лаборатории мастера (писателя). В этой мастерской изготавливается та или
иная «вещь», которая становится проявителем культурной памяти. Все
памятные «вещи» соотносятся с текстом и представляют собой его аналоги,
то есть образуют уровень метаописания. В художественной системе
Булгакова отчётливо просматривается тенденция к табуированию
писательской профессии посредством замещения другими
профессиональными масками. По сути все булгаковские тексты объединяет
проблема творческой рефлексии, которую автор инсценирует в своём
профессиональном маскараде. Функцию маскировки в булгаковском мире
выполняют национальность и профессия, которые являются манифестациями
костюма как семиотической загадки, связанной с авторской идентичностью.
-
Авторская рефлексия М. Булгакова направлена на порождающие процессы, в силу чего сюжетная завязка у него представляет собой генеративный узел. Булгаковские сюжеты разыгрывают универсальный мифологический комплекс «смерть - возрождение» и создают карнавальный образ переходного времени. Момент перехода, означенный в традиционной культуре карнавалом, объясняет интерес писателя к разного рода метаморфозам на уровне циклических по своей природе фабул. Булгаковские тексты аккумулируют семантику переходных обрядов и реализуют идею перехода как преображения, смысл которого - в преодолении смерти. Силой, одолевающей смерть, является слово. Булгаковский текст сам по себе является манифестацией границы: возможность проникновения в такой текст зависит от нахождения ключа (ключ как необходимый элемент, открывающий доступ к сокровищам культуры, обыгран в пьесах о машине времени и в «закатном» романе).
-
В булгаковском мире актуальны различные формы анти-поведения. Мир мертвых переосмысливается Булгаковым как мир культуры (мир отсутствующих персонажей). Путешествие в царство мертвых и пребывание там с инициационной целью - скрытая интрига булгаковского сюжета. Пространственными аналогами мира мертвых являются у Булгакова подвал (место, где хранятся сокровища) и вертеп (архаическая форма театра). Отношения с мёртвыми, которые разыгрываются в булгаковских фабулах
(где граница между тем и этим светом размыта и проницаема), и тяготение этих фабул к переломным годовым периодам (Рождеству и Пасхе) позволяют прочитать булгаковский текст как реализацию святочной обрядности, главным содержанием которой является общение с потусторонним миром, а главной отличительной чертой - ряженье. Основной функцией подтекста является у Булгакова воскрешение культурного героя и освященной его именем традиции, вынесенное «на рамку» в «Мастере и Маргарите». Общение с покойниками у Булгакова - системный фабульный мотив, в котором и осуществляется обретение культурной памяти как наследства. Фабульной кульминацией этого мотива становится бал Воланда.
7. Моделируя ситуацию культурной катастрофы, сталкивающей
несовместимые тексты, Булгаков разыгрывает в своем творчестве в разных
вариантах процесс вытеснения (деформации, порчи) одних текстов другими.
При этом испорченные или уничтоженные тексты разными способами
напоминают о себе, и ситуация осознания утраты запускает механизм
реконструкции культурной памяти, соотносимый с археологическим
раскопом или с прочтением размытого письма, найденного в бутылке
(океаном, доставившим письмо, в этом случае является время). Утраченные
тексты обнаруживают способность к регенерации, в процессе которой текст-
источник неизбежно деформируется, сталкиваясь с другими текстами;
результатом метаморфозы оказывается новый текст, который тем не менее
несет в себе память о своих предшествующих состояниях.
-
Идеальным текстом в означенном типе культуры является текст отсутствующий. Самое ценное в булгаковском мире всегда отсутствует (является скрытой величиной). Осознание утраты компенсируется памятью, которая обладает воскресительной силой: она «пересиливает» отсутствие и умножает утраченное как невротический симптом. Неслучайно поведение помнящих персонажей строится как невротическое. Невротическим является и сам булгаковский текст, построенный по принципу заместительной логики. Работа механизма культурной памяти резюмируется в узнавании как обретении утраченного. Параллельно персонажам в ситуацию узнавания вовлечен и читатель, для которого текст открывается как собрание цитат, которые отсылают к другим текстам (подтекстам).
-
«Глубинная» структура палимпсеста имеет в булгаковском тексте «концентрический» аналог - «вложенные» друг в друга и друг другу подобные объемы (тексты). Вкладывание, или герметизация -конструктивный принцип булгаковского текста, позволяющий соотнести его пространство с ритуальным (геральдическим) пространством, моделирующим объект, играющий роль мирового центра и отвечающий за сохранность традиции. Последняя представлена яйцом, собакой, квартирой, парижскими платьями, ковчегом, театром, островом сокровищ. Всё это -эквиваленты слова, которое утрачено (уничтожено), испорчено или спрятано (ср. с книжкой, найденной в подвале Маркизовым, и сожженным романом безымянного мастера). Метафора «мир - книга» развернута на всем пространстве булгаковского текста.
10. Утрата традиции как первозданного состояния, символически
выраженного через образ сокровищницы, - глубинная мотивация
булгаковского сюжета. Реконструкция культурной памяти разыграна у
Булгакова как поиск утаенных сокровищ, их изъятие и присвоение.
Параллельно персонажам в такой поиск втянут и читатель, для которого
местом хранения (сокрытия) сокровищ становится текст. Скупой - одна из
авторских масок. За сохранность традиции в булгаковском мире отвечают
персонажи, «родственные» змею / петуху и собаке / волку. Они выполняют
сторожевую функцию и осуществляют медиацию между пространственными
сферами («своим» и «чужим»); они же манифестируют комплекс «смерть -
возрождение». Змей / петух и собака / волк - варианты авторских масок.
Булгаковское «чувство вечности» связано с обладанием сокровищами
культуры, что равнозначно сохранению первозданной традиции в духовном
центре. Роль такого духовного центра и берет на себя булгаковский текст (и
его автор, завещающий «чувство вечности» своему читателю). Такой текст
является аналогом машины времени, которая работает в режиме
возвращения.
-
Особое место в булгаковском сюжете отводится оптике, что связано с инструментальным удвоением зрения. Различные оптические аппараты не только способствуют развитию событий в фабульном плане, где они являются атрибутами персонажей, но и представляют собой аналоги авторской фантазии как силы, в которой определяющим моментом является специфическое креативное зрение, которое «активируется» утратой и своеобразно возмещает ее, представляя отсутствующее (утраченное) как присутствующее. С ситуацией присутствия в отсутствии связаны такие смысловые оппозиции как «видимое - невидимое», «явное - тайное».
-
«Работа» булгаковского текста соотносима с «работой» сновидения, как ее описывает 3. Фрейд. Стратегии реконструкции «испорченной» памяти, актуализированной в фабульном плане (мир персонажей), соответствует в сюжетном плане (мир автора и читателя) стратегия дешифровки (ср. с толкованием сновидений), то есть перепрочтения текста вспять, по принципу палиндрома. В свете значимости изнаночных действий народной культуры смысл такого чтения - в аннулировании неправильных текстов и возвращении читателя к истокам культуры, то есть к повторным открытиям образцовых текстов, составляющих сокровищницу традиции (ср. с развязыванием узлов или отпиранием сундуков). При палиндромном прочтении читаемый текст становится зеркалом других текстов (как неправильных, так и образцовых). Негация негативного, сохранение сокровенного и возвращение утраченного (проявление невидимого) -основные модусы булгаковского творчества.
Апробация результатов исследования. Идеи и материалы исследования представлялись в докладах на Международных, Межрегиональных и Межвузовских научных конференциях и семинарах: «Наследие А. С. Пушкина в контексте современной эпохи» (Воронеж, 1999);
«Эйхенбаумовские чтения» (Воронеж, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008); «Творчество А. П. Чехова в контексте современности» (Воронеж, 2004 г.); «Пушкинские чтения» (Санкт-Петербург, 2005, 2009); «Проблемы современной филологии в вузовском образовании» (Ижевск, 2006); «Поэтика рамы и порога: функциональные формы границы в художественных языках» (Самара, 2006); «Художественный текст и культура» (Владимир, 1999, 2007), «Кормановские чтения» (Ижевск, 2006, 2008, 2009, 2010); «Концептуальные проблемы литературы» ((Ростов-на-Дону, 2007); «Литература в диалоге культур» (Ростов-на-Дону, 2006, 2007, 2008); «Печать и слово Санкт-Петербурга. Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2005, 2007, 2008, 2009); семинары в музее-квартире М. А. Булгакова (Москва, 2008, 2009); Первый, Второй, Третий и Четвёртый булгаковские семинары в МГПУ (Москва, 2007, 2008, 2009, 2010); семинар «Писатель в маске. Формы автопрезентации в литературе XX века» (ИРЛИ РАН, 2007); семинар «Память литературного творчества» (ИМЛИ РАН, 2007); «Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре» (Волгоград, 2007); «Коды русской классики: "провинциальное" как смысл, ценность и код» (Самара, 2007); «Восток - Запад в пространстве русской литературы и фольклора» (Волгоград, 2008); «Поэтика художественного текста» (Борисоглебск, 2009), «Виноградовские чтения» (Москва, 2009); «Чехов и мировая культура» (Ростов-на-Дону, 2009); «Универсалии русской литературы» (Воронеж, 2009); Гоголевская конференция (Воронеж, 2009); семинар, посвященный памяти В. А. Свительского (Воронеж, 2009); Межвузовский научный семинар, посвященный 150-летию со дня рождения А. П. Чехова и 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого (Воронеж, 2010) и др.
Материалы диссертации использовались в лекционном курсе и на семинарских занятиях по введению в литературоведение, на семинарских занятиях по курсу «Русская литература и культура», в курсе по выбору «Мифопоэтика», читавшихся на факультете русского языка и литературы Воронежского государственного педагогического университета в 2004 - 2010 гг.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, примечаний и библиографического списка, насчитывающего 349 источников.
Петух и змей в зеркале булгаковского сюжета
Задача потерпевших крушение выходцев из девятнадцатого века, волею судьбы заброшенных на новый исторический материк, как ее сформулировал О. Мандельштам, — «европеизировать и гуманизировать девятнадцатое столетие, согреть, его телеологическим теплом» (Мандельштам 1987, с. 86). Телеологическое тепло - ощущение близости дальних эпох, сосуществующих в пространстве «тоски по мировой культуре», или культурной памяти. Виденье золотого века, укорененность во всем богатстве культуры, личная привязанность к ценностям иных эпох, осознание опыта предшественников актуализируют миф о «вечном возвращении» как основной прасюжет акмеизма. Рассуждая об акмеистическом чувстве историзма, Д. М. Сегал отмечает синхронное восприятие акмеистами истории: «существует некий высший уровень, на котором ось последовательности транспонируется в серию актуально сосуществующих явлений, принадлежащих современности и улавливающих будущее, как слово - смыслы» (Сегал 2006, с. 183). Актуализацией того же - синхронного - принципа является и память - связующая сила, скрепляющая разрозненные эпизоды временного потока. Память для акмеистов - их личный накопленный опыт, память текстов как чужого запечатленного опыта и память (знание) истории. Акмеисты - преемники и наследники накопленного опыта, они моделируют свою родственность с определенными предшественниками, но не отождествляются с ними и не переносятся в их времена (не продлевают себя вспять, как символисты) (см.: Фарино 1985, с. 33).
Акмеистическое восприятие культуры и своего положения в ней было свойственно и М. А. Булгакову. Литературная жизнь писателя началась в то время, когда возникла новая для отечественного общественного бытия совокупность представлений, получившая название «отношение к классике» и подразумевавшая дистанцию, перерыв во времени между классикой и новой литературой. Для Булгакова, в отличие от многих его современников, этой дистанции как бы не существовало: его самосознание было самосознанием не ученика, а наследника, продолжателя рода (см.: Чудакова 1985, с. 361-362).
В ситуации пресечения традиции и гражданской войны в литературе, в ситуации встречи двух литературных поколений, неминуемо предполагавшей противостояние и выбор, Булгаков принял сторону старшего поколения, стремясь предстать — для себя и для других — сначала в образе русского писателя дореволюционного типа, а затем в мольеровском образе (образе коме зо диографа эпохи Людовика XIV). Свою литературную позицию М. Булгаков разгрывал как позицию архаическую, противопоставляя себя эпохе как приверженец прошлого (см.: Золотоносов 1989, с. 149-182).
Роль традиции в булгаковском творчестве так или иначе осмыслена во многих работах (см.: Абрахам 1993; Белобровцева 1997; Белобровцева, Кульюс 1994, 2006; Гаспаров 1993, с. 28-123; Бердяева 2002; Бэлза 1978, 1981, 1989, 1991; Бахтин 1988; Галинская 1986, с. 65-117; Григорай 1982; Грубин 1993; Гудкова 2000; Джулиани 1988; Егоров 1987а, 19876; Ерыкалова 2007; Жолковский 1995; Золотоносов 1989; Ишимбаева 2002, с. 87-111; Йо-ванович 2004, с. 11-63; Клейман 1991; Кривонос 1994; Кульюс 1998; Кушли-на, Смирнов 1988; Ладыгин 1981; Петровский 2001; Приходько 1979; Сиси-кин 1989; Фёдоров 2008; Фиалкова 1988; Химич 2003; Чеботарева 1984; Чу-дакова 1982, 1985, 1994, 1995; Яблоков 1997а, 19976, 2001, 2002). Как правило, их авторы рассматривают «влияние» на писателя одного или нескольких предшественников (Данте, Гёте, Пушкина, Гофмана, Гоголя, Достоевского, Салтыкова - Щедрина, Л. Толстого, Чехова), культурных кодов и жанровых моделей, философских идей или отдельных текстов. Специально рассмотрению того или иного аспекта традиции в булгаковском творчестве посвящены диссертационные исследования Л. В. Борисовой (см.: Борисова 2001), М. Г. Васильевой (см.: Васильева 2005), И. В. Григорай (см.: Григорай 1982), А. П. Забровского (см.: Забровский 1994), Ж. Р. Колесниковой (см.: Колесникова 2001), А. А. Кораблева (см.: Кораблев 1988а), О. А. Павловой (см.: Павлова 1998), Е. Г. Серебряковой (см.: Серебрякова 20026), Е. Г. Сидоровой (см.: Сидорова 2004), Н. Е. Титковой (см.: Титкова 2000), Омори Масако (см.: Омори Масако 2006).
В булгаковском творчестве отрефлектирована та функция литературы, которую Д. М. Сегал определяет как функцию охранной грамоты. В статье «Литература как охранная грамота» он пишет о том, что в устойчивых тра 31 диционных культурах семиотический механизм передачи культурной традиции во времени связан с господствующей религией, а одним из звеньев механизма, обеспечивающего «свертывание» всей традиции, возможность хранения ее в коллективной памяти и последующее развертывание и реализацию, воспроизведение в поведении последующих поколений, является священный текст. В концепции русской культуры с ее специфическими формами взаимоотношения литературы и жизни функция религии (как и функция общественной мысли, науки) переходит к литературе, а писатель становится сакральной фигурой, соотносимой с основателем религии или религиозным практиком (жрецом). К началу XX века литература в России является основным инструментом сохранения русской культуры. Начиная с конца двадцатых годов XX века, осознание этой особой функции литературы и тех ее изменений, которые последовали после Октября, отразилось в ряде текстов, в которых литература вышла на уровень самоописания. Эти тексты фокусируют основное внимание на литературе как деятельности и личной профессии, затрагивают проблему свободы слова и переносят на слово (текст) признаки настоящей, подлинной действительности (которая является противовесом неподлинной реальности). Такие тексты выполняют функцию культурной памяти, помещая механизм передачи традиции внутрь сюжета и одновременно рефлектируя по этому поводу, и позволяют разворачивать механизм литературного моделирования при изменении внешних условий; они содержат в себе правила своего функционирования и обладают программирующей силой в отношении судьбы автора и читателя; кроме того, здесь актуализируется инструментальная, магическая функция литературы по отношению к вне-литературной реальности (см.: Сегал 2006, с. 50-155). Литература в этом случае представляет собой пример моделирования второго порядка. Она работает двояким образом: во-первых, создает модель реальности (референтная функция) и задает программу поведения по отношению к ней, во-вторых, рассматривает самое себя как моделирующее устройство (автореферентная функция). « .. . мы имеем дело здесь с любопытным литературным явлением, которое можно вкратце описать как инструмент для инкапсюлирования семиотического механизма литературного моделирования в условиях ограничений на свободу литературного слова, инструмент, содержащий в самом себе правила своего функционирования, обладающий программирующей силой в отношении судьбы автора и позволяющий разворачивать механизм литературного моделирования при изменении внешних условий. Указанная группа текстов - реакция русской литературы на хирургическое вмешательство извне .. . » (Сегал 2006, с. 62).
Семантика ряженья в «Зойкиной квартире»
В «Собачьем сердце» функцию волшебной камеры выполняет собака, в которую, как в инкубатор, помещаются гормональные «фрагменты» покойного, преобразующие Шарика по своему «образу и подобию». Описание волшебной коробочки-камеры встречается в «Театральном романе» («Записки покойника»). Эту коробочку, эквивалентеую сценической площадке, на которой разыгрывается зрелище, В. Сисикин определяет как автопортрет художника, на котором нет физического лица, но есть психологический лик человека играющего и творящего; камера здесь представляет собой эквивалент сценической площадки, где слово трансформируется в зрелище (см.: Сисикин 1989, с. 136).
По своей календарной специфике РЯ - пасхальный сюжет , который, в свою очередь, восходит к жанру святочного рассказа. Святочный (рождественский) и пасхальный тексты считаются симметричными (см.: Душечкина 1995, с. 298-299). Святочная коллизия - коллизия судьбы с такими присущими ей «атрибутами», как нить и веретено, зрение (осмысляемое пассивной стороной как слепота), коварство (обнаруживающееся в разного рода подменах-обманах) и склонность к игре (отводящей пассивной стороне роль игрушки). Привычным святочным контекстом является зима, в семантическом пространстве которой содержится - в числе прочих значений — значение абстрактного времени, предупреждающего о неотвратимости прихода старости и смерти (см.: Гайворонская 2009, с. 278). В РЯ веретено замещено яйцом, нить - красным лучом и змеей, глаз соединен с еще одним святочным предметом - зеркалом — в сложном оптическом аппарате, а зимняя (морозная) «реплика» возникает в финале, в летнем календарном контексте.
Классическим вариантом взаимодействия человека с судьбой является миражная интрига — метафора неведения и несвободы человека, связанная с оптическим обманом и мнимостью; миражная интрина - действие, в ходе которого субъективные цели персонажей опровергаются достигаемым результатом. Мираж , или, по Далю, марево , морока , подвод - превратный вид отдаленных предметов, на море и в степях (Даль 1935, т.2, с. 334). Родственное слово мара у того же Даля объясняется как наваждение, обаяние; греза, мечта; призрак, привидение, обман чувств (даль 1935, т. 2, с. 304). Мираж -сон наяву, игра зрения.
О природе миража и интриги рассуждает О. М. Фрейденберг в связи с паллиатой (плавтовской комедией плаща), говоря о взаимных превращениях правды и обмана, подлинного и мнимого. В паллиате нет положительного или отрицательного персонажа: в ней есть только олицетворение «лица» и «изнанки» (см.: Фрейденберг 1988, с. 52). Паллиата знает только один вид обмана, подсовывая кажущееся взамен подлинного или делая подлинное — кажущимся (там же, с. 39). «Благодаря тому, что правда и неправда меняются в функции одна с другой, или .. они обратимы, интрига жонглирует ими. Это не этика, а престидижитаторство и фокус. Глаза действующих лиц не видят того, что видят, и видят то, чего нет» (там же, с. 41), и происходит эта подмена благодаря фокуснику. «Герои паллиаты создают, подобно фокусникам, балаганным шарлатанам, раешникам и иллюзионистам, чрезвычайные чудеса на глазах у зрителей, которые «зрят», «смотрят» .. . И самая архаичная форма обмана - это не материальное надувательство, не мошеннические уголовные проделки, а напускание мороки, делание «чудес», то есть видимости, жонглирование правдой и мнимостью, игра видимого и подлинного в ее неразберихе, энигматичности и интрижности» (там же, с. 45).
Понятие миражной интриги использует Ю. В. Манн применительно к гоголевскому сюжету: «Не герой пьесы управляет сюжетом, но сюжет, раз вивающийся (в результате столкновения множества сил) по логике азартной игры, несет героя, как поток щепку. Приближение к цели вдруг оказывается удалением от нее на огромное расстояние ... » (Манн 1988, с. 176).
Миражная интрига - это и механизм памяти. Как цветной завиток развязал память Персикова и память места (Москва - поместье Шереметевых под Смоленском), так текст РЯ, подобно завитку/яйцу, на которое направлен усиленный оптикой взгляд, развязывает память слова. Мифопоэтические, исторические и интертекстуальные коннотации сюжета повести РЯ описаны Е. А. Яблоковым, который рассматривает булгаковский текст, актуализируя змеино-птичий комплекс и связанную с ним семантику (см.: Яблоков 2001, с. 50-73). Нас же интересует оптический потенциал РЯ, то есть комплекс визуальных мотивов (они являются здесь сюжетообразующими), которые обращают текст к его истокам, то есть подтекстам.
Фамилию ученого можно назвать «знаково напряженной»31. Она подобна тому самому цветному завитку, который Персиков рассматривает в микроскоп, и является «фокусом», связывающим пучок смыслов (ср. с глазом). Если «покрутить винт» и настроить глаз подобно тому, как это происходит в повести с самим Персиковым, из этой фамилии вытянется много интересного и ранее не замеченного. Самые поверхностные ассоциации - с Персией (см. выше о связи яиц с персидским контекстом) и персиком, который внешне напоминает яйцо. Как уже было замечено выше, Персиков соотносим со змеем (простейшее анаграммирование - перс/серп (представим себе фамилию Серпиков ) — превращает эту фамилию в змееподобную ). Между тем в фамилии профессора есть нечто от Перуна33, а также от змееборца Персея и Персефоны34. Таким образом, сама фамилия героя, словно яйцо, содержит зародыши разных сюжетов (уточним - сюжетов, связанных со змеями). Помимо мифопоэтического, эта фамилия имеет и исторический подтекст, который связывает Персикова с Лениным35.
Движение сюжета начинается с цветного завитка, напоминающего женский локон, который в результате технической (Иванов) и идеологической (Рокк) «доработки» превращается в клубок змей (см. описание каши-террариума в оранжерее), актуализируя сюжет о Горгонах, у которых змеи заменяют волосы, а взор превращает всё живое в камень (см.: МНМ 1997, т.1, с. 316). Три соучастника эксперимента — Персиков, Иванов и Рокк - эквивалентны тройной манифестации змея-Волоса (ср. с трёхглавым мифологическим змеем), а также тройничным сестрам граям, стоящим на пути Персея к Горгонам. Если Персей, отрезая голову Медузы, освобождает пространство, разворачивает свернутое и побеждает смерть (см.: Евзлин 1993, с. 313), то Персиков своим открытием способствует обратному процессу и выступает в роли анти-Персея: с его помощью Медуза вновь оживает. Если Персей завладевает глазом грай, то Персиков как бы отдает свой гениальный правый глаз в распоряжение Иванова и Рока: этот глаз оказывается принадлежащим троим, переходит из рук в руки, как и глаз грай36. Сюжет о победе Персея над Медузой органично вписывается в булгаковскую номенклатуру отрубленных и страдающих голов (см.: Яблоков 2001, с. 330-338). Упоминание пылающего шлема (храма Христа) и заостренного меча (луча) усиливает ассоциацию37. Головой Горгоны в РЯ оказывается голова профессора Персикова, в финале раскроенная страшным ударом палки, обрушенным человеком на обезьяних ногах. Палка — распространенная метафора змеи (см.: Гура 1997, с. 334).
Искусство и жизнь в «Полоумном Журдене»
В списке действующих лиц пьесы значится некий Роббер - член коллегии защитников. Английское robber переводится как грабитель, разбойник. Грабителем и разбойником, убийцей в ЗК является китаец Херувим. Есть ли между этими двумя персонажами какая-то внутренняя связь?
Херувим - теневая фигура (см. выше). Ночная сторона предприятия Зойки напоминает иллюзион, в основе которого - быстрая смена планов, игра света и тьмы. Это подводит нас к такому экзотическому зрелищу, как театр китайских теней, в непосредственной связи с которым всплывает имя бельгийского профессора физики и оптики Этьена-Гаспара Робера — автора оптической машины, названной фантаскопом и запатентованной в Париже в 1799 году. С помощью фантаскопа Робер (переехав из Льежа в Париж, он переименовал себя в гражданина Робертсона) представлял зрителям фантасмагории — оптические игры, в которых столкновения света и тени порождали разнообразные видения. Местом проведения оптических сеансов был подвал монастыря капуцинок. На сеансах Робертсона вызывали разнообразных знаменитостей - Вольтера, Мира-бо, Руссо, Лавуазье, — но чаще всего - Робеспьера и других жертв революции. Общей чертой всех представлений была, с одной стороны, их «некромантиче-ская» образность (почти все они заканчивались появлением колоссального скелета с косой в руках), а с другой - просветительская направленность (развенчание суеверий). С 1803 по 1809 годы Робертсон провел в России, где у него было множество поклонников, в том числе, предположительно, Державин - автор метафоры «волшебного фонаря» (см.: Смолярова 2006, с. 86-89). Родственной державинскому волшебному фонарю является карамзинская метафора китайских теней: китайские тени и волшебный фонарь относятся к одному и тому же типу оптического зрелищ - это странные спектакли о мироздании, представляемые в полной темноте и состоящие из беспрерывно сменяющих друг друга «картин» (см.: там же, с. 79). В ЗК Херувим - фонарщик (так называли и Ро-бертсона). В другой редакции ЗК есть сцена с волшебным фонарем, которая происходит в таинственном учреждении. В свете волшебного фонаря здесь разоблачаются действующие лица пьесы, которые представляются как маски (с. 389-391). Волшебный фонарь - метафора памяти, память - главная тема ЗК. По принципу фантаскопа, вызывающего знаменитые тени (в данном случае — литературные) устроена «Зойкина квартира».
Тема памяти озвучена мотивом Обольянинова и воплощена в Алле и Хе по рувиме . Как и Алла, Херувим - еще один текст в тексте. Он является универсальным зеркалом, отражающим всех прочих персонажей пьесы, и в этом смысле схож с гоголевским Хлестаковым (его, как и Хлестакова, принимают за другого; и Хлестаков, и Херувим - те самые зеркала, на которые, как гласит эпиграф к «Ревизору», неча пенять, коли рожа крива). Как и Хлестаков, Херувим является воплощенным обманом, точнее, самообманом Зойки, ее бессознательным". Херувим - взгляд100, который втягивает в свою воронку, поглощает и убивает (ср. с взглядом гоголевского Вия). «Становится странен и страшен», - говорится в ремарке о Херувиме (с. 169). Слова странен и страшен встречаются в письме Пушкина П. А. Плетнёву, написанном по поводу смерти Дельвига: «... говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг.
Быть так» . По словам В. Топорова, судьба соединяется с человеком их взаимным подобием, она - продукт саморасщепления человека, с чем связана ситуация двойничества (см.: Топоров 1994, с. 52-53). Отсюда и двойничество олицетворяющего судьбу Херувима по отношению к остальным персонажам пьесы .
Еще одним релевантным текстом для ЗК, на наш взгляд, является «Госпожа Бовари». Возможным намеком здесь можно счесть упоминание пивной «Бавария» (с. 196). Ассоциация вызвана сходством общей ситуации, в основе которой лежит недостижимая мечта героини (в ЗК — двух героинь). В обоих случаях, кстати, мечта связана с Парижем, одинаково далеким и для Эммы, и для Зойки, и для Аллы. И в романе Флобера, и в пьесе Булгакова замещением парижской мечты являются наряды. В «Госпоже Бовари» модный агент Эммы -зловещий торговец тканями и ростовщик господин Леру - планомерно затягивает провинциальную даму в долговую кабалу и толкает ее на самоубийственный шаг. Наряды Эммы во многом оказываются инструментом разорения семьи: вместе с опасными связями они часть грезы о другой жизни, которая, существуя параллельна реальности существования лекарской жены, вносит разлад в ее душевный мир (по сути это тот же разлад мечты и действительности, который убивает художника Пискарёва). Этот - нарядный - мотив связан в ЗК с Аллой: перед нами, как и в романе Флобера, история неудавшейся эмансипации и одновременно - история падения. Другой персонаж с двойным дном, аптекарь Омэ, на складе у которого Эмма берет мышьяк и который выходит сухим из воды, по-особенному связан с судьбой: на это указывают его преследования слепого нищего - символической фигуры, которая появляется как раз в момент смерти героини. Омэ — подручный смерти , каковым он является в силу своей пограничной профессии (аптека символизирует переход между жизнью и смертью). Ведающий лекарствами, он оказывается - пусть случайно - поставщиком яда (впрочем, одно неотделимо от другого). В ЗК такой двусмысленной фигурой, ведающей чудодейственным «лекарством», является Херувим. Как и г-ну Омэ, Херувиму присуще тщеславие: оба по-своему завоевывают мир (неслучайно сына флоберовского аптекаря зовут Наполеон). Имя Омэ фонетически близко имени Эмма, зеркально по отношению к нему; Херувим является зеркальным двойником Зойки (она хочет в Париж, а Херувим - в Шанхай, квартиру же называет «моя Зойкина квартира»).
Приняв во внимание известное высказывание Г. Флобера «Госпожа Бова-ри - это я» и примерив его на автора ЗК, получим еще дно травестийное перевоплощение женщины в мужчину.
Еще один «архаический» пласт ЗК - знаменитый исторический спор о поэтическом языке, который велся между архаистами («Беседа») и новаторами («Арзамас»). Неслучайно устройство квартиры напоминает салон западнического толка (эталонные вещи привезены из Парижа, что соответствует языковой программе карамзинистов), в котором к тому же царит балладный дух, созданный присутствием всё того же Мертвого тела, и разыгрывается новая вариация старого сюжета о бедной Лизе104 (см. сцену демонстрации платья Лизань-кой, где она предстает бедной девочкой-кокаинисткой (с. 191)). В полемике архаистов и новаторов была особенно актуальной параллель «язык - одежда» (см.: Проскурин 1999, с. 301-348). Покойник - ключевое слово арзамасских сатирических протоколов, где под покойниками подразумеваются живые участники «Беседы» (см.: Майофис 2006). Как известно, символом «Арзамаса» был гусь - жертва, принесенная на алтарь словесности. «Заседания арзамасского общества, согласно его уставу, должны были происходить еженедельно и заканчиваться ритуальным поеданием жареного гуся, то есть "арзамасским причастием"» (Гаспаров 1999, с. 138). Перо - гусиный атрибут, метонимически связывающий птичью сферу с литературной. Но перо — еще и название ножа на арго (в частности, такая перекодировка осуществляется в «Мастере и Маргарите»). В этой связи убийство Гуся Херувимом приобретает историко 177 литературный смысл и может быть прочитано как ритуальное заклание тотемной жертвы (священного предка). В ЗК Гусь - золотой идол, а затем жертва, мертвое тело. Это отцовская фигура, символизирующая золотой запас, переходящий «по наследству» от учителя к ученику и обеспечивающий воспроизводство традиции во времени (=воскрешение мертвых). Одним из безусловных литературных авторитетов для М. Булгакова, как известно, был Н. Гоголь105. «Любопытны морфолого-семантические наблюдения Ермакова над соотношениями фамилий Гоголя и его героя: "гого(ль)" — показывающий себя гусь-самец; "чичик(ов)" — показывающий себя щеголь» (Иваницкий 2000, с. 6). Согласно В. Далю, гоголь - название семейства толстоголовых, плоских и круглых уток и т.п., а также щеголь, франт, волокита (Даль 1935, т. 1, с. 374). Таким образом, фамилия Гоголь имеет отношение и к птице (в т. ч. хотя бы отчасти к гусю), и к одежде. Учитывая сказанное, а также то, что персональный миф Гоголя ориентирован на романтическую равнозначность Автора и Бога (см.: Ма-роши 2000, с. 107), можно предположить, что Гусь - сакральный предшественник и двойник автора ЗК, разыгрывающего себя как наследника-отцеубийцу (ср. с пушкинским «Скупым рыцарем»).
Завещание автора читателю в романе «Мастер и Маргарита»
Ю. М. Лотман отмечает, что характерная для средневековья картина мира построена на отрицании синтактичности и принципиально ахронна . «Ни вечная конструкция мира, его сущность, ни подверженное разрушению его материальное выражение не подчинялись законам исторического времени. Связанное с временем было не исторически существующим, а несуществующим» (Лотман 2001, с. 407). Конструктивный принцип Бл и ИВ - смешение двух времен в одном пространстве, которое наделяется свойством пан-хронности. Такое пространство «работает» как семиотическое устройство и является моделью культуры. Время в Бл и ИВ изображено как пространство55, и движение во времени соотносится с переходом из комнаты в комнату56. Точнее, время и пространство здесь перекодируются друг в друга, и эта перекодировка осуществляется в комнате Михельсона/Шпака.
Исчезновение стены и совмещение комнат (Рейна и Михельсона/Шпака) в данном случае оказывается совмещением (и смешением) времен. Связывая два времени как зеркальные проекции одного пространства, машина времени работает как зеркало и является театрализованным аналогом пародии57. Конструктивный принцип пародии - столкновение двух языковых систем (пародируемого и пародирующего текстов) и замещение элементов исходной системы (пародируемый текст) элементами другой системы (см.: Тынянов 1977, с. 300-301). В пьесах о машине времени языковым системам соответствуют совмещенные хронотопы (ср. с текстами, которые в пародии наслаиваются друг на друга). «Переводом» элементов из одной системы в другую здесь занимается Милославский. Присваивая чужие вещи (тексты) и проявляя сходства , Милославский выступает как живое воплощение пародии. Недаром он представляется артистом камерных театров (а в телефонном разговоре с Михельсоном/Шпаком — артисткой). Акцентирование в герое актерского элемента, по Тынянову, - один из первейших признаков пародии и непременное условие разобранного Тыняновым феномена «пародической личности» (см.: Тынянов 1977, с. 303-308). Пародия оперирует сразу двумя семантическими системами, даваемыми на одном знаке. Такими «знаками» являются и квартира59, и Милославский - персонаж, переведенный из одной художественной системы (гоголевской) в другую (булгаковскую), «внутри» которой он сохраняет подвижность и приспособляемость.
Кражи Милославского составляют ось интриги булгаковских пьес о машине времени. Украденные вещи связывают временные проекции и являются носителями интриги, как часы являются материальными носителями времени. Овеществленное в часах, время становится изымаемой ценностью, которую словно притягивают артистические руки. Сосредоточенные в одних руках ценности разного порядка - наглядный пример языкового смешения. Механизмом языкового смешения является сама машина времени, работа которой приводит к столкновению двух хронотопов, элементы которых начинают взаимно обмениваться благодаря Милославскому. Как «фокусы» языкового смешения Милославский, Михельсон/Шпак и машина времени эквивалентны. Время в Бл и ИВ раскрывается как периодическая система элементов, которые, ритмически повторяясь, соотносятся по принципу подобия. Такое время мыслится как обратимое60. Пьесы о машине времени демонстрируют связь времен и возможность их смешения в одном карнавальном пространстве, что соотносимо с идеей «присвоения» времени Милославским.
Это карнавальное пространство - пространство пародии, в котором экспонируются «присвоенные» образы чужих текстов. С подобным смешением читатель «Мастера и Маргариты» столкнется на знаменитом балу, который Во-ланд устроит в комнате покойного Берлиоза.
Отпечаток пальца, которым гордится Милославский, - аналог руки мастера, его письма (рука в данном случае понимается как сигнатура, почерк). У Даля шпак, в числе прочих значений, - бральница, которой сымают плоды с дерева (Даль 1935, т.4, с. 662), то есть аналог руки. В этой связи коробка (шкатулка, шкаф) тоже может быть соотнесена с письмом - листом бумаги, раздутым до трехмерности61. С засаленной книгой ходит по дому Бунша; этим он похож на Лагранжа («Кабала святош»): и тот, и другой аккуратно заносят в книгу события, происходящие в доме (театре). Пишущим (точнее, диктующим) застают путешественники во времени и Иоанна. Писательская профессия относится к числу «скрытых мыслей» сновидческих пьес Булгакова о машине времени62.
Находясь в Блаженстве, Бунша и Милославский попадают на ежегодный майский бал, соотносимый со знаменитым балом в «Мастере и Маргарите». Если в романе гостями на балу оказываются покойники, которые появляются из камина (то есть используют канал, обычный при коммуникации с потусторонним миром), то в Бл гостями на балу оказываются сами путешественники, которые здесь одеты во фраки, как и гости Воланда. Гость — тот, кто пришел из мира мертвых. Во время бала появляется персонаж, означенный как Гость, который представляется мастером московской водонапорной станции (см.: Булгаков 1994, с. 11 б)6, а вскоре Анна показывает Милослав-скому кран, по которому течет чистый спирт (с. 117). Мастер водонапорной станции и подведомственный ему спиртопровод (ср. с огненной водой как поэтическим горючим)63 имеют отношение к творчеству. Позднее Гость выскажется по поводу присвоенных Милославским пушкинских стихов: «Стихи какие-то дурацкие... Не поймешь, кто этот Кочубей... Противно пишет...» (с. 121). Так возникает тема зависти к Пушкину, которую в «Мастере и Маргарите» представляет Рюхин. Пушкин как автор присвоенных Милославским строк тоже — благодаря Милославскому - оказывается случайным гостем Блаженства. Случайным гостем называет себя и Рейн, когда просит отпустить его (с. 129). Гость здесь - писатель; эта профессия у Булгакова табуиро-вана, карнавализована и замаскирована другим профессиональным материалом. Профессия Рейна - инженер — тоже связана с писательством: во-первых, через Замятина, который был инженером по профессии, во-вторых, через определение писателя как инженера человеческих душ. Другой персонаж Бл -Услужливый Гость — заказывает в филармонии пластинку с фокстротом «Аллилуйя», под которую в «Мастере и Маргарите» будет бесноваться в Грибоедове писательская братия.
Все переходные обряды, как известно, сопровождаются переодеваниями. В Бл и ИВ время овеществлено в костюме. Смешение времен разыграно как смешение костюмов. Когда Бунша, Милославский и Рейн влетают в Блаженство и, оказавшись в квартире Радаманова, спрашивают, куда их занесло,
Радаманов принимает их за артистов64 и говорит, что о съемках нужно предупреждать. Аврора комментирует их появление так: «Погоди, папа. Это карнавальная шутка. Они костюмированы» (с. 114). Само перемещение в Москву 2222 года (в дате актуализирована семантика удвоения), которая открывается Рейну с парапета, соотносимо с посещением Москвы другого артиста со свитой, которое тоже приходится на май.