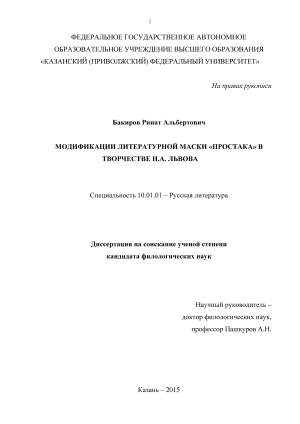Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Литературная маска: феномен понятия и типологические особенности 15
1. Теоретические аспекты явления маски в литературной культу ре 16
2. Кредо «простака» в истории русской литературы 25
Глава II. Маска «простака» в поэзии Н.А. Львова 41
1. Литературная маска «простака» в поэмах Н.А. Львова: эволюция и типоло гическое многообразие 42
2. Литературная маска «простака» в лирике Н.А. Львова 87
Глава III. Комические «простаки» в драматургии Н.А. Львова .123
1. «Игрище» как масочный жанр в драматургии Н.А. Львова .124
2. Характеры «простушек» в пьесах Н.А. Львова 140
Заключение 149
Список использованных источников и литературы 153
Приложение .1
- Кредо «простака» в истории русской литературы
- Литературная маска «простака» в поэмах Н.А. Львова: эволюция и типоло гическое многообразие
- Литературная маска «простака» в лирике Н.А. Львова
- Характеры «простушек» в пьесах Н.А. Львова
Введение к работе
Актуальность нашего исследования определяется, в первую очередь, взаимодействием творчества Львова и поэтики предромантизма как художественного целого. В Новое время предромантизм стал первым направлением, поднявшим тему синтеза культур и искусств, что определяет надвременной характер этого явления. Кроме того, само явление «масочности» - важная в современной гуманитаристике междисциплинарная проблема, объединяющая литературоведение, языкознание, философию, культурологию, психологию и ряд других научных областей.
И, наконец, необходимо сказать в целом о самом творческом гении Львова, который зачастую предугадывал развитие определяющих тенденций русской литературной культуры: интерес к народному творчеству, игра, масочность, кружковость и т.д. Однако следы этого провидчества писателя во многом становятся видны только сейчас и часто только на «дальнем фоне», без прямой отсылки к львовским открытиям.
Предмет нашего исследования – генезис, эволюция и трансформация элементов масочно-игровой системы в поэтике Н.А. Львова, на примере образа «простака» в его поэтическом и драматургическом творчестве.
В качестве объекта изучения нами были выбраны известный и атрибутированный на данный момент корпус лирики Н.А. Львова, а также его поэмы и пьесы. Уточним, что эпистолярий и проза писателя в данной работе сознательно исключены из поля анализа. Связано это, во-первых, с небольшим количеством доступного для исследования материала; во-вторых, лишь со спорадическими проявлениями признаков «масочности» в львовских текстах подобного рода.
Целью нашей работы является исследование литературной маски «простака» и ее модификаций в творчестве Львова. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
-
выявить теоретико-типологические особенности явления маски в системе литературной культуры;
-
исследовать структурообразующие элементы литературной маски «простака» в поэзии и драматургии Н.А. Львова;
-
проанализировать основные характерологические особенности «масочного пространства» в творчестве Львова;
-
рассмотреть эволюцию литературной маски «простака» в творческой системе Н.А. Львова.
Степень разработанности проблемы и научная новизна диссертации
определяются тем, что жизнь и творчество Н.А. Львова до сих пор изучены неполно. Выделяются в этой достаточно локальной картине работы К.Ю. Лаппо-Данилевского1, Е.Г. Милюгиной2 и М.В. Строганова3, с доминантой историко-биографического метода; последние два исследователя, кроме того, являются основателями Тверской школы изучения жизни и творчества Н.А. Львова и продуктивно работают в данном направлении, с 2001 по 2005 годы выпустив 5 сборников материалов по итогам «львововских» конференций; а также исследования В.А. Западова4, Р.М. Лазарчук5, И.Д. Немировской6, А.И. Разживина7 и А.Н. Пашкурова8 – уже в связи с анализом особенностей поэтики Н.А. Львова.
Однако творчество Н.А. Львова еще не стало предметом целостного развернутого литературоведческого анализа именно в игровом контексте. Мы исследуем «масочность» как игровой принцип и доминирование его в творчестве писателя. Этим обусловливается новизна нашего подхода.
1 Лаппо-Данилевский К.Ю. Литературная деятельность Н.А. Львова: Дис. канд. филол. наук / К.Ю. Лаппо-
Данилевский – Л., 1988 – 222 с.; Лаппо-Данилевский К. Ю. О литературном наследии Н.А. Львова;
Комментарии / К.Ю. Лаппо-Данилевский // Львов Н. А. Избр. соч. Кельн; Веймар; Вена: Белау-Ферлаг; СПб. :
Пушкин. Дом: РХГИ: Акрополь, 1994. - С. 7—22; 394—417.
2 Милюгина Е.Г. Обгоняющий время: Н. А. Львов - поэт, архитектор, искусствовед, историк Москвы / Е.Г.
Милюгина - М. : Рус. импульс, 2009. – 360 с.; Милюгина Е.Г. Н.А. Львов. Художественный эксперимент в
русской культуре последней трети XVIII века: дисс. на соиск. уч. ст. д.филол.наук / Е.Г. Милюгина – Великий
Новгород, 2009. – 405 с.
3 Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Гений вкуса: Н.А. Львов. Итоги и проблемы изучения: Монография. / Тверь:
Твер. гос. ун-т, 2008. 278 с.
4 Западов В.А. Проблема литературного сервилизма и дилетантизма и поэтическая позиция Г.Р. Державина /
В.А. Западов // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. – Л., 1989. – С. 56-75.
5 Лазарчук Р.М. Послание Н.А. Львова и его роль в литературной борьбе 1790-х – начала 1810 – х гг. / Р.М.
Лазарчук // Филологический сборник (статьи и исследования) - Уч. записки Лен. Гос. пед. Института им. А.И.
Герцена. Т. 460, – Л., 1970. – С. 29-45.
6 Немировская И. Д. Жанр русской комической оперы последней трети XVIII века: Генезис. Поэтика. Эволюция
/ И.Д. Немировская - Самара: Самар. гос. ун-т, 2007. - 97 с.
7 Разживин А.И. «Чародейство красных вымыслов»: Эстетика русской предро-мантической поэмы /
А.И.Разживин - Киров: Изд-во ВГПУ, 2001. - 95с.
8 Пашкуров А.Н. Феномен «игрового» отрывка в письмах М.Н. Муравьева и Н.А. Львова (1770-1790-е годы) /
А.Н. Пашкуров // Михаил Муравьев и его время: сборник статей и материалов Второй Всероссийской научно-
практической конференции «Михаил Муравьев и его время». – Казань: РИЦ, 2010. – С. 43-51.; Пашкуров А.Н.,
Разживин А.И. История русской литературы XVIII века: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. / А.Н.
Пашкуров, А.И. Разживин – Елабуга: ЕГПУ, 2011. – Ч. 2. – 447 с.
Методологическая основа исследования. Основными методами анализа в нашей работе явились:
сравнительно-типологический (использовавшийся нами при сопоставлении типологии явлений - к примеру, предромантизма и масочности, феномена «простодушия» и поэтики Львова и др.),
историко-биографический (примененный при анализе автобиографических элементов, являющихся основной характерологической чертой литературной маски),
историко-функциональный (при изучении развития рассматриваемых нами важнейших явлений XVIII века - литературной и культурной игры, в контексте их восприятия и современниками, и последующими поколениями),
системный (при анализе, в перспективе, синтеза разных видов культурной и индивидуальной жизни - литературы и общественно-философской мысли, личностной психологии писателя и др.).
Теоретическая значимость нашего исследования заключается в том, что данная работа позволяет выявить возникновение, развитие и типологию игровой поэтики в историко-литературном процессе последней четверти XVIII - начала XIX века на материале творчества ведущего писателя отечественного предромантизма -НА. Львова.
Практическое значение полученных нами результатов обусловливается возможностью их использования в курсе «Истории русской литературы XVIII -первой половины XIX века», при разработке спецкурсов и семинаров по проблемам изучения русской литературы и культуры рубежа XVIII - XIX веков и начала XIX столетия.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования изложены в виде докладов на 25 конференциях различного уровня: Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Михаил Муравьев и его время» - Казань, 2010 год; Вторая межвузовская научно-практическая конференция «Текст. Произведение. Читатель» - Казань, 2010 год; Четвертая Всероссийская научная конференция «Екатерина II - писатель, историк, филолог» - Москва, 2010 год; VIII Республиканская научно-практическая конференция "Литературоведение и эстетика в XXI веке" - Казань, 2011 год; Третья Всероссийская научно-практическая конференция «М.Н.Муравьев и его время. 300-летию М.В.Ломоносова посвящается…» - Казань, 2011 год; Международная научно-практическая конференция «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XII Кирилло-Мефодиевские Чтения» - Москва, 2011 год»; Пятая международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения русской литературы XVIII века» -Самара, 2011 год; Пятая Всероссийская научная конференция «Н.М. Карамзин -
писатель, ученый, публицист» - Москва, 2011 год; IX Республиканская научно-
практическая конференция «Литературоведение и эстетика в XXI веке» («Татьянин
день») – Казань, 2012 год; Международная научно-практическая конференция «Текст.
Произведение. Читатель» - Казань, 2012 год; Международная научно-практическая
конференция «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIII
Кирилло-Мефодиевские Чтения» - Москва, 2012 год; Международная научная
конференция «Родная земля глазами стороннего наблюдателя. Заметки
путешественников о Тверском крае» - Тверь, 2012; Всероссийская научная конференция «Казанский текст в литературе» - Казань, октябрь 2012 г.; VI Всероссийская научная конференция «Г.Р. Державин и его эпоха» - Москва, февраль 2013 г.; XXXIII Зональная конференция литературоведов Поволжья - Саратов, 2012; Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «М.Н.Муравьев и его время» – Казань, 2013 год; Международная научная конференция «Г.Р. Державин и диалектика культур» - Казань-Лаишево, 2012; Шестая международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения русской литературы XVIII века» -Самара, 2013 год; Международная научная конференция «Г.Р. Державин и диалектика культур» - Казань-Лаишево, 2014; Пятая Всероссийская научно-практическая конференция «М.Н.Муравьев и его время» – Казань, 2015 год; а также на ежегодных итоговых научно-практических конференциях студентов Казанского университета 2008-2012 годов.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
-
В литературной культуре предромантизма последней четверти XVIII – начала XIX века одной и наиболее устойчивых художественно-философских доминант становится игровая поэтика, в значительной степени способствующая возникновению и развитию в словесности явления литературной маски.
-
В контексте эволюции личностного начала в литературе России этого времени и генезиса авторских стратегий писателей, одну из лидирующих позиций занимает литературная маска так называемого «простака». В ее основе лежит осознанное снижение внутритекстовым автором или героями своего ума / социального статуса / навыков. В творчестве писателей XVIII века, представляющих разные литературные направления, наблюдаются различные варианты данного явления (Ф. Прокопович использует маску «пастушка», В.И. Майков – «кабацкого певца», Н.М. Карамзин – «незадачливого путешественника» и «сентиментального поэта», И.А. Крылов наследует традиции раешной масочности, Г.Р. Державин применяет россыпь масок - от «мурзы» до оссианического певца, а Н.А. Львов в качестве одной из основных использует маску «поэта-дилетанта» и т.д.).
-
Формы маски «простака» у Н.А. Львова, в зависимости от степени их выраженности, образуют организованную иерархическую структуру: от менее выявленных к «лежащим на поверхности» - в одних случаях автор напрямую
называет себя «простаком», в других делает это завуалированно, прячась под несколькими условными фигурами;
4. Маска «простака» является организующим принципом поэтики Львова, через
который возможно выстроить цельную парадигму его творчества и понять скрытые
смыслы, подтексты, заложенные в произведениях писателя.
5. Кредо «простака» в творчестве Львова фокусирует такие идеологические
проблемы, как соотношение философского и бытового начал, взаимодействие в
российской ментальности западной и восточной культур, национальная специфика
искусства.
6. Маска «простака» оказывается тесно связана с жанровыми новациями
Н.А.Львова. В частности, она доминирует в таких формах, как поэтическая шутка и
псевдоэкспромт, предромантическая бурлескная поэма, народная комическая опера-
«игрище» и др.
7. «Масочность», ярко проявляющаяся в поэзии и драматургии Львова, лежит у
истоков развития личностного начала в отечественной литературной культуре.
Своеобразным стержнем, скрепляющим проявления этого принципа, является, в
частности, жизнетворчество – позже его активно культивируют поэты-романтики,
писатели-реалисты и модернисты.
Структура диссертационного исследования определяется поставленной целью и связанными с нею задачами. Данное диссертационное исследование включает в себя введение, три главы, заключение, библиографию, приложение (здесь приводится ранее неопубликованное стихотворение Львова, необходимое для нашего анализа).
Кредо «простака» в истории русской литературы
Маска является одним из интереснейших механизмов функционирования не только литературы, но и человеческой культуры вообще. Генетически маска возникла из элементов обряда, сохранив с ним некоторую семиотическую связь и доныне [Леви-Строс 2000, Иванов 2007]. В отношении же Нового времени исследователи выделяют две основные среды бытования маски – карнавальную [Бахтин 1990] и маскарадную [Иванов 2007]. Их отличие определил Вяч. Вс. Иванов: разница между этими явлениями «касается не только социального их использования, соотношения трафаретных и импровизационных форм, но и стилистики образов. Гротескность, присущая карнавалу в бахтинском смысле, в маскарадных формах придворной жизни сводится к минимуму» [Иванов 2007: 340]. Также этой проблемы касается Л.А. Софронова: по ее мнению, «маскарад в отличие от карнавала не имел примет священного. Именно в маскарадах маска окончательно превратилась в светский феномен» [Софронова 2006: 344]. Там же исследовательница замечает, что перелом этот случился в России именно в XVIII веке, когда «пристрастие к маскарадам захватило придворную культуру и в России» [Софронова 2006: 344]. Это отчетливо перекликается с идеями Ю.М. Лотмана о функционировании маски в обществе XVIII века по аналогии с театральным амплуа: «Для бытового поведения русского дворянина конца XVIII – начала XX века характерны и прикрепленность типа поведения к определенной «сценической площадке», и тяготение к «антракту» - перерыву, во время которого театральность поведения понижается до минимума [Лотман 2011: 188]. Эти мысли развиваются у Лотмана в общекультурологические размышления о функционировании маски и маскарада в русской культуре рубежа XVIII – XIX веков и их связи с различными моделями взаимодействия художественной и внехудожественной реальностей [Лотман 2011: 100; 197; 343].
По верному замечанию А. Компаньона, «самый спорный вопрос литературоведения – это вопрос о месте автора» [Компаньон 2001: 56]. Действитель 17 но, невозможно до конца полно перечислить все теории построения модели автора в тексте, от классических интенциональных вариантов, типа: «что хотел сказать писатель», - до известной концепции Р.Барта о «смерти автора» (сравнительно недавно попытка только лишь библиографического описания такого рода, притом заранее оговоренного как неполного, была предпринята ижевской школой изучения категории автора, основателем которой (школы) был Б.О. Корман: см. [Библиографический указатель по проблеме автора в художественной литературе 2010]). Между тем, необходимо помнить, что «текст находится в динамических отношениях с автором и читателем, в них вмешивается и литературный герой. В этих разнонаправленных связях решается вопрос об идентичности автора и героя, героя и читателя, автора и читателя» [Софронова 2006: 19]. В связи с этими диалогическими моделями выстраивается и еще одна, касающаяся взаимоотношений автора реального и авторской маски как одного из вариантов повествовательной инстанции.
С разных сторон эту проблему рассматривал М.М. Бахтин (подробно эволюция взглядов Бахтина на эту проблему прослежена в работах О.Ю. Ось-мухиной: [Осьмухина 1997; Осьмухина 2008]). На раннем этапе творчества для него характерно отношение к маске более как к философской категории: «вне героя и его сознания нет ничего устойчиво реального … нет органической слиянности внешней выраженности героя … с его познавательно-этической позицией, эта первая облегает его как неединственная и несуществующая маска или же совсем не достигает отчетливости, герой не повертывается к нам лицом, а переживается нами изнутри … наконец, завершающие моменты не объединены, единого лика автора нет, он разбросан или есть условная личина» [Бахтин Эстетика… 1979: 20]. Позже, что важно для нашего исследования, Бахтин приходит к более конкретному пониманию маски сквозь призму народной смехо-вой культуры и связывает ее с древней традицией карнавала и функционирования масок шута и трикстера [Бахтин 1990]. Кроме того, еще позже ученый приходит и к другому важному для нас пониманию одной конкретной масочной формы – авторской маски «шута/дурака», являющейся для образа автора рома 18 на «идеальной» с точки зрения выразительной полноценности [Осьмухина 1997].
Исследованием литературной масочности в интересующих нас формах, правда, уже с уклоном в культурологический контекст, занимался, о ем мы сказали выше, и Ю.М. Лотман. В частности, в «Комментариях» к «Евгению Онегину» Лотман говорит о приемах типизации героев, являющихся созданием творческого воображения автора, и героев – «условных масок реальных лиц» [Лотман 1980: 29]. Подобную масочную стратегию мы увидим, в частности, у Н.А. Львова в поэме «Ботаническое путешествие на Дудорову гору» (1792) (о других интересных аспектах соотнесения «Евгения Онегина» и «Ботанического путешествия…» см.: [Пашкуров Предромантическая загадка… 2010]). Также уже в своеобразном жизнетворческом аспекте Ю.М. Лотманом анализируются различные маски в поэтике и поведении Н.М. Карамзина: не только литература «переливалась в жизнь, но и жизнь становилась формой литературного творчества» [Лотман 1966: 23]. Далее это выльется у ученого в приведенные нами выше размышления о поэтике масочности в бытовом поведении.
Теория литературной маски разрабатывается как частный момент исследований, и в современных работах литературоведов самых разных направлений (исчерпывающий анализ исследований и библиография по этой проблеме даны в первой главе монографии О.Ю. Осьмухиной [Осьмухина 2008]). В трудах западных теоретиков постомодернизма авторская маска отождествляется не с лицом, за ней скрывающимся, а приравнивается к некоей сущности личности / художественного образа; она, по сути, фиксирует момент трансгрессии, скрывая не лицо, но его отсутствие, «мертвую сущность» [Делез 1992; Бодрийар 2004; Малмгрен 1991]. Современные российские ученые придают данному термину несколько смыслов. Так, И. Скоропанова считает, что «гиперперсонажная маска» предполагает наличие в тексте рассказчика, собранного как коллаж из цитат разных дискурсов, всячески подвергающегося пародированию и не являющегося полнокровным художественным образом [Скоропанова 1998]. И.П. Ильин же предполагает, что авторская маска является связующим центром,
уберегающим произведение от коммуникативного провала. О.Ю. Осьмухина, подводя своеобразный итог, предполагает, что такая дефиниция «авторской маски», обозначает, по сути, авторскую объективированную волю, оказывающуюся неким «посредником» текста и автора, обозначает в принципе ту же самую инстанцию, которая в нарратологии именуется «фиктивным автором» [Осьмухина 2009].
Идея нарративной маски «возникает на пересечении действительности как объекта изображения и воспроизведения коммуникативной ситуации, прагматической структуры, внутри которой происходит само рассказывание, изображение самого процесса изображения жизни в слове как части самой этой жизни» [Лотман 1994: 279]. В целом же, нарратология не оперирует понятием авторской маски как жестко зафиксированного термина. В частности, в работах В. Шмидта эта категория скорее подразумевается, нежели проявляется напрямую. Опосредующим звеном передачи функций маски становится вышеупомянутый «фиктивный автор» [Шмидт 2009]. Он, по сути, несет в себе потенции всех необходимых черт феномена масочности. Особенно ярко это проявляется в категории «сказа», которой нарратология активно пользуется. Нарратор в «сказе» предстает фиктивным «заместителем автора», он не просто «ведет» повествование, но и импровизирует, воссоздавая события, участником или свидетелем которых он являлся. При этом сказ передает специфические особенности устной речевой манеры героя-нарратора создается, таким образом, не только речевая маска повествователя, но и сама авторская маска.
Литературная маска «простака» в поэмах Н.А. Львова: эволюция и типоло гическое многообразие
Лироэпическая структура поэм является, как нам кажется, одной из важнейших составляющих развития масочного принципа. Именно в лироэпике становится возможным соединение на жанровом уровне авторского нарративного и лирического типов развития внутренней формы произведения (Львов, в частности, играя под маской «простака» в своих поэмах, как мы увидим далее, «овеществил» этот принцип, «понял» его буквально и выявил как сочетание стиха и прозы [Орлицкий 2001]). При этом, учитывая, что поэма является одним из ведущих жанров русской литературы XVIII века, мы видим самые разные ее трансформации и, следовательно, самые разные способы раскрытия авторского начала. Так, например, в дидактической «Феоптии» Тредиаковского развивается принцип изображения автора как наставника читателя, вполне ясный морализаторский тон. Традиционный для классицистической одичности «высокий» и несколько отстраненный автор свое полное воплощение получает в историко-героической поэме: ломоносовском «Петре Великом» и «Россиаде» Хераскова [Серман 1973; Пашкуров, Разживин 2010]. Между тем, игра начинает разрушать твердые принципы подобной поэтики и в «Игроке ломбера», «Елисее…» В. Майкова начинает прорываться активное игровое [Гуковский 2001: 184] масочное начало, притом, что для нас особенно важно, начало это по своему характеру явно «простодушное» и утрированно-сниженное – такой тип письма будет активно существовать вплоть до «Опасного соседа» В. Пушкина и филимоновского «Дурацкого колпака» - определенный «ложный» автобиографизм здесь своеобразно сочетается с мифологической детализацией. Подобную картину, но в гораздо менее концентрированном виде мы наблюдаем и в «легкой поэме» - в «Душеньке» Богдановича функционирует уже маска соответствующего ненавязчивого «простоватого» автора, который пишет произведение, как он сам заявляет во вступлении в поэму, только для собственного удо вольствия. В целом же, при отходе от классицистических норм, поэма становится более открытой для игры и масочности, в предромантической поэме авторская маска получает огромные потенции для своего развития и функционирует в ряде разных своих модификаций – от образов фольклоризованных бардов (как русских («народная» богатырская поэма предромантизма – произведения Карамзина, Радищевых, Державина, и др. [Разживин 2001]), так и «зарубежных» (оссианические опыты русских предромантиков, например, «Картон» Капниста [Левин 1980])). Гармонично вливается в эту систему и поэмное творчество Львова, в котором принцип масочности представляется одним из смыс-лообразующих узлов.
Перу Н.А. Львова, как известно, принадлежат три поэмы. Это «Русский 1791 год. Зима», «Путешествие на Дудорову гору» и «Добрыня». Впрочем, что характерно для всего львовского творчества, трудно дать этим произведениям однозначную четкую жанровую дефиницию, «поэмами» мы будем их называть вслед за уже сложившейся историко-литературоведческой традицией [Западов 1971, Лаппо-Данилевский 1994, Милюгина 2009] и исходя из их объема.
Все львовские поэмы значительно отличаются друг от друга. Различия эти проявляются практически на всех уровнях текста, и на этом следует остановиться подробнее.
Для начала нужно сказать о том, что при жизни Львова была опубликована лишь одна из поэм – хронологически первая, «Русский 1791 год. Зима». Две другие публиковались уже после смерти Львова по его рукописям и при жизни писателя были известны лишь его ближайшим друзьям. Данное обстоятельство представляется весьма важным в свете темы нашего исследования – в отношении литературной маски, как мы уже заметили выше, всегда необходимо учитывать автобиографический и историко-культурный контекст [Осьмухина 2008]. От степени интенциональной соотнесенности в публикации характерных для Львова «зашифрованных» от досужего взгляда элементов и общедоступных размышлений зависит зачастую вся структура поэтики произведения. И в этом отношении три львовские поэмы, имплицитно очень разные, при взгляде с высоты всего творческого пути поэта, выстраиваются в гармоничную систему с взаимодополняющими элементами: отредактированная и опубликованная самим Львовым «Зима»; незаконченная, но явно предназначавшаяся для публикации (исходя из теоретической декларативности Введения) «Добрыня»; и «домашняя», известная лишь дружескому кругу - «Путешествие на Дудорову гору». Таким образом, три эти поэмы в совокупности дают возможность проследить самые разные вариации реализации масочных форм в работе Львова с крупными поэтическими жанрами.
Все вышесказанное можно отнести и к другим характерологическим чертам львовских поэм, уже на уровне текстовых и содержательных особенностей. С одной стороны, все эти поэмы абсолютно различны по своей тематике. Если «Русский 1791 год», обобщенно говоря, посвящен приходу в Россию зимы, а «Путешествие на Дудорову гору» - научной, но и развлекательно-игровой экскурсии к одноименной горе, то «Добрыня» представляется своеобразным видом теоретического трактата о проявлении национальной идентичности в разных ее формах (от стиховых до образных). С другой стороны, различны произведения и по формальным признакам: Львов использует многообразный спектр художественных решений, играя не только стихотворными размерами и разным соотношением прозаических и стихотворных элементов, но и синтезом документального и художественного начал.
Между тем, встает закономерный вопрос: что же скрепляет все эти поэмы, помимо выделенного выше общего контекста творчества Львова? Ведь он важен скорее для отстраненного и ищущего цельности литературоведческого взгляда, нежели для собственно внутренних особенностей поэтики. Нам кажется, что таким скрепляющим и проходящим через все творчество Львова художественным элементом может считаться именно литературная маска, постоянно эволюционирующая у Львова к более сложным своим формам, но при всем типологическом многообразии сохраняющая определенные конституирующие черты. И именно сквозь призму масочных форм открывается возможность понять некоторые глубинные особенности львовского творчества и, конкретно, поэм «Гения вкуса». Данную проблему мы и будем разбирать далее, последовательно двигаясь от одной поэмы к другой.
Поэма Н.А. Львова «Русский 1791 год. Зима» была одним из немногих произведений, напечатанных при его жизни. Впервые она вышла отдельным изданием в 1791 году в Санкт-Петербурге, затем была частично переиздана в первых трех частях мартыновской «Музы» за 1796 год, правда, здесь ее опубликовали уже без подписи и посвящения, еще и исключив несколько стихов. Исследователи вслед за В.А. Западовым [Западов 1971, Лаппо-Данилевский 1994: 406] закономерно видят связь этой поэмы с державинской одой «На рождение в Севере порфирородного отрока» [Державин 1957: 87-89]. Также прослеживается здесь и связь с державинским же шуточным «Желанием Зимы» (1787), с «Желанием зимы» М. Муравьева (1778), наброском Хемницера «Зимою стужу мы несносной называем…» (б.д., до 1784) и элегией Капниста «Зима» (б.д., опубл. 1805) [Милюгина 2009: 174]. Однако нам бы хотелось подробнее остановиться именно на связи «Русского 1791 года» с одой «На рождение…», так как перекличка этих двух текстов объясняет многое в поэтике львовской поэмы, да и державинский текст является отправной точкой для его же «Желания…». Здесь следует помнить об особой атмосфере львовского кружка, в котором активно обсуждались и подправлялись тексты друг друга и часто возникали полемики на самые разные темы, в основном, конечно, о путях развития поэзии и ее особенностях.
Литературная маска «простака» в лирике Н.А. Львова
Стихотворения Н.А. Львова – явление не менее уникальное, чем его поэмы. Основной особенностью при их характеристике следует считать все то же игровое начало, определяющее для поэтики «Гения вкуса». В малых поэтических формах Львов продолжает следовать своему релятивистскому принципу многомерности художественного пространства, что и реализуется в употреблении им множества масок, как авторских, так и персонажных [Осьмухина 2009: 16]. При этом лирика Львова направлена на предромантические ориентиры, для которых характерно подчеркивание важности понятия искусства как такового. В поэтике предромантизма мы видим, что автор становится важен как никогда, претендуя на статус Гения. Соответственно, повышается и статус произведения искусства как средства общения этого автора с миром.1
Прежде чем переходить непосредственно к рассмотрению реализации литературной маски «простака» в лирике Львова, необходимо в общих чертах определить ее особенности и место в русской литературе XVIII века. На раннем этапе творчества все произведения поэта написаны именно в малых стихотворных формах. Многие потенции львовской поэзии связаны с историей и теорией формировавшегося Львовского кружка.
Но начиналось все еще в годы учебы Львова. В марте-июле 1771 года будущий поэт и еще несколько его друзей-учеников кадетской школы для солдат гвардейских полков, Николай Осипов, Петр и Николай Ермолаевы [Милю-гина 2009: 30], составляют рукописный журнал «Труды четырех разумных общников». Уже здесь, «несмотря на общую классицистическую ориентацию, ярко проявилась индивидуальность молодого поэта» [Лаппо-Данилевский 1994: 8]. Ранние сочинения поэта написаны в определенном следовании сумароков-ской школе [Гуковский 2001] и отличаются культивированием легкой игровой «У авторов русского классицизма лирическое выражение обязано своей психологической убедительностью не «искренности», т.е. не субъективной правдивости, а правдоподобию изображения, предметом которого является какое-то чувство: лирика здесь является своего рода imitatio naturae. Правдивость, на которую она претендует, носит универсальный характер, касаясь не индивидуального чувства самого поэта, а человека «как такового» [Клейн 2011: 226]. рефлексии (например, «Во что труды употребить…» или «Хочу писать стихи…») и мышлением в рамках средних и низких классицистических жанров (Львов пишет загадки, басни, эпиграммы, шуточные сатиры). Впрочем, учитывая, что сам Сумароков во многом являлся разрушителем поэтики классицизма [Серман 1973; Алексеева 2011; Веселова 2011], мы можем говорить и о том, что и его последователи, так или иначе, принимали участие во «взрыве» этого направления изнутри [Курилов 2001]. Освоение Львовым игровой поэтики малой формы в духе произведений популярных тогда Ржевского и Богдановича сыграет важную роль в дальнейшем развитии им собственных творческих принципов.
Далее литературные интересы Львова в области этих малых стихотворных форм, с одной стороны, вполне соответствуют общелитературному развитию таких жанров в России: поэт периодически возвращается в своем творчестве к уже эволюционировавшему в свои более сложные формы классическому жанру басни, который у него остается так же классически правилен и отличается «тщательной литературной отделкой» (ср. с творчеством его друга И. Хем-ницера, а затем И. Крылова и А. Измайлова). Львов не забывает и об игровой эпиграмме, надписи, занимается переводом из писателей как Нового времени (Расин, Вольтер, Руссо, Прадон), так и античности (Сапфо, Анакреонт).1 Но, с другой стороны, Львов значительно «модернизирует» содержание этих жанров, заметно привнося в них элементы поэтики сентиментализма и предромантизма – несомненно здесь влияние общекультурного контекста и круга чтения писателя, который в это время определяется сочинениями, где раскрывается не схематическое, а личностно-индивидуальное начало в человеке [Лаппо-Данилевский 1994: 13]. Примечательно, что к этому же времени складывается и первый львовский кружок, в котором сразу несколько виднейших писателей развивают идеи новой литературы. Однако, например, Г.А. Гуковский считает, что и «они львовский кружок были в большей или меньшей степени связаны
1 Причем переводы из последнего, объемистые «Стихотворения Анакреона Тийского» в трех книгах, на самом деле, конечно, в основном переводы не произведений древнегреческого писателя, а распространенной анакреонтеи [Салова 2004], но Львов тогда еще не мог этого знать и считал, что переводит именно Анакреонта. с традициями сумароковской школы. Львов, эрудит, теоретик, ближе всех подходил в своем творчестве к наследию самого Сумарокова. Хемницер принял из рук сумароковцев распадавшуюся басню и возрождал ее, исходя из данных работы Хераскова. Капнист (в 80-х годах) продолжал традицию филозофически-торжественных (лиродидактических) од» [Гуковский 2001: 196]. Это утверждение представляется нам довольно спорным: все же творческая установка кружка была в большей степени самостоятельной и во многом строилась как раз таки на отрицании классицистической системы (а ведь именно Сумароков, автор «Эпистолы о стихотворстве» как мы помним, был одним из наиболее последовательных русских теоретиков этого), к тому же «именно в кружке сформировалось то направление, которое в истории русской литературы позднее получило наименование "предромантизм"» [Западов 1981: 4] и которое было настроено по отношению к представителям классицистического искусства даже более полемично, чем сентиментализм [Кочеткова 1994].
Кроме того, не менее важно для нас то, что в кружке Львова создается культ «дилетантизма» [Лаппо-Данилевский 2008], порождающий соответствующее отношение и к жанровым формам – «поэт-дилетант», как образ автора, «намеренно создаваемого в художественном тексте» [Лаппо-Данилевский 2008: 67], может делать в пространстве произведения все, что ему заблагорассудиться и создавать какие угодно стихотворные формы, так как он заранее признается в своей «теоретической несостоятельности» ввиду собственной «глупости» (разумеется, маски). Наиболее последовательно такую философию дилетантизма под маской «простака» проводил в своем творчестве, как мы уже не раз говорили выше, именно Н.А. Львов. При этом у Львова она удачно сочетается и дополняется категорией «литературной домашности» [Гений вкуса 2008: 158], расширяющей объемы вседозволенности, так как создается иллюзия текста, обращенного к узкому кругу друзей / родственников и не предназначенного для широкой аудитории, всеобщего критического суда. Львовский поэт - уже не одический оратор [Тынянов 1977], а внешне - только «внутрисемейный певец». Соответственно мы можем говорить и о развитии содержательной структуры произведений, в которой, что характерно для становящихся в том числе и в творчестве Львова поэтик сентиментализма и предромантизма, тематический акцент переносится с внешнего на внутренний мир человека [Пашкуров 2004: 39]. Помимо всего прочего, сюжетной основой нередко становится «мелкий случай из личной жизни», в противовес все тому же классицистическому «государственному событию».
Характеры «простушек» в пьесах Н.А. Львова
С одной стороны, здесь типичная ярмарочная переброска словами, с другой же – отсылка к традиции общения шутов с царскими особами. В итоге, именно Вахрушу Офицер доверяет курьерскую депешу. Таким образом, скрывающийся под маской «простака-балагура» герой оказывается (как и в случае с Янькой) наиболее рациональным среди всех в отдельно взятой ситуации.
Продолжая разговор о проявлениях маски «простака» в «Ямщиках на подставе», следует сказать и об отдельно выделяемой в драматургии Львова темы женского простодушия. В данной пьесе единственной героиней и, соответственно, единственной претенденткой на звание носительницы маски является Фадеевна. Однако выраженность черт маски «простушки» в данном случае сведена к минимуму, как, в принципе, и весьма слабо прописан сам этот образ. Жена Тимофея предстает здесь, по сути, типичной женой из фольклорных сказок и былин. Это подчеркивается как минимальным количеством монологов от ее лица, так и их характером. Если в речи остальных героев из числа основных практически в равном количестве представлены и прозаические, и стихотворные элементы, то основной вклад Фадеевны в речевую структуру - это лишь несколько строк, да и то в «подпевке». Возможно, это связано с несопоставимой даже во времена Львова ролью в театре женских и мужских образов. В большинстве своем, наиболее сложными и подробно выписанными были характеры мужских героев. Женские же отставали от них даже в эпоху романтизма. Во многом, лишь Островский в середине XIX века смог впервые вывести женский образ на первый план наравне с мужскими. Эта же линия прослеживается в «Парисовом суде», даже несмотря на то, что здесь количественно женские образы равны мужским.
Ни Юнона, ни Минерва, ни Венера оказываются не способны поменять жанровую тенденцию. Все они оказываются, по сути, готовыми моделями, масками, прикрывающими пустоту. Автор, при этом, намеренно утрирует классицистическую аллегоричность и буквально реализует представление о каждой из богинь: «Юнона в наряде богатой купчихи, кокошник с павлиными перьями, в колеснице, которую везут две нимфы, хвосты павлиные» [Львов 1994: 295], «Минерва, одетая в куртке, юбка коломенковая, по ней портупея, а вместо сабли циркуль, на голове шишак; за нею последователи с глобусом, с телескопами, а прочие другие с бердышами, с щитами, полукругом по другую сторону дуба» [Львов 1994: 297]. Льишь Венера остается у Львова предельно «настоящей: Слышен плясочный напев, флейты и голоса. Прежние и Венера. Венера (отгоняющая своих служащих При заявленной самой Венерой собственной «простоте»: Я премудрость почитаю, Издали, как божество; Но быть мудрой не желаю,
Скучновато ремесло [Львов 1994: 300] - она, в итоге, и выигрывает спор, оказавшись расторопнее своих сестер. В финале же мы видим истинную, по мнению автора, сущность соперниц Венеры: «Последователи обеих богинь тоже повторяют хором и из смешения «как плох!» и «куда как так» выходит, что наседки раскудахтались» [Львов 1994: 306], Меркурий и Венера Им, богиням полновесным, Как животным бессловесным, Дал судьею пастуха [Львов 1994: 307].
В данном случае дополнительно акцентируется внимание на бурлеске как основе всей пьесы. Парис одновременно выступает в двух ипостасях, которые, по мнению героинь, во многом являются взаимоисключающими, то есть реализующими масочный принцип сосуществования в пределах одной системы как минимум двух разных инстанций.
Вышесказанное в отношении всего «героического игрища» обозначил в завершение сам Парис: (обращаясь к богам) Стыдно вам, сынам небесным, Что под носом вашим честным Вышла эдака чуха! [Львов 1994: 308].
Если в «Ямщиках на подставе» четко выражена программная нацеленность и продуманность всей структуры произведения, то здесь автор снова скрывается под маской дилетанта, возвращаясь к доминирующим во всем львовском творчестве принципам.
Сразу в двух пьесах Львова мы видим преобладание именно персонажных, а не авторских масок. Если в комедиях, «Ямщиках на подставе» и «Пари-совом суде» на первый план выходит своеобразие выбранной автором стратегии построения речевой или композиционной структуры, то в комедии «Сильф, или Мечта молодой женщины» и в «шутке» «Милет и Милета» мы можем говорить о большем значении персонажной структуры.
В двух последних произведениях, по сравнению со львовскими «игрищами», интересной определяющей чертой становится их вторичный характер. К.Ю. Лаппо-Данилевский со ссылкой на Е.Д. Кукушкину сообщает, что пьеса «Сильф…» является переработкой новеллы Ж.-Ф. Мармонтеля «Муж-сильф» (1758). «Н.А. Львов «сжимает» действие до 24 часов, русифицирует имена и характеры персонажей, вводит новых действующих лиц (Андрей). … главный герой французской повести маркиз Воланж (в отличие от соответствующего персонажа русской комической оперы) не только стремится завоевать любовь своей жены, но и желает испытать ее добродетель. [Лаппо-Данилевский 1994: 408]. Львовская комедия оперирует стандартными приемами легкой комедии второй половины века. При этом в «Сильфе…», сообразно веяниям эпохи соединяются приметы классицистической и сентименталисткой комедий. При этом приметы второй в значительной степени являются темой для иронического переосмысления. В данном случае, по аналогии с сентименталистскими опытами Львова, герои обретают черты простаков, прежде всего, благодаря своей чувствительности и способности к сопережеванию, эмпатии. Первым качеством больше обладает, конечно, Мира. Вторым же – Нелест.
Аналогичные качества характерны и для «Милета и Милеты», с той лишь разницей, что здесь уже нет столь четкого разделения по характеру героев. Тем не менее, в двух пьесах основными персонажами, вокруг которых вращается все действие, являются именно Мира и Милета. Именно их фантазии являются основными двигателями действия.
Но прежде чем перейти к анализу непосредственно персонажных масок произведений, нужно казать и о том мире, в котором «живут» герои. Оказывается, при этом, что «Милет и Милета» данном отношении устроена гораздо проще «Сильфа…». В первом случае мы имеем дело с единично созданной реальностью в пределах одного текста. Во второй же пьесе существуют как минимум три плана существования персонажей. Во-первых, это мир «реальный», в котором существуют все герои. Он сконструирован, прежде всего, для Нины и Андрея. Они осознают и принимают наличие двух других вариантов реальности, приметой каждой из которых предстают их господа: «Нина (одна). Какие чудесники! Жена проказит да воздушных любовников выдумывает. Муж бежит от земной жены да по ночам звезды считает, а нам, право, нет покою!» [Львов 1994: 208].