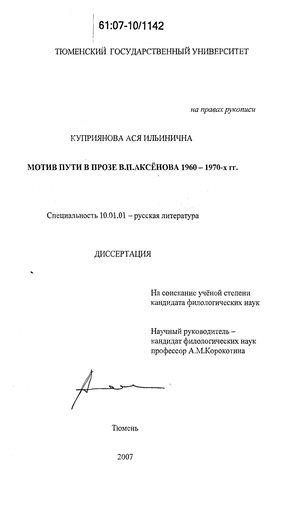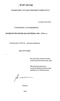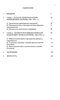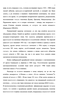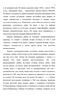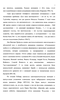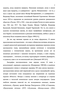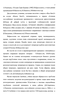Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Путь как сюжетная основа произведений В. Аксёнова 1960 -1970- х гг . 26
1. Динамическая характеристика персонажей 28
2. Пространство быта и пространство бытия (феномен повседневности) 51
3. Векторы пути героя (центр и периферия) 68
ГЛАВА 2. Мотив пути в мифопоэтической модели мира прозы В.Аксёнова 1960-1970-х гг . 89
1. Мифологическое время и пространство (архаика и современность) 93
2. От ритуала к карнавалу: игровой характер повестей В. Аксёнова 115
3. Деконструкция мифа в художественных исканиях В. Аксёнова 134
Заключение 158
Литература 166
- Динамическая характеристика персонажей
- Пространство быта и пространство бытия (феномен повседневности)
- Мифологическое время и пространство (архаика и современность)
- От ритуала к карнавалу: игровой характер повестей В. Аксёнова
Введение к работе
В настоящее время в литературоведении активизируется интерес к литературному процессу шестидесятых - семидесятых годов. Предпринимается попытка охарактеризовать явления современной литературы, которые начали зарождаться в шестидесятые годы, формируется новый взгляд на исторические, культурные события периода «оттепели».
Критика и публицистика шестидесятых годов не могли в полной мере отразить характер происходящих перемен, так как феномен "оттепели" был в стадии зарождения. Осмысление этого явления осуществлялось значительно позднее - в период так называемой «второй оттепели», в 1980-е годы. Достаточно чётко обозначил проблему С.Чупринин: «Нужно решить, по крайней мере, для себя, чем же была "оттепель"... Временем больших ожиданий, хотя бы отчасти оправдавшихся? Или временем, когда в обществе начался процесс утраты всех и всяческих иллюзий? Что такое "оттепель"?.. Начало трудного выздоровления общества и литературы? Или краткосрочная обманчивая ремиссия?» [Чупринин 1989:4].
Дискуссия по этому поводу развернулась на страницах журналов. Ю.Буртин писал о том, что в хрущёвское время «политической оппозиции в стране не было, так как не было для неё почвы: возможность открытого самовыражения практически для каждого течения мысли, способного рассчитывать на сколько-нибудь широкую общественную поддержку, по сути дела, исключала вероятность её появления» [Буртин 1987:38].
Противоположное мнение высказала А.Латынина: «Достаточно полистать газетные подшивки, чтобы убедиться хотя бы в том, что успешная травля Пастернака прошла именно в то светлое время, когда, по Буртину, были возможности "открытого самовыражения для каждого течения мысли". И каковы были возможности для самовыражения присутствовавших на известных встречах Хрущёва с интеллигенцией? На право открытого самовыражения могли рассчитывать только те, кто прозрел на волне XX
съезда настолько, насколько им это позволили» [Латынина 1988:17]. Исследователи продолжают полемику, начавшуюся между журналами «Новый мир» А.Твардовского и «Октябрь» В.Кочетова, так называемыми лагерями «шестидесятников» и «охранителей» [Н.Лейдерман, М.Липовецкий 2003:92].
Обсуждение не прекратилось и в последующие годы. П.Вайль и А.Генис в книге «60-е. Мир советского человека» (1988) характеризуют эпоху шестидесятых как «мир накануне праздника»: «Плакаты, заголовки газет, радиопесни, призывы с трибун - всё напоминало человеку шестидесятых: жизнь прекрасна! А прекрасна она, прежде всего, потому, что будет ещё прекраснее. В то время как сталинские годы постулировали: жить стало лучше, жить стало веселей, 60-е делали упор на предстоящих радостях... В 60-е смеялись все и смеялись не "над чем", а "отчего"...» [Вайль, Генис 2001:142]. Критический отзыв на эту работу дала О.Седакова в статье "Шум и молчание шестидесятых". Она упрекает аторов в празднично-бравадной упрощённости ("не все рождаются сангвиниками"), с которой они передали атмосферу тех лет. По её мнению, картина 60-х получилась плоская, как плакатная графика. «Возвращение из лагерей, прошедшая без выяснения отношений встреча двух России: той, которая сажала, и той, которая сидела, по слову Ахматовой; «Доктор Живаго», поднятая им волна послехристианского возрождения, о которой за более шумными и массовыми обращениями 70 - 80-х забыли, - вещи, в которых не было ничего от комсомольского водевиля, на фоне которых кукурузная и космическая кампании, да и культ Папы Хэма выглядят странным бездумием не только из их ближайшего прошлого, но и из их ближайшего будущего» [Седакова 2000:51].
Не принял позицию П.Вайля и А.Гениса Б.Парамонов: «Мои друзья написали книгу, в которой мираж, придуманный заскучавшими палачами, выдали за социальную историю шестидесятых» [Парамонов 1998:201]. Для него «оттепель» - это попытка возродить уже умерший коммунистический
миф, то есть очередная ложь, поэтому он называет период 1953 - 1968 годов эпохой небытия, культурно-исторической пустотой, в которой «не было ничего, а уж оттепели и подавно». Единственное позитивное, что имело место в это время, это реставрация исторического прошлого, ретроспекция, восстановление статуса классиков (Бунин, Цветаева, Мандельштам). Для Парамонова первая, как и вторая «оттепель» - химера, она аморальнее и «хуже Сталина: плодила иллюзии, от которых тот молча отказался» [Парамонов 1998:201].
Разноречивый характер «оттепели» до сих пор остаётся предметом обсуждения учёных. Одной из проблем является обозначение границ этого историко-литературного этапа. Как правило, датировка производится с ориентацией на значимые общественно-политические события. Так верхней границей одни называют 1953 год - год смерти Сталина и приход к власти Хрущёва, другие начало «оттепели» соотносят с 1956 годом, в котором состоялся XX съезд партии, разоблачивший «культ личности». Третьи считают, что начало глобальных перемен в жизни советского общества следует отнести к 1961 году, так как в это время была принята новая программа построения коммунизма.
Конец «либеральной хрущёвской эпохи» связывают с постановлением об аресте Синявского и Даниэля в 1964 году. Окончательное крушение шестидесятнических иллюзий чаще всего датируют 1968 годом (ввод советских танков в Чехословакию).
Несмотря на активное внимание к этому вопросу, он до сих пор остаётся незакрытым. А.Чичкин в статье «Когда началась "оттепель"?» относил её начало к 1940 - 50-ым годам XX века: «Уже почти полвека не только политологи утверждают, что демонтаж так называемой «сталинской системы»... начался уже через несколько лет после кончины И.В.Сталина... И послесталинская, и нынешняя российская официальная «версия» истории гласит, что именно с хрущёвских времён пошла десталинизация, включая восстановление в правах миллионов людей, отверженных сталинской эпохой
6 и её претворителями. Но многие документы конца 1940-х - начала 1950-х годов... опровергают такую ... «хрущёвскую» версию» [Чичкин 2002:209]. По мнению исследователя, реабилитационные процессы инициировал лично Сталин: согласно документам, ставшим доступными лишь недавно, он отдавал распоряжения о возвращении власовцев из лагерей, вернул «кулаков» на родину и т.п. М.Одесский в статье «Поэтика «оттепели» также развенчивал «оттепельные» мифы. Он пишет о том, что реформы шестидесятых годов есть не что иное, как просто «пиар Хрущёва»: «Хрущёв выстроил пропагандистскую модель XX съезда, легко запоминаемую и внедряемую в массовое сознание» [Одесский 2004:114].
Нередко публикуются работы об «оттепели» автобиографического характера, что говорит о желании авторов взглянуть на себя и своё творчество с позиции более зрелого возраста. В работах В.Иофе, Л.Лурье, А.Зверева, Л.Анненского и многих других звучит тема поколения шестидесятников.
Понятие «шестидесятничество» достаточно широко используется в литературе, критике, публицистике, однако каждый исследователь понимает под ним нечто своё. «Нельзя всё поколение родившихся в начале и в середине 30-х годов называть шестидесятниками. Это очень распространённая ошибка, бытующая особенно активно сейчас, когда многим кажется, что настало время шестидесятников... Сегодня мы часто слышим, читаем и определяем: «этот из шестидесятников» или «мы -шестидесятники» (так, кстати, назвал книгу очерков и статей А.Адамович, выпустив её в 1991 году). По каким параметрам определяется это качество: по возрасту? По внешнему виду? По целям? По мифам?... <...> Пленум московской писательской организации в 1962 году обсуждал творчество молодых писателей, среди которых, наряду с названными Е.Евтушенко, Р.Рождественским, А.Вознесенским, В.Аксёновым, Б.Ахмадуллиной, звучали имена В.Чивилихина, Е.Исаева, Ю.Семёнова, Г.Семёнова. Очевидно, что не
все писатели, художники, бывшие молодыми в 60-е годы, стали шестидесятниками в нашем сегодняшнем понимании» [Торунова 1996:15].
Сами представители «четвёртого поколения» соглашаются с такой постановкой проблемы: «Для меня шестидесятник - это не то, что для Горбачёва, например, или для артиста Михаила Ульянова. С иной точки зрения получается, что шестидесятники - это сервильные люди, которые в ЦК партии сидели и выпускали всякие соцреалистические романы... Мой шестидесятник - это джазовый саксафонист Козлов... <...> А мы уже привыкли считать, что шестидесятник - это скучное морализирующее существо, типа ограниченного диссидента, а шестидесятники - это ведь богема была. Вот те, кто сохранил память об этой богеме, - они для меня и есть шестидесятники» [Аксёнов 1996:7].
Для Виктора Ерофеева основа шестидесятнического мировоззрения в абсолютной вере в незыблемость принципов гуманизма: «Столкновение казённого и либерального гуманизма сформировало философию хрущёвской «оттепели», которая основывалась на «возвращении» к подлинным гуманистическим нормам. «Тепло добра» стало тематической доминантой целого поколения поэтов и прозаиков 60-х годов (Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Василий Аксёнов, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Владимир Войнович, Георгий Владимов и др.), впоследствии именуемого "шестидесятниками". С их точки зрения, критика гуманизма была недопустимой роскошью, мешающей борьбе с лицемерным режимом, возможности привести его к желаемой модели «с человеческим лицом» [Ерофеев 2001:10].
По мнению В.Иофе, идеология «шестидесятничества» восходит к программным установкам подпольных групп либерального коммунизма начала тридцатых [Иофе 1997:214]. Лев Лурье именует поколение «пятидесятники», но, по сути, говорит о том же феномене, основываясь на теории сверстнических групп Карла Мангейма: «Мангейм ввёл понятие осевого события, определяющего облик поколения. По-русски - того
момента, когда меняются портреты. Поколение возникает, когда в школе висят одни портреты, а в университете - другие. Пятидесятники - это те, у кого в школе над доской висел Иосиф Виссарионович, а в университете -Владимир Ильич, постепенно оттеснённый Никитой Сергеевичем. Молодые после 1953-го определили на десятилетия уровень развития гражданского общества в России. 1953 и 1956 - годы для истории России не менее важные, чем 1762 или 1917. Это Борис Ельцин, Михаил Горбачёв, Владимир Буковский, Евгений Евтушенко, Андрей Тарковский. Это те, кто учился в мужских послевоенных школах, но видел «трофейные» кинофильмы, для кого борьба с космополитизмом и реальная поножовщина, любовь к джазу и комсомолу были соединены вместе» [Лурье 1998:211].
До сих пор значение термина не до конца оформилось. В нашем представлении шестидесятники - это люди с общностью взглядов, интересов, с единой ценностной ориентацией, восторженно принявшие перемены начала шестидесятых годов, вдохновлённые идеями «оттепели» о построении социализма с «человеческим лицом», на протяжении долгих лет не желающие расставаться с идеалами молодости, которые, в свою очередь, «накладывают... отпечаток, по-своему структурируют сознание, формируют, в сущности, один и тот же писательский тип» [Линецкий 1997:251].
Биографии шестидесятников тоже нередко схожи. В связи с актуализацией «принципа искренности» [Померанцев 1989:48] и подъёмом исповедального начала в литературе середины XX века многие писатели -шестидесятники начали свой творческий путь в русле «молодёжной» прозы, которая постепенно стала складываться как направление на страницах журнала «Юность». Интерес к новому явлению в литературе со стороны критики и читателей моментально сделал авторов популярными. Среди наиболее знаковых повестей тех лет исследователи отмечают, помимо аксёновских, «Хронику времён Виктора Подгурского» (1956) А.Гладилина, «Продолжение легенды» (1957) А.Кузнецова, «Молодо-зелено» (1961)
А.Рекемчука, «Письма Саши Бунина» (1962) В.Краковского, а также ранние произведения В.Максимова, В.Липатова, В.Войновича и др.
Дидактическая установка, смещение акцентов с вопроса «Кем быть?» на вопрос «Каким быть?», исповедальность и лиризм сближали «молодёжные» прозаические произведения с некоторыми драматическими (В.Розов «В добрый час!»); с фронтовой «лейтенантской» прозой (Б.Окуджава «Будь здоров, школяр», Э.Ставский «Домой»); с кинофильмами М.Хуциева «Мне двадцать лет», Г.Данелия «Я шагаю по Москве»; а также с параллельно развивающимся поэтическим направлением «шестидесятников» (Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский).
Инфантилизм как внутренний стержень героя, исповедальность, ирония, жаргонная лексика стали отличительной чертой «исповедальной» прозы молодых авторов. Подъём такого рода литературы отметился не только в столичной, но и в региональной литературе (работы малоизвестных авторов П.Халова, М.Назаренко и др.)
Во многом по стилю и мировоззренческим принципам «молодёжные» прозаики подражали западным «мэтрам» - Э.Хэмингуэю, Э.М.Ремарку. Однако мы не склонны мотивировать концептуальную близость русских авторов зарубежным только лишь стремлением к подражанию, считая, что «шестидесятнические» веяния в литературе не принадлежали исключительно русскому/советскому литературному процессу. Скорее, они отражали некую общую тенденцию, характерную для ряда стран. Таким образом, имена «молодёжных прозаиков» могли бы быть вписаны в общий литературный контекст с Дж.Д.Селинджером, Б.Вианом и др.
Изучая творчество Аксёнова, учёные нередко обращаются к проблеме этого контекста: вопросом интертекстуальной и прочих видов связи между доэмигрантскими произведениями В.Аксёнова и текстами определённых зарубежных писателей занимались в своих работах Д.В.Харитонов, А.Романова; «исповедальную», «молодёжную» русскую повесть 1960-х гг. и место В.Аксёнова в этом направлении изучала Т.В.Садовникова; поэтому в
данном исследовании мы не стали подробно останавливаться на этой проблеме.
С середины шестидесятых годов «молодёжная» проза стала угасать. Сначала под сокрушительным натиском критики, обвинявшей «зажравшихся молодых» в бездушии и схематизме, затем и читательский интерес к ней стал пропадать. В действительности, сами авторы переживали непростой период своей творческой и личной биографии. Ожесточение цензуры и возобновившаяся «травля» привела к тому, что многие писатели-шестидесятники составили часть «третьей волны» русской эмиграции.
Творческий путь Аксёнова типичен для «молодых» прозаиков начала шестидесятых. «...Молодой врач Василий Аксёнов становится вполне соцреалистическим автором самого модного журнала тех лет - катаевской «Юности», а ...через два десятилетия - лидером литературной оппозиции, сплотившейся вокруг неподцензурного альманаха «Метрополь». Между этими вехами - быстрый уход в сторону от магистральной линии советской литературы, остранённость, ирония; дружба с джазистами, американофильство...» [Кулик 1999:4]. Затем диссидентство, изгнание из Союза писателей и Советского Союза, иностранное гражданство. Но, тем не менее, в плеяде «шестидесятников», чьи писательские судьбы схожи, именно Аксёнова называют «летописцем поколения», «лидером движения». «Термин «шестидесятничество» вычеканил Станислав Рассадин в ответ на мою повесть «Коллеги»... Тогда в «Юности» вышла первая часть моей повести, а периодика откликнулась огромной статьёй под названием «Шестидесятники»...» (В.Ерофеев // Огонёк 1990). По замечанию А.Ланщикова, «исповедальные авторы изо всех сил оригинальничали, но все они оказались на одно лицо. Они бежали, словно в затылок друг другу, когда виден лишь впереди бегущий лидер» [Пайщиков 1966:32]. Этим лидером и был признан В.Аксёнов.
Отличительной особенностью этого писателя оказалось то, что он, возможно, единственный из всей плеяды «молодёжных» прозаиков остался
11 верен идеалам шестидесятничества. Характерно, что как таковая «молодёжная» проза перестала существовать в конце шестидесятых - в семидесятые годы. Никто из тех, кто начинал в рамках этого направления, не вернулись к нему позднее. Все авторы - Ю.Казаков, В.Максимов, Б.Окуджава и пр.- стремились уйти в другие, новые жанры. Лишь В.Аксёнов сохранил верность рефлектирующему, открытому миру герою, в его произведениях в центре повествования оставался прежний шестидесятник с целостностью своих позиций и взглядов. В сущности своей герои В.Аксёнова остаются «вечными юношами», даже когда из «звёздных» превращаются в «престарелых мальчиков».
С самого начала аксёновское творчество не оставляло равнодушными ни читателей, ни исследователей, вызывало неоднозначные отклики критики. Первые повести В. Аксёнова написаны в русле «молодёжной» прозы, на первом плане оказывались нравственные искания молодых героев. Так как литературная критика была озабочена в первую очередь «проблемой воспитания нового человека» [Кузнецов 1961:17], все эти произведения оценивались преимущественно с позиции, полезны они или вредны для юного читателя. Герой художественного произведения должен был своим примером прокладывать молодым дорогу в жизнь. Типажи «Коллег» (1959) вполне укладывались в тему школьного сочинения «Кем я хочу быть», а потому произведение считалось полезным с точки зрения воспитания и вызывало почти единодушное одобрение, тогда как повесть «Звёздный билет» (1961), вышедшая вслед за предыдущей, подавляющим большинством критиков расценивалась как «вредная для молодёжи».
А.Терновский, критикуя повесть за приземлённость и «всеотрицательство», писал, что в ней «Аксёнову не удалось сказать самого важного, нужного современной молодёжи: героя нашего времени не получилось» [Терновский 1962:14]. В.Щербина отмечал «слабость обобщающей мысли» писателя в этой повести [Щербина 1961:192], «Автор скрупулёзно воспроизводит сумбурные (а на поверку политически путаные!)
излияния юношей и девушек, неспособных понять жизнь», - заключил В.Озеров [Озеров 1964:171], К.Чуковский не приветствовал чрезмерную концентрацию жаргона в повести [Чуковский 1961:10]. И, пожалуй, только А.Макаров и Ю.Бондарев (его обвиняли в том, что он «перехвалил» повесть «Звёздный билет»), позитивно её оценили: «В повести был задет ряд действительно важных жизненных проблем» [Макаров 1967:330].
Первым из исследователей, всерьёз обратившихся к поэтике ранней аксёновской прозы, можно назвать А.Макарова. В его книге «Поколения и судьбы» (1967) раздел «Идеи и образы В.Аксёнова» завершает ряд статей, посвященных творчеству «молодых»: Е.Евтушенко, А.Рекемчука, В.Липатова, В.Сёмина. В нём проанализирован ряд наиболее значимых произведений писателя (повести, рассказы и пьеса) в их комплексе, совокупности. В частности, исследован роман «Пора, мой друг, пора» (1963), оставленный без внимания большинством критиков тех лет, рассматривается повесть «Апельсины из Марокко» (1962), которая, напротив, вызвала острую полемику среди исследователей.
Одни хвалили повесть за воспевание оптимизма трудовой молодёжи [Ланщиков 1966: 153], другие ругали за вульгаризмы в речи героев, за то, что и сами герои получились «внутренне пустыми, неинтересными» [Панков 1969:99]. А.Макаров подчеркнул неоднозначность, противоречивость этой повести, в её основе он усмотрел полемику со схемами, распространёнными в литературе, и поставил под сомнение продуктивность такой полемичности.
Связь литературы с реальностью так или иначе позволяла советским критикам давать произведениям положительную или отрицательную оценку. Во всяком случае, до середины шестидесятых, пока В.Аксёнов оставался «своим», «молодым перспективным советским автором». Тем более неожиданной и обескураживающей оказались для всех его последующие произведения: «артистичные» рассказы «Дикой», «Местный хулиган Абрамашвили» (1964), «Победа» (1965), повести «Рандеву», «Затоваренная бочкотара» (1968) и др. Они вызвали неоднозначную реакцию
исследователей. Отмечалось, что «рассказы сочетают в себе довольно редкие в нашей литературе качества - юмор и нежность, они артистичны и чуть-чуть печальны, даже тогда, когда щегольство формы, казалось бы, переваливается в них через край». А.Жолковский, указав на перекличку между «Победой» и прозой тогда изолированного от советского читателя В.Набокова, подчёркивал вместе с тем «отличие Аксёнова от классика русского модернизма», связанное с «ориентацией на полноту реальности, верой в -пусть условное, но гармоничное - сопряжение далековатых начал» [Жолковский 1993:12].
В большинстве случаев такие произведения вызывали настороженность и негативную оценку. Критика этого периода за повестями В.Аксёнова 1970-х закрепила название «странная проза». По мнению В.Меженкова, «поломки» на пути в большую литературу у Аксёнова произошли ещё в момент выхода в свет повестей «Звёздный билет» и «Апельсины из Марокко», а «Рандеву» исследователь счёл «уже не поломкой, а аварией в творческой биографии В.Аксёнова»: «Если по поводу «Затоваренной бочкотары» при общей единодушной отрицательной оценке критики ещё спорили..., то повесть «Рандеву» - будем откровенны - никогда и никем не была принята всерьёз» [Меженков 1972:192]. Писатель подвергался ожесточённой критике за отношение к своим персонажам: «Внешнее безразличие к героям имеет свою внутреннюю, скрытую сторону, и состоит она в неприязни ко всем, о ком В.Аксёнов пишет» [Меженков 1972:194].
Новая проза В.Аксёнова середины шестидестых годов «не вписывалась» в рамки реалистической литературы, и поэтому многие произведения остались попросту не понятыми критиками того периода времени. Например, роман «Любовь к электричеству» вызвал единодушное одобрение в печати, будучи воспринятым как биографическое произведение («Повесть о Красине»), передающее в особой художественной форме важнейшие события революции. Никто из исследователей не заметил «второе
дно» романа, а скорее, не счёл нужным этого делать, иначе произведение из просоветского превратилось бы в антисоветское.
Возможно, одной из попыток В.Аксёнова уйти в сторону от навязываемых реалистических штампов было создание книги «для среднего школьного возраста» - «Мой дедушка - памятник». Детская литература не являлась объектом столь пристального внимания критики, и в ней писателю прощались артистичность и пародийность образов. «Но дело-то в том, что В.Аксёнов сделал повесть с «секретом». Её образы и ситуации несколько похожи на рисунки-перевертыши... Всё повествование дано, так сказать, в двойном ключе...» [Громова 1972:33]. Секрет этой повести заключался в том, что иронию автора и пародийное обыгрывание речевых и литературных штампов могли оценить только взрослые читатели.
Повесть «Поиски жанра», оказавшаяся последней в биографии Аксёнова как члена Союза писателей СССР, вызвала довольно разноречивый резонанс. Е.Евтушенко, вступая своей статьёй «Необходимость чудес» в полемику с Л.Аннинским, писал, что «Поиски жанра» В.Аксёнова - «это плотно, крепко, свободно... От повести дышит нечаянностью чуда» [Евтушенко 1978:42]. По мнению Л.Аннинского, большой недостаток героя этой повести в том, что он «не хочет понять человека изнутри»: «...Стилистические путешествия по облакам, легковесные фокусы...и есть для меня тревожный сигнал неблагополучия, гнездящийся в новой аксёновской прозе» [Аннинский 1978:44].
Вместе с отъездом В.Аксёнова утихли и споры по поводу его произведений шестидесятых - семидесятых годов, его имя было вычеркнуто из всех «поминальников» советской литературы, книги изымались из библиотек.
Когда в начале девяностых писателю официально было позволено вновь жить и творить на родине, критиков заинтересовали «возвращенные» романы: «Ожог», «Остров Крым». В этот период исследователи пытались определить значимость произведений. Один за другим критики начинали
сравнивать «возвращённые» тексты Солженицына и Аксёнова на предмет -что важнее и «оппозиционее». Так А.Зверев писал: «...Солженицын и Аксёнов... Вроде бы жили в одно смутное время, и как бездейственны жалкие попытки протестовать второго рядом с монументальным творением «Архипелаг Гулаг» Мэтра Солженицына» [Зверев 1992:13]. А В.Линецкий, напротив, утверждал, что «Солженицын - это Аксёнов, понятый всерьёз» [Линецкий 1997:16], называя этих авторов двойниками, соотнося их произведения. Обращаются к этому периоду в творчестве В.Аксёнова С.Кузнецов, Н.Лейдерман, М.Липовецкий, Ж.Нива и др.
Большое внимание творчеству писателя и феномену шестидесятников уделяли учёные Самарского государственного педагогического университета. По результатам проведённых конференций и встреч с писателем самарские литературоведы выпустили сборники «Василий Аксёнов: Литературная судьба» (1994) и «Литература «третьей волны» (1996). В этих изданиях систематизируется научно-критическая литература об авторе, анализируются тексты В.Аксёнова, рассматривается творчество таких писателей, как А.Солженицын, В.Войнович, С.Довлатов и др., на переднем плане оказываются проблемы литературы и культуры шестидесятых, характеристика особенностей этого времени.
В девяностые годы выходит в свет книга Н. Ефимовой «Интертекст в религиозных и демонических мотивах В.П.Аксёнова» (1993). В это же время написаны диссертационные сочинения по творчеству В.Аксёнова: Д.Харитонова (Проза В.П.Аксёнова 1960 - 70-х гг. (проблема творческой эволюции) (1993); Г.Торуновой (Эволюция героя и жанра в творчестве В.Аксёнова (от прозы к драматургии) (1998). В этих работах исследователи выделяют этапы творчества писателя, рассматривают становление аксёновского стиля. Д.Харитонов выявляет постмодернистские приёмы, интертекстуальные связи в прозе Аксёнова второй половины шестидесятых на материале нескольких повестей, романов и рассказов. Главным объектом
16 внимания Г.Торуновой является жанр аксёновских произведений 1960 -1970-х годов.
Учёными осуществляется целостный, детальный анализ произведений В.Аксёнова 1960 - 1970-х гг., но в их работах, как и в большинстве исследований этого периода, обнаруживается стремление представить аксёновское творчество как явление русского андеграунда, многие особенности поэтики интерпретируются в идеологическом ключе. При отборе материала для анализа исследователи руководствуются частными задачами.
Имя В.Аксёнова вписано в историю не только русской, но и мировой литературы. Его творчество привлекло внимание европейских и американских литературоведов. Ещё в 1971 выпускница Пристонского университета, известный американский учёный Присцилла Майер, написала докторскую диссертацию о прозе Аксёнова 1960-х - 1970-х гг. (Meyer Priscilla. Aksenov and the Soviet Literature of the 1950s and 1960s (Ph. D.dissertation) Priceton University, 1971).
Датский учёный Пер Далгард в кандидатской диссертации, а затем в книге «Функция гротеска у В.Аксёнова» исследовал ранние романы и повести писателя (Dalgard Per. The Function of the Grotesque in Vasiliy Aksenov. Aarhus: Arkona, 1982).
В 1985 г. в Мичегане Борис Болшун защитил докторскую диссертацию на материале романа В.Аксёнова «Ожог» (Bolshun Boris. On Certain Pecularities of V. Aksenov's Novell «Ozhog» (Ph. D.dissertation) University of Michigan, 1985).
В 1986 г. к аксёновским произведениям доэмигрантского периода обратился в своей докторской диссертации Константин Кустанович (Kustanovich Konstantin. The Narrative World of Vasiliy Aksenov (Ph. D.dissertation) Colambia University, 1986).
Co временем интерес к творчеству Аксёнова не угасает. В 1996 году С.Симмонс посвятил своё исследование автобиографическим мотивам в
прозе писателя (Simmons С. The poetic autobiographies of Vasiliy Aksenov II Slavic a. East Europ. J - Tucson. 1996.- Vol. 40, №2 - p.309-323).
Примечательно, что доэмигрантская проза Аксёнова с момента отъезда автора в Америку становится предметом интереса не только англоговорящих исследователей. Так, например, немецкий учёный С.Кесслер пишет работу об аксёновской повествовательной технике на материале повестей «Поиски жанра», «Золотая наша Железка» и романа «Ожог» (Kessler S. Erzahltehniken und Informationsvergable in Vasiliy Aksenovs «Ozog», «Zolotaja nasa Zelezka» u. «Poiski Zanra» - Munchen: Sagner, 1998).
В характере оценок творчества В.П.Аксёнова многое остаётся спорным. В шестидесятые годы художественные особенности произведений рассматривались в основном с утилитарно-воспитательной точки зрения, центральное место отводилось проблеме героя, другие уровни поэтики рассматривались факультативно.
В конце восьмидесятых годов предметом особого внимания исследователей становятся биография писателя, его жизнь за рубежом и новые «американские произведения». В это время публиковалось большое количество интервью с В.Аксёновым, где остро ставились вопросы социально-политического плана, а литературные проблемы затрагивались косвенно.
Интерес к доэмигрантскому творчеству писателя учёные вновь начали проявлять только в середине девяностых годов. Именно в это время в связи с возвращением репатриантов получила продолжение живая жизнь тех процессов, что зародились в шестидесятые и прекратились только теперь. Литературоведы и критики посвятили свои исследования изучению художественных особенностей произведений писателей-шестидесятников. Большее внимание уделяется герою, времени, жанровому своеобразию повестей В.Аксёнова. Однако подходы к изучению поэтики аксёновских текстов были несколько односторонними. При активном внимании к доэмигрантскому творчеству писателя никто из исследователей не счёл
нужным обратиться к таким произведениям, как «Мой дедушка - памятник» (1972) и «Любовь к электричеству. Повесть о Красине» (1974), опубликованным незадолго до отъезда. Ж.Нива отзывается о последней как о неискренней. А.Тельчаров отметил, что повесть вызвала "замешательство, переходящее в разочарование" [Тел ьчаров 1995:12]. Сложилось мнение, что это произведение было социальным заказом в период трудных отношений Аксёнова с государством. Так, например, В.Меженков считал, что «Повесть о Красине» была своего рода оправданием, ответом Аксёнова на обрушившуюся критику [Меженков 1972:192]. Удивительно, что это ошибочное, на наш взгляд, мнение продолжает бытовать и по сей день.
Актуальность исследования вытекает из недостаточной изученности аксёновских произведений 1960 - 1970-х гг., которые до сих пор исследуются крайне фрагментарно. Не случайно в настоящее время проза В.П.Аксёнова, отражающая особенности советской эпохи, вновь заинтересовала исследователей. Писателю вручена Букеровская премия, экранизирована его «Московская сага», создаётся экранная версия романа «Остров Крым».
Научная новизна исследования заключается в том, что для исследования впервые привлекаются все повести и романы В.Аксёнова 1960 - 1970-х годов. В работе выделяются те элементы поэтики, которые не становились предметом детального исследования ранее, обнаруживается два прочтения мотива пути, осуществляется подробный анализ особенностей художественного пространства, предлагается более обширная интерпретация мифопоэтических образов.
Принято считать, что образ дороги, пути, занимает центральное место в аксёновской прозе. Исследователи творчества писателя давали оригинальные трактовки этого образа. Так, например, А. Макаров выделяет целую группу аксёновских персонажей, которые находятся «на полпути» [Макаров1967:351]: тех, что «задержались в росте», все они «вдруг останавливаются перед прозрением как бы возмездия за бездумное поведение в прошлом». Это Марвич из романа «Пора, мой друг, пора», герои
предшествующих роману рассказов «Сюрпризы», «На полпути к луне», «Катапульта», «Завтраки сорок третьего года».
П.Майер рассматривала повесть «Затоваренная бочкотара» как метафору пилигримства героев в поисках добра. П.Далгард считал это произведение метафорой жизненного пути, а бочкотару - символом человечества, К.Кустанович определял путешествие героев повести как аллегорическое отображение пути литературы.
Н.Ефимова обозначила мотив странничества в некоторых произведениях писателя «как метафору творческого процесса художника на пути к Богу» [Ефимова 1993:91].
Г.Торунова трактовала образ пути в доэмигрантском творчестве Аксёнова как художественную доминанту, называя его «одним из трёх китов», на которых строится поколенческая мифология шестидесятых.
Несмотря на активное внимание исследователей к проблеме пути в творчестве Аксёнова, не было попыток произвести детальный анализ на этом уровне. Так, например, интерпретация образа пути как только лишь типичной «шестидесятнической добродетели», связанной с романтикой дальних странствий, кажется слишком односторонней применительно к аксёновской прозе при учёте установки писателя на семантико-эстетическую глубину подтекстового содержания, а также полисемантичность и культурологическую насыщенность символики образа дороги, пути.
В толковом словаре русского языка В. Даля прямое значение слова «дорога» - «езда или ходьба,... путина, путешествие, ездовая полоса, подготовленное различным способом протяжение для езды, для проезда или прохода;... направление и расстояние от места до места» [Даль 2002:217]; ему синонимично слово «дорога»: «ездовая накатанная полоса, ходовая тропа» [Даль 2002:549]. В переносном значении «дорога», как и «путь», - «средство, способ достижения чего-либо, род жизни, образ мыслей, дела и поступки человека» [Даль 2002:217, 549].
В словаре И.Ожегова дорога в прямом значении есть "узкая полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения"; "место, по которому надо пройти или проехать, путь следования, а также "пребывание в пути" [Ожегов 2000:176]. Путь - "место, линия в пространстве, где происходит передвижение" [Ожегов 2000:634]. В переносном значении "дорога" и "путь" - направление деятельности, образ действия" [Ожегов 2000:176]. Очевидна многозначность понятий "путь" и "дорога", в них аккумулируются процессуальные, локусные и темпоральные признаки.
Образ пути в художественных текстах приобретает ещё большую полисемантичность. Например, в античных традициях путь отсылает к мотиву смерти, так как связан с представлением о странствии души в поисках царства мёртвых. В фольклорных жанрах (сказках) "Путь-Дорога"- судьба в полном смысле слова: "Выбор пути в сказке определяет ... развитие сюжета и дальнейшую судьбу героя" [Неёлов 1986:101]. М.Бахтин также указывает на то, что "дорога в фольклоре никогда не бывает просто дорогой, но всегда либо всем, либо частью жизненного пути" [Бахтин 1975:271].
В мифологической традиции существует образы бесконечного и конечного пути. В первом случае этот образ выражает мифологическую пространственно-временную цикличность, даёт представление о вечности. Во втором случае путь связан с движением от начальной точки пространства к конечной с постепенным нарастанием трудностей, которые вынужден преодолевать герой-путник, такой путь может быть сопряжён с идеей искупления.
Путь как особое индивидуальное пространство персонажа определяет Ю.Лотман: "... путь - внутреннее становление, выражаемое в категориях пространства" [Лотман 1988:285]. По Лотману, понятия «дорога» и «путь» разграничиваются следующим образом: «Дорога» - некоторый тип художественного пространства, «путь» - движение литературного персонажа в этом пространстве» [Лотман 1988:290]. В произведениях В.П.Аксёнова мотив пути, помимо прямого, приобретает и метафорическое значение,
становится "средством развёртывания характера во времени" [Лотман 1988:235].
Новые возможности в углублённой интерпретации образа пути в прозе писателя открывает мотивный анализ.
Понятие мотива было впервые теоретически обосновано в незавершённой "Поэтике сюжетов" А.Н.Веселовского: «Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения. При сходстве или единстве бытовых и психологических условий на первых стадиях развития такие мотивы могли создаваться самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты» [Веселовский 1989: 305]. Основным признаком мотива учёный называл его неделимость и одночленность.
В 1920-е годы это положение Веселовского о мотиве было пересмотрено. «Конкретное растолкование Веселовским термина «мотив» в настоящее время уже не может быть применено. По Веселовскому, мотив есть неразлагаемая единица повествования. <...> Однако те мотивы, которые он приводит в качестве примеров, раскладываются. Таким образом, вопреки Веселовскому, мы должны утверждать, что мотив не одночленен, не неразложим» [Пропп 1969:21].
Предметом разногласия между исследователями долгое время было также соотношение мотива и мифа. Согласно теории Веселовского, мотив выступал как основа "поэтического языка", унаследованного из прошлого, некая формула, "отвечавшая на первых порах общественности на вопросы, которые природа повсюду ставила человеку, либо закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности" [Веселовский 1940:301]. По мнению учёного, образный одночленный схематизм аналогичен неразложимым элементам низшей мифологии и сказки. Однако с течением времени в теорию Веселовского были внесены некоторые поправки, поскольку мотивы зарождались не только в первобытную эпоху, но и позднее. «Важно найти такое определение термина,
- писал А.Бем, - которое давало бы возможность выделить его в любом произведении как глубокой древности, так и современном» [Тамарченко 2004:195].
Б.Томашевский перенёс понимание мотива, предложенное А.Веселовским, из области анализа фольклорных текстов на литературное творчество в целом, понимая под мотивом элементарную единицу любого художественного произведения [Томашевский 2002:185]..
Мотив может рассматриваться и как категория сравнительно-исторического литературоведения. Выделяются мотивы, имеющие очень древние истоки, ведущие к первобытному сознанию и вместе с тем получившие развитие в условиях высокой цивилизации разных стран. В литературе разных эпох встречается и функционирует множество мифологических мотивов. Постоянно обновляясь в историко-литературных контекстах, они сохраняют свою смысловую сущность.
Сегодня тот научный подход к категории мотива, что был разработан А.Веселовским, вновь актуализировался. В частности, Л.П.Якимова говорит о перестройке всей методологической базы современного литературоведения в течение последних полутора десятилетий и, в связи с этим, о «восстановлении в законных правах сравнительно-исторического литературоведения, прежде всего школы А.Н.Веселовского с её акцентом на историческую поэтику, то есть определение роли и границ предания в процессе личного творчества» [Якимова 2003:8]. Исследуя поэтику прозы Леонова, Якимова уделяет особое внимание вечным мотивам, «бродячим сюжетам», мифопоэтической образности.
По признанию современных учёных, за годы употребления, развития, термин «мотив» не приобрёл более чётких очертаний и теоретической определённости. Напротив, в современном литературоведении существует тенденция к расширенному употреблению термина, что ведёт к его размыванию. Например, распространено отождествление понятий мотива и темы. Более строгое значение термин «мотив» получает тогда, когда он
содержит элементы символизации. В отличие от темы он имеет непосредственно словесную и предметную закреплённость в самом тексте произведения. По мнению И.В.Силантьева, мотив отличает от темы его особое свойство - предикативность, комплекс вероятных действий, подразумеваемых под словом, обозначающим мотив (мотив измены, мотив уединения, мотив пути и т.п.)
Мы склонны согласиться с замечанием И.В.Силантьева по поводу того, что «разнобой в определении мотива в литературоведении и фольклористике во многом вызван именно тем, что исследователи смотрят на мотив с различных точек зрения - с точки зрения темы, события, фабулы, сюжета и т.д.... При этом каждая трактовка оказывается по-своему верной» [Силантьев 2004:162]. В этой связи, не ставя целью подробное описание теории и истории мотива, мы попытались выделить основные, опорные теоретико-методологические положения по данной проблеме, которые и легли в основу исследования.
В работе основополагающим стало представление о мотиве, как о «главной внутренней мыслительно-эмоциональной линии развития произведения; его повторяющихся элементах; элементах сюжетно-тематического единства» [Борев 2003:256]. Мотив может быть выражен в тексте не только напрямую - лексически, но и косвенно, представляя собой «функционально-семантический повтор» (В.И.Тюпа), он характеризуется предикативностью и имеет связь с подтекстом произведения.
В.Синенко считает, что мотив в художественном тексте организуется "повторением фразы, мысли, ситуации, сопровождаемых расширением обстоятельств" [Синенко 1984:72]. Согласно её теории, мотив по своим функциям ("создание новой ёмкости, благодаря которой получается содержание гораздо большее") соотносим с подтекстом. Похожую трактовку мотив получает в интерпретации В.Хализева: «Мотив... может являть собой отдельное слово или словосочетание, повторяемое и варьируемое, или... обозначаемое посредством разных лексических единиц, или выступать в виде
заглавия либо эпиграфа, или оставаться лишь угадываемым, ушедшим в подтекст» [Хализев 1999:266]. Э.Бальбуров также считает, что "мотив или мотивный комплекс текста порой не только не проглядывает ясно, но он закодирован в сложной нарративной структуре" [Бальбуров 1998:14]. В тексте мотив выступает не изолированно, а в сцеплении с множеством других элеменов, в комбинации с другими мотивами, образуя «мотивные комплексы» [Гаспаров 1994:33].
Мотив может быть описан не только в границах сюжета конкретного текста, но и за пределами исследуемого произведения, в контексте других явлений культуры. Это положение легло в основу разделения данного диссертационного исследования на главы. Внетекстовая сфера выдаёт культурно-историческую ориентацию автора, его установку на актуализацию мифопоэтической образности, она расширяет и углубляет содержание мотива, исследуемого на уровне «ассоциативного фона» (Н.Лейдерман), так как сквозные словообразы, мотивы имеют свойство, «обрастая ассоциациями, приобрет<ать> значение важных эстетических аккордов, знаков глубинного содержания, скрытой связи с подтекстами» [Якимова 2003:6].
Изучение произведений «оттепельной» поры через мотив пути мы находим весьма продуктивным, так как этот мотив становится особенно популярен в нестабильные, неустойчивые эпохи, в период становления новых общественный формаций, каковыми и являлись шестидесятые. Актуализируется семантика выбора пути, направления и скорости передвижения, что иллюстрируют, к примеру, выдержки из речи Н.С.Хрущёва, такие как «наше движение вперёд по пути к коммунизму ускорилось» и пр. Подобные установки, провозглашаемые на XXII съезде партии, нередко цитировались исследователями. По мнению официальной критики, литература должна была определить, кто из молодёжи «идёт по столбовой дороге развития нашего общества, а кто путается на кривых, извилистых, ведущих в тупик дорожках» [Гус 1961:194]. Вместе с этим
эффект «приподнявшегося железного занавеса» давал представление об открытости границ, побуждал к изучению и освоению новых пространств.
Мотив пути универсален, он относится к категории вечных мотивов. Символический по своей природе, он репрезентативен в произведениях В.П.Аксёнова, является в них доминантным, стержневым, организует вокруг себя другие мотивы, выполняет сюжетообразующую функцию, характеризует не только художественные пространство и время, но и персонажи произведений. Сам писатель подчёркивал, что движение, стремительность являются определяющими качествами для его героя: «Молодой человек шестидесятых, который изменяет лицо земли, изменяется сам. За ним трудно угнаться - он быстроног» [Аксёнов 1961:7]. Таким образом, мотив пути определённо требует особого внимания, тем более, что его можно последовательно выявлять в прозе В.Аксёнова 1960-1970-х годов.
Объектом исследования становятся прозаические произведения В.Аксёнова означенного периода: повести «Коллеги» (1959), «Звёздный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1962), «Пора, мой друг пора» (1964), «Затоваренная бочкотара» (1968), "Любовь к электричеству. Повесть о Красине" (1971), "Мой дедушка - памятник" (1972), «Золотая наша Железка» (1973), «Поиски жанра» (1978) и др., "возвращённые" романы "Ожог" (1975), "Остров Крым" (1979).
Предметом анализа является мотив пути, инвариантный для всех указанных произведений В Аксёнова 1960 - 1970-х гг.
Цель работы: на различных уровнях поэтики выявить функции мотива пути в произведениях В.Аксёнова, проследить движение авторской позиции на разных этапах творчества.
Задачи исследования: 1. Сформировать категориальный аппарат анализа и интерпретации
акёновских текстов через категорию мотива путём отбора и
систематизации научно-критических и теоретических исследований.
Выявить те уровни поэтики прозы В.Аксёнова, на которых мотив пути проявляется наиболее последовательно.
Обозначить организованный мотивом пути смыслопорождающий комплекс мотивов и тем прозы В.Аксёнова, выяснить их функции и значение.
Раскрыть специфику художественного пространства и времени, лежащих в основе миромоделирования в творчестве В.Аксёнова.
Исследовать способы воссоздания мифопоэтической картины мира В.Аксёнова и её динамику.
Основные положения, выдвигаемые на защиту:
1. Путь как основная категория в прозе В.Аксёнова является ключевым в интерпретации текстов и имеет двойную трактовку: физическую и метафизическую.
2.Художественный образ пространства в произведениях В.Аксёнова превращается в некий абстрактный язык: пространственные категории становятся морально-этическими.
3.Исследование доэмигрантских прозаических произведений В.Аксёнова в их совокупности, целостности, даёт возможность определить направление творческих поисков автора, обнаружить художественное отображение осмысленного Аксёновым собственного писательского пути.
4.Аксёновские особенности художественного миромоделирования выявляют тенденцию к постепенному расширению пространственно-временных границ, внутри которых обитает герой. Художественная концепция личности предстаёт не внутри конкретного временного участка (1960 - 1970-е годы), а более масштабно, в контексте эпохи и даже в контексте вечности.
Теоретико-методологическая основа диссертационного сочинения.
Учитывая разнообразный по целям и принципам опыт работы с категорией мотива, мы формировали собственный понятийный аппарат на основе идей и приёмов учёных разных научных школ: А.Н.Веселовского,
ВЛ.Проппа, Б.В.Томашевского, В.И.Тюпы, Б.М.Гаспарова, И.В.Силантьева и
др.
Анализ мифопоэтики текстов производится с опорой на труды К.Юнга, Е.Мелетинского, Р.Барта, Ж.Дерриды, Я.Голосовкера, Ф.Ницше, И.Хёйзинги, Г.Гадамера, В.Топорова, М.Элиаде и др.
Не менее важными для анализа стали работы, касающиеся пространственно-временной организации текста: труды М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана, Д.С.Лихачёва, А.Гуревича, Г.Забова, А.Мостепаненко, М.Кагана, А.М.Панченко, В.Каганского, С.Бойм и др.
Разнообразие подходов к изучению обусловлено тем, что проза Аксёнова 1960 - 1970-х годов неоднородна в стилевом отношении, её осмысление требует широкого спектра методологических приёмов.
При анализе произведений используются приёмы системно-целостного, сравнительного, типологического, историко-генетического анализа.
Апробация основных разделов диссертации состоялась на международной конференции «Постмодернизм и судьбы художественной словесности на рубеже тысячелетий» (Тюмень, 16 - 19 апреля 2002), региональной научной конференции «Город как культурное пространство» (Тюмень, 20-21 февраля 2003), всероссийской научной конференции «Региональные и культурные ландшафты: история и современность» (Тюмень, 20-21 апреля 2004), на межвузовской конференции «Русская литература в контексте мировой культуры» (Ишим, 17-18 февраля 2004), всероссийской конференции молодых учёных «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения и журналистики» (Томск, 26 - 27 марта), научно-практических конференциях: «Постмодернизм: pro et contra» (Тюмень, 2002); «Русская литература в контексте мировой культуры» (Ишим, 2004); «Актуальные проблемы лингвистики, литературоведения и журналистики» (Томск, 2004). Основные положения диссертации освещены в шести публикациях.
Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью применить их для изучения современного литературного процесса, при подготовке общих и специальных курсов по истории русской литературы XX века, а также в школьном преподавании.
Динамическая характеристика персонажей
В прозе В.Аксёнова присутствует идея движения и развития, воплощённая через образы пути, дороги. При этом путь становится способом выражения того, как художник осмысляет реально-историческое время, в которое живёт. «Важнейшим в определении авторской позиции остаётся оценка им своего места в этом времени, что отражается и на его авторских задачах, и на его возможности или невозможности (или желании / нежелании) двигаться в ногу с этим временем» [Ноткина 2000:23]. По мысли А.Ноткиной, время может становиться предметом авторской рефлексии, когда художник философски осмысляет свойства данной категории. Такой подход характерен для литературы переломных эпох, каковой являлись шестидесятые: «Ускорение и сжатость времени, когда в год умещается эпоха, свойство всех революционных или переломных лет» [Ноткина 2000: 24]. По мнению П.Вайля и А. Гениса, в это время «всё стало иным - и шкала времени тоже... В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо» [Вайль, Генис 1998:15].
В этом контексте динамические характеристики - подвижность, ускоренность - приобретают особое значение: путь нравственного самоопределения личности связан с движением героя во времени и пространстве. Движение ложится в основу сюжета и одновременно становится качеством характера персонажа.
В основе сюжета большинства повестей Аксёнова - ситуация ухода героя из родного дома. Так герои «Коллег» уезжают из дома по распределению, в повести «Звёздный билет» ребята собираются ехать не к какой-то конкретной цели, а просто чтобы путешествовать: «Вы себе представляете, мальчики, как можно провести годик - другой? Мчаться вперёд: на поездах, на попутных машинах, пешком, вплавь, заглатывать километры! Стоп! Поработали где-нибудь, надоело - дальше!» [Аксёнов 2001:197]. Мечта о путешествии лежит в основе мироощущения героев молодёжной прозы. «В дорогу! В дорогу! Есть целина, и Братск, и стройка Абакан - Тайшет, а можно уехать и дальше, на Дальний Восток... Я вспомнила множество фильмов, и песен, и радиопередач о том, как уезжает молодёжь и как там, на Востоке, вдалеке от насиженных мест, делает большие дела...» [Аксёнов 2001:378] («Апельсины из Марокко»). Такая мечта символизирует жажду поиска, сознательную незавершённость личности.
Сюжетная линия детской приключенческой повести «Мой дедушка -памятник» строится на путешествии юного героя к архипелагу Большие Эмпиреи, что является иронической отсылкой к «молодёжной» прозе, поиску героями нового жизненного опыта.
В. Аксёнов впервые получил признание в рамках направления «исповедальной» прозы, где центральное место отводилось юному рефлектирующему герою. Так в его творчестве начала шестидесятых годов возникает образ Человека в Начале Пути. Этот символ имеет богатую историко-культурную историю. Приобретая различные оттенки значений, он надолго войдёт в аксёновский писательский арсенал, в первую очередь как метафора молодости, начало жизненного пути, что немаловажно для культуры периода «оттепели», когда литература стала «в центр ставить проблемы воспитания нового человека» [Кузнецов 1961: 17]. «Понимание сложности духовных основ в характере «простого» человека», но не оправдывание эгоизма, познание диалектики развития натуры, но не примирение со слабостями, видение близких, дальних, повышающихся горизонтов - это связывает героя с многогранной проблемой воспитания гражданина...» [Панков 1969:91].
Оптимистические лозунги XXII съезда партии призваны были укреплять веру людей в стремительно приближающееся светлое будущее, и «на заре новой эры» именно молодёжи предъявлялись большие требования. Официальная литература играла важную роль в формировании личности, воспитании характера юных граждан, и образ человека в начале пути в прозе Аксёнова начала шестидесятых становился знаком социально-исторического времени.
Пространство быта и пространство бытия (феномен повседневности)
По Ю.Лотману, «художественное произведение представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [Лотман 1998:212]. Соответственно, литературные персонажи могут быть охарактеризованы через соответствующий им тип художественного пространства: открытое пространство соответствует героям "пути", закрытое же - героям "степи". Пространство может представлять собой обобщённую возможность движения от исходной точки к конечной, поэтому оно получает темпоральный признак, а движущийся в нём персонаж - черту внутренней эволюции. Эволюции не будут подвергаться лишь «герои, которые ещё не способны изменяться или которым это не нужно» [Лотман 1988:253]. Необходимость охарактеризовать героев и их движение через соответствующий тип пространства наводит на рассуждение о локализации быта и бытия в художественной модели мира В.Аксёнова. В.Аксёнов начал писательскую карьеру как реалист, что в большой степени обусловило выбор пространственно-временного фона для раскрытия сущности героя - типичного молодого современника. На узнаваемость персонажей как нельзя больше работало изображение их в пространстве повседневности.
Социокультурная ситуация шестидесятых годов с её воспеванием героики будней стремилась к нивелировке понятий быта и бытия, их полному слиянию в феномене будничности как среде воспитания характера среднестатистического гражданина.
В связи с отношением к повседневности решалась проблема морального облика советского человека. Л. Якименко в статье «Размышления о герое» задавался вопросом: «Почему же нередко происходит так, что место, где должна бы стоять героическая литература, овеянная романтикой подвига, занимает эрзац-литература?.. Не разучилась ли наша литература удивляться человеку, который всё это содеял, восхищаться его разумом, его руками, видеть героику будничного?» [Якименко 1961:366].
Актуализация принципов реализма делает героем человека обычного, с недостатками, а это казалось опасным идеологически непоколебимой части критиков, так как шло вразрез с активно создающимся в предыдущие десятилетия образом советского сверхчеловека: «Произведения начала 60-х годов показывали острую борьбу за новое... Но в то же время в литературе видно было и оживление тенденций дегероизации, псевдогуманного оправдания растерянных, ущербных личностей» [Панков 1969:91]. В центре повествования оказывался простой человек, личность не героическая, что также способствовало формированию нового отношения к повседневности.
Жесточайшая опала на мещанство сделала обыденность во всех её проявлениях своеобразным общим местом, предметом особого внимания. «Если когда-то бичевали только абажуры и слоников на комодах, то постепенно мещанство становилось источником всех бед - от невыученных уроков до фашизма... Поэтому особую ненависть романтиков вызывала мягкая мебель: плюшевое кресло, кровать с шарами, тахта «лира». Взамен следовало обставить быт трёхногими табуретками-лепестками, лёгкими торшерами, узкими вдовьими ложами, низкими журнальными столиками» [Вайль,Генис 2001:130].
Проблеме советской повседневности как топоса, общего места в советской культуре, посвятила свою монографию С.Бойм (С.Бойм «Общие места: мифология повседневной жизни»).
Она говорит о необходимости ретроспективного обращения к феномену обыденности для понимания историко-культурных процессов определённого временного этапа: «В культурной памяти слова и вещи тесно взаимосвязаны. Археология понятий и археология вещей, культурная мифология и исследования практик повседневности должно вестись совместно... Археология повседневности изучает пограничные зоны между бытовым и идеологическим, повседневным и эстетическим... Археология общих мест показывает, как общее превратилось в банальное, традиция - в клише, а искусство - в китч» [Бойм 2002:21].
С.Бойм раскрывает содержание термина и прослеживает его историю ("Понятие "общее место" - topos, lieu commun - относится одновременно к организации пространства и к организации речи, к топографии и к риторике. Оно деградировало на протяжении истории, превратившись из благородного греческого топоса в обыкновенное клише" [Бойм 2002:22]).
Термин «топика» в отечественной науке разрабатывалась А.Веселовским, Д.Лихачёвым, а на исходе XX столетия его вновь поднимает А.М.Панченко. В современной филологии топос рассматривается как "всякий устойчивый набор образов и мотивов, используемых при изображении ситуаций, часто повторяющихся в данной литературной системе" [ЛЭС 1987:257]. Сегодня топика, в особенности советская, вновь стала предметом внимания учёных.
Применительно к прозе Аксёнова, чутко отражающей особенности времени, мы можем говорить о повседневности и как о топосе, и как об особом пространстве (со специфическим предметно-вещным миром, законами жизни в нём и т.п.), в котором происходит движение персонажей. Именно аксёновская интерпретация обыденного синтезирует клише советского периода и устоявшиеся, подобные чеховским, литературные традиции, когда повседневное включает в себя в равной степени бытовое и бытийное начала.
Путешествие героев В.Аксёнова привычно определяется исследователями как «бегство от повседневности». Это правомерно только отчасти. Несомненно, сюжет почти всех повестей Аксёнова формирует мотив бегства от бытового комфорта в поисках себя, своего места в жизни. В действительности, обыденность, повседневность - не только отправная точка пути аксёновского героя. Она подчас и пункт назначения, и даже естественное пространство обитания героев аксёновской прозы. В повестях Аксёнова проявления повседневности разнообразны, многогранны, а их оценка неоднозначна.
Мифологическое время и пространство (архаика и современность)
Как нами уже было отмечено ранее, история мотива уходит корнями в архаическую мифологию. Это утверждал А.Н.Веселовский, опираясь на взгляды представителей английской антропологической школы (Тайлор, Лэнг, Фрэзер), где сходство мифологических сюжетов и мотивов у разных народов объяснялось идентичностью психологических реакций в одинаковых условиях существования. Теория Веселовского во многом послужила отправной точкой для российской фольклористики. Она неоднократно подвергалась критике, но, тем не менее, трудно отрицать общий генезис мотива и мифа. В художественном произведении мифологемы так же, как и мотивы, осуществляют функцию взаимодействия текста с подтекстом. Так, О.Фрейденберг рассматривала историю литературных жанров, сюжетов, мотивов как структурное и содержательное повторение основных метафор архаического сознания. (Фрейденберг О.М. Миф и литература древности).
Исследование мифа помогает преодолеть узкое понимание природы явлений, человека. Прочтение текстов через категорию бессознательного, концентрирующего в себе мифопоэтические представления, позволяет актуализировать «сугубо творческое начало эктропической направленности как противовес угрозе энтропического погружения в немоту, хаос» [Топоров 1995:5].
В античной древности миф уже стали соотносить с наукой о литературе. Так, например, Аристотель в труде «Метафизика» (IV век до н.э.) называл мифологию подражательным искусством, а миф приравнивал к фабуле.
В связи с повышенным интересом к изучению мифа в XIX веке в литературоведении возникла мифологическая школа. Лингвистические концепции XIX столетия - школа М.Мюллера, подходы А.Н.Афанасьева, А.А.Потебни - проявляли стремление к научно-детерминированному описанию жизни, миф при этом становился формой примитивного сознания, отражённой в языке.
Исследования мифа и мифопоэтики стали ещё более актуальными в XX веке, что "отчасти опиралось на новое апологетическое отношение к мифу как к вечно живому началу, провозглашённому «философией жизни» (Ф.Ницше, А.Бергсон),... на психоанализ Фрейда и особенно К.Г.Юнга..." [Мелетинский 2000:8], а также на разработки ритуалистов во главе с Дж.Фрезером. Благодаря работам этих учёных, мифология перестала пониматься как «способ удовлетворения любознательности первобытного человека», постепенно преодолевалась сложившаяся в XIX веке позитивистская «теория пережитков».
Общая тенденция к ремифологизации (сознательному и бессознательному обращению писателей и художников к мифу) в XX веке порождает большое количество подходов к изучению мифопоэтического сознания.
Е.М.Мелетинский отмечает: «Во-первых, мифы в примитивных обществах тесно связаны с магией и обрядами и функционируют как средство поддержания природного и социального порядка... Во-вторых, мифологическое мышление обладает известным логическим и психологическим своеобразием... В-третьих, мифотворчество является символическим языком, в терминах которого человек моделировал мир, общество и самого себя» [Мелетинский 1976:153]. Важно, что при этом миф, по мнению учёного, специфичен только для культур архаических, хотя «в качестве некоего «уровня»... может присутствовать в самых различных культурах». Так исследователь признаёт, что ремифологизация культуры XX века проявляется «в тенденции осмысления мифа на уровне эстетики, ведущей к созданию немифологических текстов» [Мелетинский 1976:92]. При этом учёным отмечаются функции мифа: упорядочивание, моделирование познавательная функция.
Для обозначения "некоего уровня", на котором проявляет себя миф в художественном тексте современной культуры, были введены особые термины. Так, например, Е.Мелетинский допускает бытование мифа в литературе XX века в качестве художественного приёма, именуемого мифологызмом [Мелетинский 1976:406]. З.Минц разграничивает понятия авторского мифа и неомифа (текста мифа) у символистов. Авторским мифом Минц считает «поэтическое отображение философских, космологических, эстетических и других взглядов художника» [Минц 1979:96]. Неомиф, в отличие от авторского мифа, не только содержательно построен по канонам мифологического повествования, но и отвечает природе мифологического мышления, тяготеет к универсализму, изоморфизму, единому "тексту-мифу", становящемуся "некой культурной реальностью, ощущение которой должно было жить в каждом символическом тексте" [Минц 1979:96]. Неомифологизм, по мнению исследователя, это создание авторского мифа в использовании мифологии традиционной.
Отечественные мифокритики, работающие в традиции социокультурной теории мифа, отношение мифа к современности рассматривают как «остаточное» явление, сосуществующее с современным сознанием и несущее функцию первичного упорядочивание мира. Миф в их концепции - это предание, донаучным образом освещающее коренные проблемы древнего человека.
Другое направление мифокритики восходит к аналитической психологии К.Юнга и психоанализу З.Фрейда. К.Г. Юнг считает, что «творческий процесс заключается в бессознательной активации архетипического образа и в последующей разработке и оформлении этого образа в завершённое произведение» [Юнг 1997:334]. Его теория архетипов получила широкое распространение и впоследствии стала применяться для литературно-критического анализа. «Термин «архетип» часто понимают неправильно - как означающий некоторые вполне определённые мифологические образы и сюжеты...
От ритуала к карнавалу: игровой характер повестей В. Аксёнова
Проблема игры на уровне художественных текстов достаточно широко разработана в литературоведении, её рассматривали Х.-Г. Гадамер, М.М. Бахтин, Р.Барт, М.Фуко, Ж.Деррида и др. Игра, как и миф, является универсальным свойством человеческого существования. Взаимосвязь этих категорий не вызывает сомнения, и всё же споры вокруг характера их взаимосвязи не утихают на протяжении многих десятилетий. И.Хёйзинга усматривает в игре абсолютизирующий принцип человеческой деятельности: «Игра - это культ... В мифе и в культе... рождаются великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение, предучёность и наука. Поэтому они уходят корнями в ту же почву игрового действия» [Хёйзинга 1992:14]. Его оригинальную концепцию генезиса мифологии и культуры разделяют далеко не все учёные: "Культурфилософия Хёйзинги имеет черты современного мифа, она наполнена лиризмом, но порой бездоказательна" [Воеводина 2002:117]. Здесь уместно сослаться на точку зрения М.Бахтина: «Именно то, что в корне отличает игру от искусства, есть принципиальное отсутствие зрителей... Игра с точки зрения самих играющих не предполагает находящегося вне игры зрителя, для которого осуществлялось бы целое изображаемого игрою события жизни» [Бахтин 1979:67].
Однако существуют созвучные концепции, подкрепляющие точку зрения Хёйзинги. Миф по определению некоторых исследователей считается первой ступенькой, первой формой духовной культуры. Но в любом архаическом обществе миф является символьно-знаковым явлением, его нужно уметь рассказать и пересказать. Мы же знаем очень много первобытных племён, словарный запас которых составляет несколько десятков слов, которые при описании мира использовали мимику, жесты и танцы. Танец - это высшая форма игры. Таким образом, игровую форму деятельности человека можно считать более древней, чем символьную. В этом смысле уже игра становится первоисточником мифа.
Й. Хёйзинга раскрывает ритуальную природу игры, говоря о её тождественности осознанию человеком своей вовлечённости в Космос, в чём находится её самое первое, самое высшее, самое священное выражение. «Само слово «празднество» говорит уже само за себя: празднуется священный акт, то есть, иными словами, он попадает в рамки праздника. Народ торжественно собирается к своим святыням... для совместного выражения радости... Освящение, жертвоприношение, священные танцы, сакральные состязания, представления, таинства и мистерии - все они охватываются рамками празднества. В самом понятии «игры» как нельзя лучше сочетается неразрывность веры и неверия, связь священной серьёзности с притворством и дурачеством» [Хёйзинга 1992:37].
М.М. Бахтин рассматривает игру в аспекте народной культуры -карнавала. Все выражения народной смеховой культуры он подразделяет на виды: обрядово-зрелищные (празднества карнавального типа, различные площадные смеховые действа); словесно-смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода - устные и письменные, на латинском и народных языках. Эти формы народной культуры «создавали совершенно иной, подчёркнуто неофициальный, внецерковный и внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений» [Бахтин 1965:9]. Ученый пишет, что карнавальное ядро культуры не входит в область искусства, не является чисто художественной театрально-зрелищной формой, допускает вольную форму существования. Мир карнавальной культуры строится как вторая жизнь, пародийная по отношению к обычной, некарнавальной, представляет собой «мир наизнанку». По Бахтину, основные черты карнавальной культуры - универсальность, амбивалентность, неофициальность, утопизм, бесстрашие. Карнавал назван «другой, свободной (вольной)», «идеальной формой жизни», существующей по особому принципу (карнавализация - когда живут, играя, а игра становится жизнью).
Исследования в этой области продолжаются, открываются новые аспекты карнавальной культуры (Ю.Борев выводит термин «карнавальный натурализм»; по С.Гурину, карнавал сообщается с ситуацией маргинальности и т.п.).
В произведениях В.Аксёнова игра противостоит серьёзности так же, как будни противостоят праздникам. Праздник - это особая часть игрового поведения, он может выражаться как вызов общественному мнению: «А так, уедем, и всё. Хватит! Мне это надоело. Целое лето вкалывать над учебниками, и ходить по магазинам, и слушать проповеди. Отдохнуть нам надо или нет? Никто ведь не думает о том, что нам надо отдохнуть. Дудки! Уедем! Ура!» [Аксёнов 2001:196]. Герои повести «Звёздный билет» желанием праздника («отдохнуть») выражают революционный протест против привычного образа жизни: «ДИМКА. Взорвём «Барселону»? АЛИК. Да нельзя же, я тебе говорю, взрывать такую натуру. ДИМКА. Сбежим?» [Аксёнов 2001:196].
Пространство города сопряжено с праздником, который для горожанина не связан с рамками времени. Истинным горожанам, юным героям повести «Звёздный билет», свойственно желание постоянного праздника и праздности, к труду они приучились в колхозе, за пределами города. И, напротив, для деревенского жителя праздник имеет определённую, установленную испокон веков мотивировку. В повести «Поиски жанра» чуть иронично показано, как в деревне Сольцы отмечают день аванса ночью, в лесу, с ритуальными танцами перед огромным костром. «Вот, например, огромный костёр, который ослепил его при въезде в посёлок. Другой бы решил - чудо. Офицер Жуков решил -шлаки жгут. Женская тонкая фигурка извивалась в огне. Кто-нибудь сказал бы - ведьма, нимфа, саламандра. Офицер Жуков прикинул - здесь сегодня получка... Все мы угадали в Сольцы день аванса. Тут уж, как обычно, то ли накушаешься с удовольствием, то ли голову сложишь» [Аксёнов 2001:141].