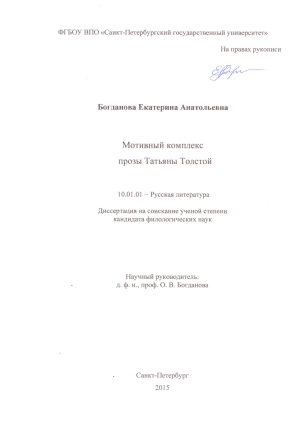Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Мотивный комплекс ранних рассказов Т. Толстой 23
1.1. Образ детства в рассказе «На золотом крыльце сидели» и мотивные ряды, его формирующие .23
1.2. Мотив «вечной Сонечки» как развитие мотива жертвенности (на примере рассказа «Соня») 47
1.3. Инвариантный мотив памяти и вариации его воплощения в рассказе «Милая Шура» .59
1.4. Система бытийных мотивов в рассказе «Река Оккервиль» 68
1.5. Мотивы творческой фантазии и имитации в рассказе «Факир» .92
Глава II. Мотив сна и его семантическое поле на материале повести «Сомнамбула в тумане» 112
Глава III. Образ-мотив кыси-мысли и сопутствующие мотивы в романе «Кысь» .144
Заключение .180
Библиография
- Мотив «вечной Сонечки» как развитие мотива жертвенности (на примере рассказа «Соня»)
- Система бытийных мотивов в рассказе «Река Оккервиль»
- Мотивы творческой фантазии и имитации в рассказе «Факир»
- Мотив сна и его семантическое поле на материале повести «Сомнамбула в тумане»
Мотив «вечной Сонечки» как развитие мотива жертвенности (на примере рассказа «Соня»)
Первый рассказ Татьяны Толстой «На золотом крыльце сидели…» был написан в 1983 году и тогда же опубликован в журнале «Аврора». Рассказ дал название первому сборнику писателя, вышедшему в 1987 году (в 1989 — на англ. яз.) и включавшему в себя тринадцать рассказов1.
Рассказы, входящие в эту книгу, в основном затрагивают вечные и традиционные темы литературы — проблемы добра и зла, проблемы жизни и смерти, вопросы жизненной судьбы человека, его пути в мире и др. Однако, несмотря на философичность заявленных вопросов, в центре художественного мира большинства рассказов Толстой, как правило, стоит герой-ребенок2. Тема детства, так или иначе явленная в ранних рассказах, становится одной из центральных в творчестве писателя в целом.
В тех рассказах писателя, где дети не являются главными героями, они играют определенную роль и оказывают влияние на систему художественной образности, на определение ведущей идеи повествования. Например, фрагментарно детские образы появляются в рассказах «Самая любимая» (внук Женечки и ее ученики), «Факир» (дочь Гали), «Чистый лист» (больной ребенок) и др.
Рядом с героем-ребенком в системе персонажей ранних рассказов Толстой стоят герои-старики («Милая Шура», «Самая любимая», дядя Паша в «На золотом крыльце сидели» и др.) и герои «ненормальные», «чудики» («Соня», «Факир», «Ночь», «Огонь и пыль» и др.), те, кто умеет жить « Толстая в публицистике не раз упоминала о своем детстве как об одном из самых ярких и ностальгических периодов жизни. Вышедшие в последние годы эссе-воспоминания Толстой о детстве, о родителях, о Ленинграде воссоздают картины ее собственной жизни, в которых легко угадываются художественные образы и сюжеты ранних рассказов. Личный опыт, переживания, ощущения детства Толстая стремится передать в рассказах, создать «гербарий минувших дней»
Сборник рассказов «На золотом крыльце сидели» насквозь пронизан темой воспоминаний и объединен («закольцован») ею. В одних рассказах, входящих в сборник, детские воспоминания положены в основу сюжета, в других — становятся темой размышлений о прошлом: о детстве («Петерс», «Спи спокойно, сынок»), о молодости и любви («Милая Шура»). Образы-воспоминания в ранних рассказах писателя появляются и в выдуманных историях, в фантазиях героев — о царствовании Анны Иоанновны («Факир»), о волшебной стеклянной горе и красном драконе («Свидание с птицей»), о приключениях Пипки («Огонь и пыль») и др. Кроме того, рассказы Толстой изобилуют идейно значимыми деталями-предметами, которые связывают прошлое и настоящее, детство и взрослость: фотографии («На золотом крыльце сидели», «Соня», «Милая Шура» и др.), живописные портреты («Петерс», «Милая Шура»), письма («Соня», «Милая Шура»), вещи умерших (Сонина брошь-голубок, шляпа с четырьмя временами года милой Шуры, и др.).
Толстая нередко «доверяет» своим героям целые фрагменты собственной биографии. Почти в каждом детском персонаже Толстой
Прототипами художественных образов Толстой в рассказах о детях становятся не только сам автор, но и люди, сыгравшие большую роль в жизни будущего писателя. К примеру, образ любимой няни Груши, очевидно, оказавшей значительное влияние на формирование творческого стиля писателя, насыщенного сказочными образами и сюжетами, отразился в рассказе «Любишь — не любишь». С большой любовью маленькая героиня вспоминает о сказках няни: о «говорящих медведях, о синих змеях, которые по ночам лечат чахоточных людей, заползая через печную трубу, о Пушкине и Лермонтове … »1 и др. Воспоминания о другой няне — Клавдии Алексеевне (в доме Толстой — «Клавсевне») — прочитываются в образе героини-старушки в рассказе «Милая Шура»2. Героями рассказов Толстой становятся учителя («Самая любимая», «Любишь — не любишь», «Вышел месяц из тумана»), образы которых подсказаны школьными впечатлениями автора3. Соня в одноименном рассказе необыкновенно похожа на бабушку писателя, Наталью Крандиевскую, которая была музейным работником и, по воспоминаниям Толстой, проявляла к людям бесконечное милосердие, даже жертвенность, помогала одновременно 36 семьям. Сходство простирается вплоть до того, что эпизод из жизни бабушки во время блокады Ленинграда становится частью сюжета рассказа «Соня». Ср. о Наталье Крандиевской: «Ее спасла подруга, которую Господь надоумил со стаканом выданного по случаю киселя идти к ней через весь город. А она к этому времени была в своей заледенелой пустыне уже одна (Митю эвакуировали). В полузабытье ей очень не хотелось вставать. И все же встала, открыла»
Пейзажи в рассказах писателя непременно вызывают ассоциации или напрямую соотносятся с местами, где Толстая провела детство и юность: «проходные дворы Петроградской стороны» («На золотом крыльце сидели»), набережная реки Карповки («Любишь — не любишь»), «ленинградская квартира, сердцевина моего детства», кондитерская «Норд» («Самая любимая»), «разбитое Пулково» («Соня»), река Оккервиль в одноименном рассказе и др.
Воплощением детской идиллии у Толстой становится образ загородной дачи. Из воспоминаний: «у нас была дача с верандами и цветными стеклами»1 — и в рассказах о детстве: «На золотом крыльце сидели», «Свидание с птицей», «Самая любимая» и др. — «дачное утро», «черный бревенчатый сруб», «солнечная веранда», заставленная кадками с цветами, коробками, книгами и сад. Эпизоды из дачной жизни семьи Толстой: покупка у соседей молока, ягод, посадка клубники, происшествия на озере и др.2 буквально прочитываются в рассказах «На золотом крыльце сидели», «Свидание с птицей».
Система бытийных мотивов в рассказе «Река Оккервиль»
Заметим, что в лингвистических словарях слова «юродивый», «безумный», «глупый», «дурачок» стоят в одном синонимическом ряду1, в котором мудрость юродивого определяется как прикровенная, а глупость — как притворная или мнимая. Именно такие черты формируют образ Сони у Толстой. Причем мудрость героини оказывается в рассказе прежде всего духовная, душевная, сердечная, ее способность к самопожертвованию проявляется через любовь.
Соня влюбляется в «выдуманного» ее недругами героя. Она любит вымысел, иллюзию, фантом. «У Сони — поклонники?!» (с. 133) — иронично замечает Ада. И предлагает выдумать для Сони таинственного возлюбленного, безумно любящего ее, но не имеющего возможности быть с ней. «Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиного отца» (с. 133). «Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем … и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию» (с. 134).
Мотив юродства главной героини, вбирающий в себя мотивы доверчивости и наивности, реализуется прежде всего в готовности персонажа любить: она тут же влюбилась, «клюнула» (с. 134). Развитие любовного сюжета у Толстой оказывается подчинено законам эпистолярного жанра. Письма Сони и ее возлюбленного составляют единственную реальную основу их любовного чувства. В переписке возникают страстные отношения между героиней и фантомом-Николаем — «переписка была бурной с обеих сторон» (с. 134). Выдумщицей Адой и ее большой компанией искусно обыгрываются любовные штампы: к примеру, «Николай сравнивал Соню с лилией, лианой и газелью, себя — с соловьем и джейраном, причем
Кажется, что в рассказе Толстой актуализируется проблема «маленького человека», обретающего «я» через письма к ее возлюбленному (подобно Макару Девушкину из «Бедных людей» Ф. М. Достоевского)1. Однако эпистолярный роман, пусть даже с несуществующим Николаем, нисколько не «умаляет» образ Сони, а «превозносит» его. Мотив самоотверженной любви героини поднимает ее, делает тверже и сильнее, позволяет обрести истинный смысл жизни. Ее способность по-настоящему любить (вымышленного) героя и глубоко сопереживать ему обнаруживает человеческую силу героини, обозначает художественную яркость образа.
Мотив любви-вымысла в рассказе «Соня» становится в один ряд с традиционными для ранних рассказов Толстой мотивом детскости — с мотивами мечтательности и сказочности. Но если обыкновенно у Толстой мотивы мечты-фантазии были связаны с образами самих героев-мечтателей, то здесь мотив иллюзии-мечты порожден и сформирован чужой фантазией-шуткой. Хотя и героиня участвует в сотворении мечты: она самоотверженно отдается ей и превращает ее в собственную реальность — но корни мотива оказываются заложенными в другом образе, в образе змеи-Ады.
Существенным оказывается тот факт, что коллизия рассказа Толстой строится главным образом на «шутке-игре», инициированной Адой. «Ада // змея»: «женщина-змея», «острая, худая, по-змеиному элегантная» (с. 129) — становится не просто провокатором, но и «двойником» (alter ego) выдуманного ею же Николая, противником-возлюбленным Сони. Мотивный комплекс, ранее у Толстой связанный с образом главной героини (героя), в данном случае раздваивается, членится на две линии, кажется, не только не пересекающиеся друг с другом, но и противоречащие одна другой. Ада —
Ассоциативная и фонетическая перекличка слова ад и имени Ада позволяет буквально понять выражение «почта от Ады», т.е. «адская почта», что еще более усиливается словосочетанием «адский планчик» (с. 132). «Адские детали» постепенно выстраивают мотивный ряд, обретающий собственную сущность и воплощающий идею двусоставности мира: ад и рай, Бог и Дьявол. В результате Ада становится своего рода посланником того света как неизбежной составляющей представления о сложном и емком мире в целом. Мотив двусоставного («дуального») мира, явленный в первом рассказе через со- и противо-поставление взрослого и детского миров, мечты-сказки и жизни-реальности, прошлого и настоящего, в этом рассказе реализуется как антитеза противопоставленных мотивов мира живых и мертвых, настоящего и вымышленного — в конечном счете порождающих в своем диалектическом единстве цельность и подлинность реальности.
Так, мотив причастности Ады-Николая к «потустороннему» миру оборачивается своей противоположностью: Ада-враг оказывается Николаем-возлюбленным Сони. И так же, как это было прослежено в рассказе «На золотом крыльце сидели», невидимая отсылка к мотиву жениха из «другого мира» (условно-фольклорного «мертвого жениха»1) вновь обнаруживает глубины создаваемого Толстой художественного мира: спираль времени уводит героев в фольклоризированное и мифологизированное прошлое, смыкая тогда и теперь, расширяя пределы вселенной, в которой существуют персонажи. Обращение Толстой к мотиву взаимодействия разных миров позволяет говорить о попытке прозаика совместить бестелесный мир мечты (иллюзии) с миром реальной действительности (жизни), о стирании границ между видимым и невидимым. Ада — реальность, Николай — вымысел, но они суть одно и то же. Толстая говорит о том, что Ада так активно включается в игру, так вживается в роль Николая, что сама едва ли не превращается в него: «порой в зеркале при вечернем освещении ей Аде мерещились усы на ее смугло-розовом личике» (с. 136). А по ходу развития сюжета (блокадные эпизоды) Ада попросту вытесняется Николаем, действительно превращается в него. Рассказчик воспринимает Аду глазами Сони и уже прямо называет ее Николаем, описывает ее как лицо мужского пола: «Николай лежал» (с. 138); «гладко побритый» (с. 139); «Соня прижалась к его глазам», «напоила его» (с. 139).
Обращение Ады в Николая актуализирует в рассказе мифологический по своей природе мотив умирания и перерождения — «оборотничества», который соотносится с архаической концепцией «двойственности» и «взаимооборачиваемости», т.е. взаимопроникновения различных сторон действительности друг в друга. Эта идея отражает мысль писателя: кажущееся истинным может быть ложным, а ложное может оказаться поистине подлинным, реальное выдуманным — и наоборот. Мотив оборотничества (обращения), не «материализованный» в тексте посредством «предметных» деталей, становится «непрописанным», но зримым мотивом, бросающим отсвет на отношения реальной возлюбленной и вымышленного возлюбленного.
Мотивы творческой фантазии и имитации в рассказе «Факир»
Среди адово-черных коннотаций окружающей обстановки природный мотив наводнения, мощно звучавший на протяжении всего повествования, оборачивается (почти от слова «оборотень») библейским мотивом всемирного потопа. «Дверь распахнулась под напором шума почти воды , пения и хохота1, хлынувшего как потоп из недр жилья…» и в нем «мелькнула Вера Васильевна, белая2, огромная, нарумяненная, черно- и густобровая, мелькнула там, как в потоке волн громко хохочущая, раскатисто смеющаяся как наяда , мелькнула — и была отобрана судьбой навсегда» (с. 340). Былая возлюбленная Вера Васильевна исчезает, как растворяется в тумане на глазах обернувшегося Орфея мифическая Евридика. Легендарный катастрофический потоп становится знаком утраты всяческих надежд героя — «оставь надежду всяк сюда входящий…» (текст над вратами ада в заключительной фразе «Божественной комедии» Данте).
Словно бы в развитие библейских мотивов Толстая воспроизводит все, увиденное героем за распахнутой в квартиру Веры Васильевны дверью, как шутовскую (раблезианскую) пародию на «Тайную вечерю»: «там, за накрытым столом, в освещенном проеме, над грудой остро, до дверей пахнущих закусок, над огромным шоколадным тортом, увенчанным шоколадным зайцем» (с. 340), «над салатами, огурцами, рыбой и бутылками» (с. 341) пировали «пятнадцать человек» (не двенадцать), «хохотали, глядя ей в рот: у Веры Васильевны был день рождения» (с. 340). Слова «день рождения» звучат как насмешка: «второе» рождение («возрождение») Веры Васильевны оборачивается в сознании Симеонова днем смерти его возлюбленной. Дважды повторенное наречие «лихо» (с. 341) становится сигналом неизбежного лиха, беды.
В несобственно-прямой речи героя звучат эмоционально-страстные слова: «Чужие люди вмиг населили туманные оккервильские берега, тащили свой пахнущий давнишним жильем скарб — кастрюльки и матрасы, ведра и рыжих котов, на гранитной набережной было не протиснуться, тут и пели уже свое, выметали мусор на уложенную Симеоновым брусчатку, рожали, размножались, ходили друг к другу в гости…» (с. 342). В ответ Симеонов «топтал серые высокие дома на реке Оккервиль, крушил мосты с башенками и швырял цепи, засыпал мусором светлые серые воды…» (с. 341–342).
Но повествовательский голос вводит уравновешивающую бесстрастную ноту, в которой «река т.е. жизнь вновь пробивала себе русло, а дома упрямо вставали из развалин, и по несокрушимым мостам скакали экипажи, запряженные парой гнедых» (с. 342).
Последние слова вводят затекстово романс «Пара гнедых»1, чьи образы, с одной стороны, поддерживают рассказовую интонацию раздумий и вводят мотивы быстро и незаметно пролетающей жизни («Были когда-то и вы рысакам, / И кучеров вы имели лихих, / Ваша хозяйка состарилась с вами, / Пара гнедых! Пара гнедых!..»), мотивы невозвратного счастья, одинокой старости («Кто ж провожает ее на кладбище? / Нет у нее ни друзей, ни родных...»), а с другой стороны — еще раз высвечивает от-романсность бытия Симеонова, несовпадение литературы и жизни, поэтично-музыкальных образов «сухонькой», слабеющей, одинокой (как Симеонов) певицы и «толстой» (с. 342), «тучной» (как туча) наяды, поворачивающейся «туда-сюда тучным телом» (с. 341) и жаждущей грибков («Грибков передайте!»; с. 343).
Рассказ Толстой не строится на художественных контрастах и антитезах, которые нельзя сгладить и растушевать, ее противопоставления неизбежно оборачиваются сопоставлениями, «хорошо» переходит в «плохо», «красиво» в «гадко», но и с такой же легкостью и последовательностью строго наоборот: «чужое» в «родное», «бытовое» в «бытийное». Симеонов смотрит, «как шевелится ее Веры Васильевны большой нос и усы под носом, как переводит она с лица на лицо большие, черные, схваченные старческой мутью глаза…», но, не позволяя драму превратить в трагедию (или в фарс), Толстая тут же вводит иные детали и мотивы: «кто-то включил магнитофон, и поплыл ее серебряный голос, набирая силу…» (с. 343). Мирское и небесное, съестное и духовное тесно переплетены в мире Толстой, позволяя писателю не впасть в романтически непримиримое двоемирие или примитивное морализаторство.
Только что умершая для героя возлюбленная («я почтил память покойной», с. 343), в тексте Толстой неожиданным образом оказывается вновь неразрывно соединенной с ним. Персонаж по фамилии Поцелуев, «особо, интимно приближенный самим звучанием его фамилии» (с. 341) к реальной Вере Васильевне, упоминает о редкой старой записи певицы под названием «Изумруд» (или «Темно-зеленый изумруд»; с. 342)1 и сожалеет, услышав ответ: «Жаль. Который год ищем, прямо несчастье какое-то. Ну нигде буквально» (с. 342). Однако мистика рассказа Толстой замешана на самых неожиданных связях и сопоставлениях — камнем-талисманом героя с именем Симеонов оказывается изумруд. Гороскопическая символика «зеленого имени» героя рассказа Толстой могла оказаться случайностью, но художественно провидческой.
Едва вырвавшийся из адища черно-белой призрачно-реальной действительности, Симеонов, оказавшийся у дверей собственной квартиры, теперь уже иначе воспринимает мысль о доме, семье, Тамаре: «родная!» (с. 343) — с восклицанием произносит герой. И, кажется, в традиции русской литературы персонаж преобразился, переродился, изменились его ценностные ориентиры, он начнет новую, реальную, не мечтательно сонную жизнь. Однако Толстая отказывается от идеализации и благодушия, предлагаемых русской классикой: ее герой «пообещал Тамаре жениться» (с. 343), но «под утро, во сне, пришла Вера Васильевна, плюнула ему в лицо, обозвала и ушла по сырой набережной в ночь, покачиваясь на выдуманных черных каблуках» (с. 343). Status quo восстановлено, все в жизни вернулось на круги своя.
Пережитая героем драма (трагедия или фарс) превращается в «человеческую комедию», в которой накрепко слиты высокое и низменное, поэтическое и земное, воздушно музыкальное и угольно антрацитовое. В финале рассказа всплывает приниженно-огрубленная реальность подлинной (не литературной) жизни. В тексте возникает эпизод, послуживший истоком рассказа, художественно воссоздаются обстоятельства из реальной жизни Ахматовой — великая дива (певица, поэтесса, актриса1) привезена в чужую квартиру, чтобы помыться в ванной.
Симеонов «против воли прислушивался, как кряхтит и колышется в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны, как с хлюпом и чмоканьем отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода…» (с. 343). Вновь — кольцеобразно — возникает образ воронки времени, «черной воронки» (с. 333), которая затягивает не только воду, но человеческие жизни. Вышедшая из ванной «красная, распаренная», в халате Вера Васильевна, шлепая «по полу босыми ногами», произносит: «Фу-ух. Хорошо», — смыкаясь в своей реплике со словами «внутреннего демона» Симеонова: «Фу, не надо» (с. 339). Ангел и демон слились у Толстой в одном звуке, в одной экспрессии. И это для современного писателя единственно жизненно и единственно истинно.
Мотив сна и его семантическое поле на материале повести «Сомнамбула в тумане»
Попытка обращения к проблеме вечного в настоящем приводила к тому, что и проблема народного характера обретала у Толстой черты русского характера вне его исторической привязки и конкретизации, вне времени. Потому возрастные или событийные вехи в жизни героев 200 лет, 233 года, 300 лет, 400 лет носят скорее абстрактно-бытийный, чем уточняющий характер, выводят события происходящего в романе на уровень всеобщности и постоянства, некой национальной константы, которая сопрягает все исторические пласты текста («стягивает» их, в терминологии Н. Б. Ивановой)2.
Из установки на всеобщность и вневремённость вытекает и жанровая разновидность, к которой большинство критиков и исследователей романа относит повествование, антиутопия3. Устойчивость характерных примет российской действительности приближает толстовскую антиутопию к политической сатире (хотя автор, по ее утверждению, старалась уйти от политических аллюзий и перекличек, от «дешевого подмигивания: имеется в виду, дескать, имярек и его поступки»4), и примыкает к той традиционной русской сатире, которая обнаруживается в «Ревизоре» Н. Гоголя или «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина (причем в большей степени последнего). Толстая действительно изображает те пороки (= свойства) российской жизни, которые, кажется, неисчерпаемы, неуничтожимы, неистребимы (угодничество перед власть предержащими, восхваление и преклонение перед «малым» руководством, казнокрадство и стяжательство, грубость и цинизм, ложь, обман… и мн. др.).
Любопытно, что в одном из интервью Толстая говорит о том, что ее интересует даже не русский характер, а уточняет русская душа. Мотив познания души, внутреннего мира человека, проходящий красной линией в ранней прозе писателя, в «позднем» романе писателя становится основополагающим. Возможность «постичь эту душу» Толстая видит в том, что можно с «некоей индифферентно-этнографической позиции … изучать ее природу» как бы «с балкона», т.е. извне, издалека, а можно «попытаться стать ею: втиснуться в ее, так сказать, шкуру и, отсекая, отмывая, оттирая от своего сознания “достижения культуры и цивилизации”, попытаться погрузиться в “это”»1, т.е. в нее, в душу. В ранних произведениях Толстой эта художественная задача являлась в множественных мотивах детскости, детского мировоззрения, воспоминания, «чудаковатости», блаженства, мечты, фантазии, творческого воображения, сомнамбулизма, формирующих образ героя, его внутренний мир. В «Кыси» Толстая пытается соединить, сплести воедино мотивы ранней прозы в образе нового главного (теперь романного) героя — героя-ребенка, героя-чудика («голубчика»), мечтателя, примитивного искателя-философа. При этом интересно высказывание Толстой о «смутном абрисе души» — о том, что «у человека не одна душа, а несколько…»2 Как представляется, из этой установки и рождается новый романный герой Толстой.
Имя главного героя Бенедикт (лат. «благословенный»)3. Уже значением имени герою романа заданы мотивы счастья, божественного покровительства, отмеченность4. Герой (кажется) отличается от прочих «голубчиков» некой особостью, одаренностью. Однако в рамках романа идеалистический мотив благословенности героя, присущий ранним рассказам, постепенно усложняется и сближается с мотивом не только детской наивности, но и пугающей глупости. Заметим, что одним из синонимов эпитета «благословенный» является слово «блаженный», что, несомненно, связывает образ Бенедикта с предшествующими героями рассказов Толстой (вспомним Соню, милую Шуру, Пипку и др.), но одновременно придает образу черты юродивого, «сниженного» блаженного.
Одна из героинь говорит о душевной неординарности Бенедикта: «Я знаю, вы способны тонко чувствовать… У вас, мне кажется, огромный потенциал» (с. 115)1. И герой Никита Иванович скажет о Бенедикте, что он «причастен…» (с. 145). Бенедикт лучший (если так можно сказать) из «голубчиков». «У Бенедикта вот никаких Последствий отродясь не было, лицо чистое, румянец здоровый, тулово крепкое … Пальцев … сколько надо, не больше не меньше, без перепонок, без чешуи, даже и на ногах. Ногти розовые. Нос один. Два глаза. Зубы что-то много, десятка три с лишним. Белые. Борода золотая, на голове волосья потемней и вьются…» (с. 32) и т.д. У него, правда, есть небольшой и по-своему симпатичный хвостик, но он будет отрублен ради «частичного очеловечивания» (с. 179). В той мере, в какой это возможно для «голубчика», Бенедикт умен и прозорлив, одарен и «отмечен». Мотив божественной «причастности» и избранности выделяет Бенедикта из толпы «голубчиков» во исполнение определенной миссии — познания законов бытия — и становится одной из лейтмотивных нитей романа, сплетаясь с мотивами познания души и (со)творения.
Для рассказов Толстой начала 1980-х гг. было свойственно построение повествования на основе столкновения мотивов детскости и взрослости, творческого воображения и прагматики/имитации («На золотом крыльце сидели», «Соня», «Петерс», «Милая Шура», «Свидание с птицей», «Факир» и др.), того, что иначе может быть определено как столкновение мотивов мечты и реальности (о чем неоднократно говорила критика). По существу тот же принцип положен в основу «Кыси». Другое дело, что мотивы детскости и мечты, воображения в данном случае наполнены у Толстой не столько радужностью, многоцветьем, идеалистическим восприятием и всеприятием мира (как было прежде), сколько искажением этого восприятия через сознание «голубчика», (недо)человека образованного, но на уровне «азъ-ов»; умного, но по-детски; умелого, но примитивно.
Образ центрального героя «усложнен» тем, что «голубчик» Бенедикт имеет разные корни. По матери он — из «прежних», т.е. условно наследует черты «людей», вбирает в свой образ мотивы-характеристики «взрослых», мотивы былой памяти, интеллекта, цивилизационности и др.
Интересно отметить, что «последствием» взрыва для «прежних», наделенных «культурным» знанием, становится (почти) «вечная» жизнь «прежние» после взрыва оказались способны «не стариться» (с. 15, 128), не умирать естественной смертью («живут себе и не помирают от старости-то», с. 128), только в результате «несчастного случая», например, отравления как мать Бенедикта, которая «огнецов объелась» (с. 15). В ироническом ракурсе, но культура «прежних», память о ней становится их «защитой», поддержкой, оберегом, гарантией их вечной молодости («Двести тридцать лет и три года прожила матушка на белом свете. И не состарилась…», с. 15).