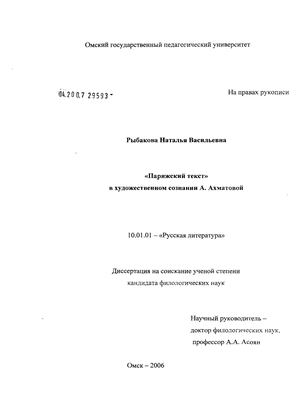Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Париж в рецепции А. Ахматовой 11
1. «Текст в тексте» и становление «парижского текста» в русской литературе 11
2. «Настоящий Париж» в художественном сознании Ахматовой 28
3. «Бодлеровский» Париж в ахматовской лирике 35
4. «Погибший» Париж в лирике Ахматовой 50
ГЛАВА II. Тезаурус «парижских» мотивов в лирике Ахматовой 59
1. Мотив «костра» 59
2. Мотивы «полночи», «тишины» 66
3. Мотив «луны» 71
ГЛАВА III. «Флоберовский текст» в творчестве Ахматовой 85
1. Эмма Бовари - «змея» как поэтическое зеркало «парижского текста» Ахматовой 85
2. Мотивы «обмана»/«измены», «тела»/«души» как воплощение «любви-смерти» в лирике Ахматовой 96
3. Мотивы «сладости», «утоления», «томления» как «Неутоляющее питьё» поэзии А.А. Ахматовой 101
4. Образ «любовника» (Родольф и Леон) в контексте лирики Ахматовой 108
5. Флористический код «шиповника» и «жасмина» в лирике Ахматовой 122
Заключение 129
Библиография: ...133
- «Настоящий Париж» в художественном сознании Ахматовой
- «Погибший» Париж в лирике Ахматовой
- Эмма Бовари - «змея» как поэтическое зеркало «парижского текста» Ахматовой
- Мотивы «сладости», «утоления», «томления» как «Неутоляющее питьё» поэзии А.А. Ахматовой
Введение к работе
«Область совпадений столь же огромна, как область заимствований и подражаний» (В.К. Шилейко) Понятие «текст в тексте» является общепринятым в новейших литературоведческих исследованиях. На его основе можно проследить сквозные мотивы в художественной литературе и взаимосвязи творческих индивидуальностей. Одной из составляющих этого понятия является «город-текст» как система много- и разноуровневых текстуальных символьных перекличек, вскрывающих механизм жизни города, сущность его бытия. Наряду с уже известными в литературоведении «городами-текстами» важное место занимает и «парижский текст». «Парижский текст» - гипертекст эпох и сознаний, генетически и исторически связанный с мировым культурными комплексами в синхронии и диахронии времени. Реальная действительность Парижа (улицы, памятники искусств, исторические события, быт и т.д.), входя в художественный пласт Города, образует устойчивое пространство знаков-символов, представляющих «настоящее» бытие Парижа. Будучи открытой символьной системой, способной к постоянной генерации и трансформации смыслов, Париж является городом-турбулентом, проникающим и связывающим все сферы жизни человека. Поэтому наблюдаемые в истории культуры стремления уловить и прочесть изменчивую сущность Города создали так называемый «миф» о Париже.
Изучение «парижского текста» представляется актуальным, научно-продуктивным, ибо Париж как «город-текст» аккумулировал в себе разнообразные культурные интенции поэтов и писателей Серебряного века.
Новизна работы заключается в том, что тема Парижа (отдельные образы, мотивы, факты истории), сквозная в русской литературе, не имела целостного осмысления в литературоведении. Поэтому, исследование «парижского текста» в лирике А. Ахматовой обладает определённой новизной.
Целью исследования является обнаружение своеобразия художественного отклика Ахматовой на сложившийся в мировой культуре «миф» о Париже и выявление составляющих элементов «парижского текста» поэта. Представленная цель обусловила ряд конкретных задач: проследить этапы становления «парижского текста» в русской литературе; указать особенности поэтической рефлексии Ахматовой на Париж; выявить темы, мотивы, образы, позволяющие увидеть знаки и символы Парижа Ахматовой; обнаружить своеобразие «парижских» зеркал лирики Ахматовой и специфику их художественной трансформации в сознании поэта; выявить составляющие компоненты «флоберовского текста» в творчестве Ахматовой и показать уровни их контекстуального взаимодействия в лирике поэта.
Объектом исследования является лирический «текст» Ахматовой, в котором вычленяется «парижская» тема в наиболее ярко выраженных «рубежных» смыслах, а также мемуарная проза, системно рассматриваемая в актуальных аспектах общего контекста всего творчества А.А. Ахматовой, и автобиографические записи поэта. При этом ахматовский контекст связывается с целостностью культуры рубежа XIX-XX столетий.
Предметом исследования является контекстуальное пространство «парижского текста» Ахматовой, включающее разноуровневую многомерность культурных символов разных эпох и сознаний контаминационно и корреляционно представляющих целостность эпохи и художественного сознания поэта. «Парижский текст» в художественном сознании Ахматовой отличен от «петербургского», «московского» «текстов» русской литературы. Прежде всего, ахматовский «парижский текст» - поэтическая рефлексия, диалог с «текстом» французской культуры в целом. Не город Париж как «текст» является предметом осмысления Ахматовой, а уже созданные «тексты» в поэзии, прозе, искусстве, воплощающие образ Парижа, становятся объектом художественной рецепции Ахматовой. Темы, мотивы, ценностные ориентиры героев, сюжетные и композиционные включения входят в контекст Ахматовой как одно из составляющих её многопластовой лирики. «Парижский текст» в лирическом сознании Ахматовой носит автобиографический характер.
Методология данной диссертации мотивирована спецификой самого «парижского текста», раскрывающего символическую многоуровневость и семантическую неоднозначность Парижа. С одной стороны, Париж как гипертекст мировой культуры требует историко-культурного подхода при интертекстуальном и системном методе анализа. С другой, — специфика ахматовского письма - поиск своих отражений в разных зеркалах эпох и сознаний - выявляет необходимость мотивного анализа с элементами мифопоэтического подхода. В целом, учитывая «тайнопись» Слова Ахматовой и Парижа, постоянно развивающегося «текста» культур, неоднозначного и не всегда чётко уловимого, амбивалентного в художественных воплощениях и постоянно создающего внутреннее движение различных смысловых параллелей при их, казалось бы на первый взгляд, алогичных взаимодействиях, создаётся необходимость герменевтического подхода как способа «тайное» сделать явным.
В качестве методологической базы были использованы работы М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, В.В. Абашева, Н.Е. Меднис, а также известные работы по ахматоведению - А. Хейт, Э. А. Герштейн, Р. Тименчика, Т.В. Цивьян, С.В. Бурдиной и др.
Положения, выносимые на защиту. «Парижский текст» Ахматовой является художественным откликом на уже существующие «тексты» о Париже (Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Золя, Г. -де Мопассана, Ж. де Нерваля, Г. Флобера, Фр. Вийона).
Образ Парижа видится Ахматовой в антиномичности «уходящего настоящего» и уже ставшего «страшного будущего» как «умирания» культуры и «торжества» цивилизации в непримиримой борьбе Духа и Плоти, Добра и Зла.
Поэтические зеркала, - Сандрильона, Жанна д'Арк, Саломея, Клеопатра, Эмма Бовари, - становясь художественно-биографическими рудиментами творчества поэта, вводят поэтические миры Ахматовой в разные временные и пространственные контексты европейской культуры, позволяя говорить о «парижском тексте» как о метатексте эпох и сознаний, контаминирующихся и коррелирующихся в границах целостности культуры Серебряного века.
Практическая ценность работы.
Материалы и результаты исследования могут быть использованы при разработке проблематики творчества А. Ахматовой, лекционных курсов, практических занятий по истории русской литературы первой половины XX века, спецкурсов и спецсеминаров, посвященных творчеству А.А. Ахматовой, а также в процессе руководства курсовыми и дипломными работами в вузах. Апробация работы.
Отдельные положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях аспирантского семинара кафедры, излагались в виде докладов на межвузовской научной конференции «Реальность. Человек. Культура» (Омск, 2002, 2003 гг.), на II межвузовской научной конференции «Исторические тенденции развития общества на рубеже ХХ-ХХІ веков» (Омск, 2004 гг.), на Всероссийской научной конференции «Семантическое поле культуры: генетические связи, типологические параллели, творческие диалоги» (Омск, 2005 г.), на межрегиональной научно-практической конференции «Социальные коммуникации и социальные науки в Сибирском регионе» (Омск, 2006 г.).
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения.
В первой главе «Париж в рецепции А. Ахматовой» раскрывается неоднозначность восприятия Ахматовой французской столицы.
Во-первых, Париж видится как культурный топос. Это Париж «артистической богемы» Монмартра и Монпарнаса, парижского периода творчества Модильяни; Париж «артистического духа» Сен-Жермена; Париж «свободолюбивого» Латинского квартала. Особое место у Ахматовой занимает Люксембургский сад как бытийный топос. Будучи местом неоднократных «встреч» с Модильяни, он становится главным символом её Парижа - города культуры и любви. «Умирающий Лебедь», ключевой символ её «настоящего Парижа», является прообразом «культурного», художественно сохранённого «старого Парижа» в «мёртвых зеркалах» эпохи, Парижа, вечно изменяющегося и вечно хранящего память своего прошлого.
Во-вторых, «страшный» «бодлеровский» «проклятый Париж», Париж «плоти», символически соотносимый в художественном сознании Ахматовой с апокалипсически «гибельным» Петербургом/Ленинградом и просматривающийся в ликах «Пляски смерти». В антиномичности «уходящего настоящего» и уже ставшего «страшного будущего» видятся Ахматовой-Кассандрой «умирание» культуры и «процветание» цивилизации как торжества Плоти и Зла над Духом и Добром, живым воплощением которых была для поэта жизнь и творчество Амедео Модильяни.
И, наконец, «погибший» Париж как «погребение эпохи» - гибель «старой» культурной Европы. Называя событие «гибели» Парижа как «погребение эпохи» и соотнося эту гибель с верленовским Парижем, «Элладой теней», а также с «траурным» Петербургом, «городом-кладбищем», Ахматова тем самым непосредственно вводит тему «погибшего Парижа» в «текст» Некрополя эпохи - в «гипертекст» «Поэмы без героя», в «текст» «теней» и «зеркал» своей лирики, являющийся, в целом, «текстом» Памяти о Прошлом.
Во второй главе «Тезаурус «парижских» мотивов в лирике Ахматовой» рассматриваемые мотивы «костра», «полночи», «тишины» и «луны», будучи составляющими «парижского текста» лирики Ахматовой, выражают сущность поэта как её интенцию к самопознанию в «зеркалах» эпохи. Поэтические зеркала, такие, как: Сандрильона, Жанна д'Арк, Саломея, Клеопатра, - имея в истории литературы и искусства определённую символическую заданность, в контексте лирики Ахматовой приобретают новое звучание.
Героическое начало воина-девы Жанны д'Арк воплощено у Ахматовой в образе женщины-свободы, взявшей на себя «роль рокового хора» («Поэма без героя»), роль «страшной книги грозовых вестей» («Памяти 19 июля 1914»). Подвиг женщины-поэта - это «жертвенность» во имя Любви («Путь мой жертвенный и славный / Здесь окончу я») и её неустрашимая готовность быть летописцем жестокой эпохи.
Образ Сандрильоны трактуется в свете трагизма «встречи-разлуки». Хронотоп «полночь» сказки Ш. Перро («встреча-разлука» красавицы Сандрильоны и принца) художественно трансформируется Ахматовой в возможность «встречи» «во сне», «разлуки» - «наяву» (например, в стих. «Во сне» из цикла «Шиповник цветёт»). В вещном образе «хрустального башмачка» Сандрильоны запечатлена образность, кореллирующая с художественной целостностью Пьеро-Арлекина, сквозным символом мировой культуры конца XIX - начала XX веков, и с «мужем-любовником», образом, актуальным для лирики Ахматовой.
Образы Саломеи и Клеопатры в художественном сознании Ахматовой связаны с событиями дягилевских русских сезонов в Париже и с идеей сценического балетного действия, центральной фигурой которых предполагалась Ида Рубинштейн.
Тема единства Эроса и Танатоса, Красоты и Смерти и, как одно из этих воплощений, образ Саломеи особенно актуализируются в литературе и искусстве XIX - начала XX вв. («О Красота! Я из твоих очей струи забвенья пью!» [Ш. Бодлер «Маска»]). «Танец семи покрывал» Саломеи, как и её слава «вавилонской блудницы», является ярким воплощением сюжета «Пляски смерти», сквозного в культуре конца XIX начала XX веков. В художественной ситуации 1910-х гг. уайльдовские образы (Саломея и молодой сириец) подчёркивают глубину неразрывности «любви-смерти»: у Ахматовой они эксплицируют содержание образа Князева-Пьеро и усиливают ощущение трагизма самоубийства героя. В художественно-биографическом пространстве лирики Ахматовой Саломея становится как прообразом «роковых» женщин, увековеченных искусством, виновниц многих «катастроф», femme fatale, так и эмблематическим воплощением Парижа как «Рима» / «Вавилона».
Клеопатра, отождествляясь с луной и Венерой, в лирическом сознании Ахматовой является ещё одним художественно-биографическим зеркалом её лирики - «женщиной с удивительно притягательной силой», сохранившей своё очарование и перед смертью («И входит последний, пленённый её красотою» («Клеопатра»)) - одним из артистических образов поэта-Ахматовой. Клеопатра как фигура исторического и художественного контекстов, как сквозной образ «сладостной тени» в «мёртвых зеркалах эпохи», становится в «парижском тексте» Ахматовой воплощением сущности «сладострастного» Парижа-Вавилона.
В третьей главе «Флоберовский текст» в творчестве Ахматовой» обнаруживается ещё одно «парижское» зеркало лирики Ахматовой - Эмма Бовари.
Образ Эммы Бовари в лирике поэта демонстрирует сущностные начала («змеиность» и «лунность») страстной и роковой натуры самой Ахматовой, жаждущей, как и героиня Флобера, воплощения Истинной любви - Встречи с Ромео. Характерные качества «змеиной» натуры Эммы Бовари (безумие страсти, воля, притягательный «магнетизм» натуры) в поэзии и в жизни Ахматовой соприсутствуют, но не столь обнажены, ибо здесь телесность пронизана не вожделением плоти, а высотой Духа Поэта. У Ахматовой сила земного Эроса способна к перерождению в Эрос небесный. Жизнь же Эммы -хаотическое движение от одного мига страсти к другому при постоянном поиске новых наслаждений. В художественно-биографическом облике Ахматовой, в чертах «деловитой парижанки» (стих. «Из «Чёрных песен», посвященном, как известно, Б. Анрепу) и «неверной жены» (стих. «Ночью» из сб. «Подорожник»), также заметны семантические параллели с флоберовской героиней: подчёркивается проявление обманной «запретной любви» как Эммы Бовари, так и поэта Анны Ахматовой.
Мотивы «обмана»/«измены», «тела»/«души», «сладости», «утоления», «томления», текстуально обозначенные у Флобера, имеют и непосредственное выражение в лирике Ахматовой. Но наблюдаются существенные различия. Если для Эммы - это стремление жизненно воплотить идеалы воображаемой перцептивной реальности («искала утоления воображаемых страстей»), то для Ахматовой существует «поэзия как утоление». В трагизме постоянной смены «гибели» и «спасения», «измен»/«обманов» выражена сущность поэта Анны Ахматовой: будучи «и монашенкой, и блудницей» - быть всегда «причащённой Любви».
Флоберовские герои Родольф и Леон, становясь ещё одним литературным подтекстом образа «любовника», как и возникшие флористические мотивы «шиповника» и «жасмина», углубляют тему «мужа-любовника» в поэзии Ахматовой. Используя язык «селама» и контекст Флобера, Ахматова обыгрывает в своей лирике эротическую семантику флористических образов.
В заключении диссертации резюмируются выводы и перспективы исследования.
«Настоящий Париж» в художественном сознании Ахматовой
«Это он показал мне настоящий Париж»(2,148), - писала Ахматова в известной работе «Амедео Модильяни» [2, с. 145]. В этом небольшом эссе, носящем биографический характер и насквозь проникнутом впечатлениями о Париже, реально увиденном во время её нескольких поездок в 10-х и 60-х годах, сочетание «настоящий Париж» вбирает художественный образ французской столицы, воплощённый в судьбах современников поэта и произведениях предшественников, отображает многоликость культурного Парижа.
Но, прежде всего, словосочетание «настоящий Париж» непосредственно связано с именем художника начала XX века Амедео Модильяни, встречи с которым оставили неизгладимый отпечаток в творчестве и судьбе Ахматовой. «Настоящий Париж», являясь реминисценцией из «Записок вдовца» П. Верлена4, указывает на Монмартр как на один из центров художественной жизни Парижа конца XIX - начала XX веков, той царящей «настоящей» артистической богемы, в диалогических рефлексиях с которой начинался в 1906 году «парижский» период Модильяни. Именно здесь, на улице Равиньян, «на сборищах» в Бато-Лявуар, в атмосфере богемной непринуждённости с её остротой эстетических споров, бесконечных импровизаций и мгновенных, неожиданных откликов на любую тему искусства и литературы, возникла ситуация непримиримости художественно-экспериментальных исканий (кубизм, фовизм) и традиционализма, ставшего для Модильяни духовным стержнем и нашедшего воплощение в его тончайшем психологизме образов. Вследствие этого, Ахматова в лаконичной поэтичной фразе «...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни» [2, с. 149], акцентируя внимание на 10-х годах XX века, времени гегемонии кубизма (поэтому здесь «недавно победивший»), подчёркивает глубину и противоречивую внутреннюю силу возникшего резонанса художественной действительности («победивший кубизм» «бушевал») в духовной позиции Модильяни, оставшегося верным живому обнажению внутренней «тайнописи» Человека, как продолжению традиций итальянского Ренессанса.
«Настоящий Париж» - это и Париж квартала Сен-Жермен, средоточия «культурного» Парижа (заметим, не случайно Ахматова в 10-х годах жила на рю Бонапарт, одной из «старых» улиц этого «аристократического квартала»), где располагалось старинное бенедиктинское аббатство, знаменитое во Франции XVIII века место духовности и просвещения. Это Париж «артистического духа» эпохи Людовика XV, оставшийся местом встречи писателей, артистов, художников, политиков.
«Настоящий Париж» для Ахматовой - это и «Старый Париж за Пантеоном» («Водил меня смотреть le vieux Paris derriere le Pantheon ночью при луне» [2, с. 145]), историческое начало Парижа (о. Сите, о. Сен-Луи и левый берег Сены). Не случайно в «Амедео Модильяни» она по-французски вспоминает фразу Модильяни: «J ai oublie qu il у a une Tie au milieu» («51 забыл, что посредине находится остров (Святого Людовика)») [2, 145]. Упоминание острова Сен-Луи, меньшего из двух парижских островов посреди Сены, на первый взгляд, казалось бы, названного вскользь, в контексте «парижского текста» Ахматовой несёт важный смысл. Это, по-видимому, связывается с особенностью «островного» пространства- тишиной, близкой мироощущению Модильяни.
Б. Носиком в «Прогулках по Парижу» подчёркивается отсутствие суетности как особенности этих мест: «Пройдя по мосту через протоку и ступив на камни Орлеанской набережной, вы ощутите, что шумный столичный город словно отступил и время замерло ... недаром же так любят эти места художники». [269, с.42]. Именно это органично трагическому ощущению пространства топосов Парижа Модильяни. Как отмечает В.Я. Виленкин, Модильяни был чужд Париж как «средоточие развлечений и мод» (Париж Елисейских полей и Больших бульваров, шикарных ресторанов, изысканных литературно-артистических салонов, Париж ежегодных «Гран-при» на ипподроме, новейших автомобильных марок и элегантных кавалькад в Булонском лесу); Монмартр «был близок не сверкающий и не лирический, а совсем другой - мрачноватый, небезопасный, пахнущий нищетой, притаившийся в закоулках и за заборами. Он его мучил и в то же время к себе притягивал» [167, с. 85].
Столь же значимыми являются некоторые островные здания. Так отель Лозеп с середины XIX века облюбовала художественная богема: здесь, в частности, жили Т. Готье и Ш. Бодлер, по инициативе художника Фернана Буассара де Буаденье собирался Клуб курильщиков гашиша, и именно здесь Бодлер написал первые стихи цикла «Цветы зла». Более того, для Ахматовой упоминаемый Пантеон в сочетании со «старым Парижем», видимо, не только памятник искусства, но и символ нетленности бытия культурного Парижа, сплетающий воедино историю и современность, улицы, дворцы, церкви, судьбы, «парижские тайны» и т.д.5
«Настоящий Париж» - это и упоминаемый Ахматовой Латинский квартал, непосредственно связанный с прогулками по Парижу с Модильяни: «Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга» [2, 145]. Это тот «свободолюбивый» район Парижа, стяжавший европейскую славу буйством и лихими нравами, который соотносится у Ахматовой с именем Франсуа Вийона, повлиявшего на поэтику акмеистов, а также с Сорбонной, центром «великой учёности» и местом обучения Н. Гумилёва.
Совершенно не случайно все события в «Амедео Модильяни» связываются с Люксембургским садом, важным для Ахматовой, во-первых, в силу его расположения в центре города. Люксембургский сад находится у южной оконечности Латинского квартала и квартала Сен-Жермен, в пяти минутах ходьбы от Сорбонны, в десяти - от Нотр-Дам, да и от Лувра. Все выше перечисленные культурные объекты присутствуют в тексте «Амедео Модильяни» Ахматовой и составляют целостную символику её «настоящего Парижа». Люксембургский сад для поэта не только памятник культуры, но и, будучи местом неоднократных «встреч» Ахматовой с Модильяни («...в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке...» [2, 144]), бытийный топос, включающий жизни известных людей и персонажей мировой культуры.6 В силу этого, он становится главным символом ахматовского Парижа - города культуры и любви.
«Погибший» Париж в лирике Ахматовой
Ахматова, помещая стихотворение «В августе 1940» в сборник «Нечет» (где находятся стихи военных лет, главным образом, стихи, посвященные Ленинграду), тем самым вводит тему «погибшего Парижа» в один смысловой ряд с «траурным» Петербургом / Ленинградом: Когда погребают эпоху, Надгробный псалом не звучит, Крапиве, чертополоху Украсить её предстоит. И только могильщики лихо Работают. Дело не ждёт! И тихо, так, Господи, тихо, Что слышно, как время идёт. А после она выплывает, Как труп на весенней реке, Но матери сын не узнает, И внук отвернётся в тоске. И клонятся головы ниже, Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшем Парижем Такая теперь тишина. ГЬ с.204] «Ахматова назвала Петербург траурным городом», - писала Н.Я. Мандельштам [244, с. 89]. Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для катастрофы: «эта холодная река, над которой всегда тяжёлые тучи, эти угрожающие закаты, эта оперная страшная луна... Чёрная вода с жёлтым отблеском света... Всё страшно» [244, с.89]. «Мы встретились с тобой в невероятный год...»16, - поэтически выражала Ахматова время встречи с И. Берлиным, которая принесла ей, как известно, целую вереницу трагических событий. «Невероятный год» и «траур» - это и то, что, по словам Ахматовой, «20 век начался осенью 1914 г. вместе с войной ... ... мы чувствовали себя людьми XX века и не хотели оставаться в предыдущем» [121, с.23 5]. По воспоминаниям И. Берлина, «послевоенный Ленинград был для неё ни чем иным, как огромным кладбищем, где в могилах лежат её друзья» [159, с. 151]. Это же описание присутствует и в «Поэме без героя»: «Ветер, не то вспоминая» (год 1914-й), «не то пророчествуя» (год 1941-й), «бормочет» (14 и 41 - принцип зеркальности):
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве или против теченья, Только прочь от своих могил. [1, с.332] В пространстве ахматовского текста Ленинград - с теми кровавыми событиями, центром которых он оказался в 30-е гг., с траурным звучанием скорбной музыки «Реквиема», сопровождающей в поэме описание трагедии народной, с его локусом — зловещими «Крестами» - и действительно воспринимается как «царство мёртвых», напоминая один из своих прообразов -египетский город мёртвых, Некрополь» [61, с. 155]. В.Н. Топоров в работе «Петербургский текст» подчёркивая апокалипсичность Петербурга, как «центра
зла и преступления, где страдание превысило меру и обратимо отжилось в народном сознании», как «бездны, «иного» царства, смерти», акцентировал внимание на онтологической глубине города, в которой «национальное самосознание и самопознание достигло того предела, за которым открываются новые горизонты жизни...» [301, с. 154].
Вследствие этого, Петербург/Ленинград, как «город-кладбище», в художественном сознании Ахматовой соотносится с Парижем Верлена -«Элладой теней» - памятью о героической эпохе:
.. .Я шёл, как во сне, в тебя погружён,
Эллада теней...
Мне Фидий сопутствовал и Платон
Под взглядами газовых фонарей.
(«Парижский набросок» из цикла «Офорты») [12, с.23] Париж - «Эллада теней» у Верлена мыслится как «культурная память» о прошлом, зримо и органично присутствующая в настоящем. Этому способствует, с одной стороны, упоминание знаменитых имён культуры Древней Греции классического периода, с другой, - в возникшем мотиве «тени» прочитывается диалог «теней» (как один из возможным подтекстов) Франсуа Вийона и Альфреда де Мюссе из «Бессонных ночей» (см.: «Две очень изящные тени встретились в лунном сиянии ночи в январе этого года .. . . Они очень изящны, эти тени ... , и какой парижский вид у этих теней» [12, с. 160]). Верленовский «ночной» Париж как гипертекст эпох и сознаний, связывающий бытие поэта и Города, перекликается с трагическим единством жизни Ахматовой и Петербурга/Ленинграда.
Указанный в названии стихотворения «В августе 1940» месяц «август» и эпиграф «То - град твой, Юлиан!», которым является строка из сонета Вяч. Иванова «Латинский квартал», позволяют видеть, с одной стороны, фигуру Юлия Цезаря (331-363 гг.), до восшествия на римский престол правившего Гельвецией и жившего в Лютеции (Париже), с другой, - образ Октавиана Августа, наследника Цезаря, период власти которого совпадает со временем активной творческой жизни Вергилия. Кроме этого, сонет Вяч. Иванова «Латинский квартал» (раздел «Товарищам» из книги «Прозрачность» [16, с. 193]), посвященный художнице Е.С. Кругликовой, салон которой в Париже посещали многие русские поэты и художники, содержит имена великих людей прошлого, живших в этом городе: Абеляра («мыслил Абеляр»), Данте («где мрак кромешный / Дант юный числил»), а также, возможно, для Ахматовой, сквозь художественное видение Вяч. Иванова, просматривается образ «школяра» — Франсуа Вийона и тема «балагана» . Таким образом, в художественном сознании Ахматовой герои сонета Вяч. Иванова, сплетаясь с судьбами близких людей ахматовского круга, как «тени» прошлого, становятся «мёртвыми зеркалами» эпохи.
Эмма Бовари - «змея» как поэтическое зеркало «парижского текста» Ахматовой
Образ Эммы Бовари в художественном сознании Ахматовой занимает одно из ведущих мест, становясь тем самым ещё одним поэтическим зеркалом её многопластовой лирики. Как известно, перед поездкой в Париж Гумилёв купил для Ахматовой «Мадам Бовари», чтобы она читала в поезде, но, по её словам, она «прочитала роман залпом ещё до отъезда» [3, с.944]. Вследствие этого, можно говорить о целой системе тем и мотивов, связанных с событийной и образной канвой романа Флобера.
Сквозной в контексте Ахматовой и Флобера является тема «любви» / «страсти». У Ахматовой «любовь наравне с творчеством в художественном видении поэта - главная область самореализации, осуществления личности, крестный путь её становления» [75, с.5]. Суть женщины, сам «способ» её существования немыслимы без любви: созданная из ребра Адама, женщина не может его не любить:
Из ребра твоего сотворенная,
Как могу я тебя не любить?
(«Долгим взглядом твоим истомлённая») [1, с. 169]
В романе Флобера Эмма Бовари есть воплощение безумия, одержимости любви-страсти («Страсти её поглощали всецело»). В её облике «непривлекательном ничем, кроме внешности», заложено «неприятие действительности» [285, с. 141]. Она «грезит о совсем иной жизни и не желает жить той жизнью, какая ей дана. В этом её порок; в этом же был и порок Флобера» [285, с. 183]. «Мадам Бовари» - это я», - утверждал Флобер. Её гибель означает «смерть того романтизма, который жил в нём и которого он сам поразил насмерть» [285, с.250]. Она гибнет, потому что, живя «в бессердечной реальности, не убила своего сердца» [265, с.315]. «Любовь» / «страсть» - «смерть» Эммы Бовари - это единственный путь её существования в жизни, принесший роковые последствия - смерть самой Эммы, смерть мужа-Шарля и нищету дочери-Берты.
Ахматова «залпом» прочитала роман Флобера в виду схожих характерных черт, присущих как главной героине - Эмме Бовари, так и самой Ахматовой, которые у последней имеют и художественное воплощение.
Сущностные качества Эммы Бовари (безумие страсти, волевое начало, притягательный «магнетизм» натуры) в поэзии и в жизни Ахматовой присутствуют, но не столь обнажены: телесность пронизана не стремлением плоти, а высотой Духа Поэта. Примером этого является стихотвоерние Ахматовой «Я слышу иволги всегда печальный голос...», текстуально связанное с песенкой Слепого из романа Флобера. Ахматова:
Я слышу иволги всегда печальный голос
И лета пышного приветствую ущерб,
А к колосу прижатый колос
С змеиным свистом срезывает серп.
И стройных жниц короткие подолы, Как флаги в праздник, по ветру летят. Теперь бы звон бубенчиков весёлых, Сквозь пыльные ресницы долгий взгляд.
Не ласки жду я, не любовной лести В предчувствии неотвратимой тьмы, Но приходи взглянуть на рай, где вместе Блаженны и невинны были мы. [1, с. 135-136] Флобер: Девчонке в жаркий день
Мечтать о миленьком не лень
За жницей только поспевай!
Нанетта по полю шагает
И, наклоняясь то и знай,
С земли колосья подбирает.
Вдруг ветер налетел на дол
И мигом ей задрал подол. Г35, с.358] Возникшие в тексте Ахматовой «змеиный свист» «серпа», «ущерб» «пышного лета» (иначе, опосредованное название луны; см. рифмованность -«серп» - «ущерб»), образ жницы и, наконец, сам процесс жатвы, вскрывая архаический комплекс «луна - плодородие - женщина - змеи - смерть -периодическое перерождение» [318, с. 164], подчёркивают эротическую одержимость героини. Но у Ахматовой сила земного Эроса в ней, как поэте; в творчестве, оставаясь в памяти как значительное событие жизни, способна к перерождению (поэтому, «осень» как время года и само состояние героини Ахматовой, подобно Эмме Бовари, находится «в предчувствии неотвратимой тьмы» - в пограничности «жизни-смерти») в Эрос небесный (поэтому, в последних строках возникает «рай» и чистота встречи - «блаженны и невинны были мы»). Жизнь Эммы - хаотическое движение от одного мига страсти к другому при постоянном поиске новых наслаждений. Для Ахматовой время имеет ценность в воспоминании: память детализирует уже произошедшее, оставляя чистоту душевных (а не телесных, как у Эммы) ощущений. Появление Слепого перед смертью Эммы становится констатацией итога всей её жизни, всей «слепой» любви - целой вереницы «обманов» любовников. Как отмечает С. Зенкин: «В «Госпоже Бовари» фольклорная песенка выполняет две функции сразу - метатекстуальную (формула судьбы героини) и символическую (формула утраченной цельности мира» [196, с.95]. А также, возможно, является одним из литературных источников строчек Ахматовой «О, сердце любит сладостно и слепо!» (из цикла «Обман» [1 с.34]) и «И печальная Муза моя, / Как слепую водила меня» («Был блаженной молей колыбелью» [ 1, с.82]).
В звучании - «змеином свисте» - серпа прочитывается и аллюзия на «свистящий» «шнурок» корсета Эммы:
«Эмма возвращалась к Леону ещё более пылкой, ещё более жадной, чем прежде. Она срывала с себя платье, выдёргивала из корсета тонкий шнурок, и шнурок скользящей змеёй свистел вокруг её бёдер» [35, с.316].
В этом эпизоде свидания Эммы и Леона Флобером заметным образом выписана абсолютно необузданная, безудержная страсть Эммы, пронизывающая и испепеляющая всё её внутреннее состояние и распространяющаяся на предметы материального мира. Указание последовательной детальности обнажения Эммы (платье, корсет, шнурок), постепенное усиление эмоциональных характеристик («пылкая», «жадная»), стремительность действий («срывала», «выдёргивала») и звукопись («шнурок свистел») наглядно акцентируют раскрепощение материи силой страсти, возможное только при постоянном желании новых ощущений. Уподобление «тонкого шнурка» «скользящей змее», а также акцент на движении - «шнурок ... свистел вокруг её бёдер» и вся сцена в целом содержат сакральный подтекст «обрядового соития со змеёй»40. В бытовой обстановке романа «Госпожа Бовари» этот момент выражен не столь откровенно и, как отмечает С. Зенкин, «прекрасно согласуется с душевным состоянием Эммы Бовари, которая уже разочаровалась в Леоне и старается искусственно возбудить, подхлестнуть свою страсть к нему» [196, с. 88].
Мотивы «сладости», «утоления», «томления» как «Неутоляющее питьё» поэзии А.А. Ахматовой
Тема «сладости» / «сладострастия», текстуально обозначенная у Флобера как «веление плоти», «томление «страсти», «сладострастные мечты», «область чудесного, где властвует страсть, восторг, исступление», становящаяся «жизненной необходимостью» Эммы, имеет и непосредственное выражение в лирике Ахматовой как неотъемлемая часть художественного образа героини и одно из «женских» качеств самой Ахматовой:
Мне дали имя при крещенье - Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
(«В то время я гостила на земле...»
из цикла «Эпические мотивы») [I, с. 157]
Мотив «сладострастья»/«сладости», являясь сквозным в её лирике, подчёркивает эротическую интимность натуры женщины-поэта А. Ахматовой50.
С мотивом «сладострастия» тесно связывается мотив «утоления», сквозной в лирике Ахматовой и в романе Флобера, но имеющий существенные различия. Если для Эммы - это стремление жизненно воплотить идеалы художественной реальности («искала утоления воображаемых страстей»), то для Ахматовой-поэта - творческий путь - «поэзии как утоления». Это наблюдается как в ранней лирике (например, в стих. «Я так молила...»: «Я так молилась: «Утоли / Глухую жажду песнопенья!» [1, с.79] и «Вместо мудрости...» сборника «Белая стая»: «Вместо мудрости - опытность, пресное, / Неутоляющее питьё» [1, с. 176]), так и в позднем творчестве (в драме «Энума Элиш» Ахматовой замечено: «Икс - утолит тех, кто придёт чрез 100 лет» [2, с. 311]).
В лирике Ахматовой несчастная любовь и её страдания занимает видное место. Как отмечает Недоброво, чьи наблюдения ценились Ахматовой всегда, «несчастная любовь» - «творческий приём проникновения в человека и изображения неутолимой к нему жажды». Ахматова, разработав «поэтику несчастной любви до исключительной многотрудности», создаёт тем самым проекцию формирования цельности любви. «Аполлоново томление по
напечатлению на недрах личности сливается с женственным томлением по вечномужественному - и в лучах великой любви является человек в поэзии Ахматовой. Мукой живой души платит она за его возвеличение» [89, с].
Героиня Флобера также ищет в реальной действительности (во всех встречах с любовниками) идеалы, хотя и сформированные её воображением, но её «томление» земное, физическое - постоянная жажда «любви - страсти», в которой она частично находит свою внутреннюю свободу: «Эмму её страсти поглощали всецело. .. . Веления плоти, жажда денег, томление страсти - всё слилось у неё в одно мучительное чувство». Для Ахматовой «томление» героини по Другому является неотъемлемой частью сущности её как поэта:
В недуге горестном моя томится плоть,
А вольный дух уже почиет безмятежно. [1, с.77 ]
Причём, «томление» — ушедшее прошлое (например, в стихотворении «Сердце к сердцу не приковано»:
Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?) [I, с.29]
ставшее уже очередным, сознательно признанным объектом «любовной памяти».
См., например, в стихотворении «Помолись о нищей, о потерянной...»:
Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.
И тебе, печально - благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом. [I, с.161]
В возникшей антитезе «ночь» - «утро» («томила ночь угарная» и «дышало утро льдом») также прочитывается флоберовский подтекст: ситуация Эммы последней «встречи» с Родольфом ночью и после получения от него письма «на другой день» («дышало утро льдом»): «ошеломлённая, обезумевшая. Тяжело дыша, она уже взбегала по ступенькам лестницы, а в руке у неё всё ещё гремел, точно лист жести, этот ужасный листок бумаги») [35, с.243]. Флоберу важно показать зависимость героини от Родольфа, любовника, также «всегда уверенного» «в своих путях» («Она будет моя! — разбивая камни палкой сухой ком земли, воскликнул он») [35, с. 173]).
Ахматова, указывая на «томление» как тяжесть страдания («смертное томление» ""), подчёркивает своё умение самозабвенно принимать обет «молчальницы» Любви (поэтому здесь возникает образ «печально-благодарной»).
Помимо номинативно представленных мотивов «сладости», «утоления», «томления» в лирике Ахматовой и в романе Флобера присутствуют мотивы «винограда», «дна» и «плюща», предметно детализирующие и углубляющие уже указанные смыслы.