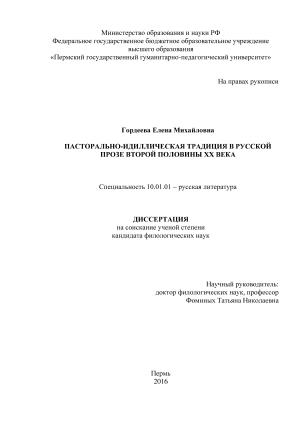Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Пастораль как литературный жанр 25
1. 1. Структурно-содержательные компоненты пасторали 25
1. 2. «Память жанра» и современная пастораль 40
ГЛАВА ВТОРАЯ. «Современная пастораль» В. П. Астафьева: от повести «пастух и пастушка» к киносценарию «помню тебя» .63
2. 1. Текстологический анализ киносценария «Помню тебя» 63
2. 2. Трансформация пасторально-идиллической образности в киносценарии «Помню тебя» .80
2. 3. Рецепция романа Лонга «Дафнис и Хлоя» в повести «Пастух и
пастушка» и в киносценарии «Помню тебя» 87
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Пасторально-идиллическая топика в повести ю. м. нагибина «дафнис и хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» .101
3. 1. Образ рая в повести «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» 101
3. 2. Лонг в художественном отражении Ю. М. Нагибина 115
3. 3. Метаописательные аспекты повести «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» 127
ГЛАВА Четвертая. пасторально-идиллическая образность в романе-идиллии а. П. Чудакова «ложится мгла на старые ступени» 140
4. 1. Роман-идиллия «Ложится мгла на старые ступени» как современная робинзонада .140
4. 1. 1. Робинзоны Чудакова .142
4. 1. 2. Метаописание в романе-идиллии «Ложится мгла на старые ступени» .155
4. 2. «Ложится мгла на старые ступени» как «любовная идиллия» .163
ГЛАВА ПЯТАЯ. Пасторально-идиллическая традиция в коми-пермяцкой прозе второй половины ХХ века 174
5. 1. Образ «естественного» человека в повести В. В. Климова «Богатырская палица» 175
5. 2. Переклички повести В. В. Климова «Богатырская палица» с романом Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 182
5. 3. Отклики на роман Лонга «Дафнис и Хлоя» в повести В. В. Климова «Богатырская палица» .186
5. 4. Роман В. Я. Баталова «Шатун» как современная робинзонада 189
5. 5. Топос сельской общины в романе В. Я. Баталова «Шатун» 198
Заключение 204
Список литературы
- «Память жанра» и современная пастораль
- Трансформация пасторально-идиллической образности в киносценарии «Помню тебя»
- Лонг в художественном отражении Ю. М. Нагибина
- Метаописание в романе-идиллии «Ложится мгла на старые ступени»
Введение к работе
Актуальность исследования определяется давно сформировавшейся
потребностью исследовать пастораль как одно из характерных жанровых
явлений современного историко-литературного процесса. Актуальность
избранной темы обусловливается также необходимостью расширить
имеющиеся научные представления о жанровом составе отечественной прозы второй половины ХХ века.
В 1950–1990-е гг. к жанру пасторали обращались писатели разных литературных направлений: В. Астафьев («Пастух и пастушка. Современная пастораль», 1971), В. Климов («Богатырская палица», 1968), В. Баталов («Шатун», 1970), А. Адамович («Последняя пастораль», 1987), Б. Екимов («Пастушья звезда», 1989), С. Бардин («Пастораль», 1990), Ю. Нагибин («Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», 1994), А. Слаповский («Вещий сон. Детективная пастораль», 1994), О. Ермаков («Транссибирская пастораль», 1997), Д. Липскеров («Пространство Готлиба», 1997), А. Чудаков («Ложится мгла на старые ступени», 2001) и др.
Объектом нашего исследования являются повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка», написанный по ней киносценарий «Помню тебя», повесть Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», роман-идиллия А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Объектом исследования служит также проза коми-пермяцких писателей («Богатырская палица» В. Климова, «Шатун» В. Баталова и др.). Предметом исследования являются связи указанных произведений с пасторально-идиллической традицией.
Выбор произведений обусловлен их репрезентативностью: каждое из них в отдельности представляет научный интерес как конкретное индивидуально-неповторимое воплощение тех или иных характерных черт современной пасторали. Взятые в совокупности, они позволяют судить о своеобразии пасторально-идиллической традиции в русской прозе второй половины ХХ века.
Предпринятый в реферируемой работе аналитический обзор научных работ, посвященных выбранным для анализа произведениям, позволяет сделать следующие выводы. Киносценарий В. Астафьева «Помню тебя» впервые вводится нами в научный оборот. В научном отношении он интересен и как самостоятельное художественное произведение, неразрывно связанное с пасторально-идиллической традицией, и как ближайший контекст повести «Пастух и пастушка». Высокая степень изученности астафьевской повести не означает, что проблема ее жанрового своеобразия закрыта. Новые возможности в понимании связей данного произведения с пасторально-идиллической традицией открывает изучение ранее неизвестных материалов, в том числе и архивных.
Повесть Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» мало изучена. Исследование ее райской топики, содержащихся в ней
многочисленных аллюзий на роман Лонга «Дафнис и Хлоя», а также рефлексивных эпизодов, имеющих непосредственное отношение к ее жанровой форме, дает возможность увидеть ряд характерных черт современной пасторали.
Несмотря на то что проблема жанровой специфики романа-идиллии
A. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» занимала пишущих о нем едва
ли не в первую очередь, по-прежнему остаются нерешенные вопросы. К их
числу относится выяснение связей данного произведения не только с идиллией,
но и с другими пасторальными модификациями, например, с просветительской
георгикой. Научный интерес представляет филологическая подоплека
пасторально-идиллических приоритетов автора.
Исследование пасторальных аспектов повести В. Климова «Богатырская палица» и романа В. Баталова «Шатун» позволяет вписать данные произведения в контекст жанровых исканий русской и западноевропейской литературы и убедиться в том, что пастораль как транснациональный феномен оказалась востребованной и одной из младописьменных литератур России.
Цель диссертации – исследовать пасторально-идиллическую традицию в русской прозе второй половины ХХ века. Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач:
– с опорой на имеющиеся теоретические исследования дать научное представление о современной пасторали, пасторально-идиллической традиции;
– сделать текстологический анализ новонайденного киносценария
B. Астафьева «Помню тебя»;
– проанализировать связи киносценария «Помню тебя» и повести «Пастух и пастушка» с романом Лонга «Дафнис и Хлоя»;
– исследовать райскую топику повести Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»;
– изучить связи повести Ю. Нагибина с «Дафнисом и Хлоей» Лонга;
– рассмотреть автометаописание как одну из жанровых доминант повести «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» Ю. Нагибина и романа-идиллии А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»;
– проанализировать роман-идиллию А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» и роман В. Баталова «Шатун» как современную робинзонаду;
– в свете пасторально-идиллической традиции исследовать повесть В. Климова «Богатырская палица».
Теоретическую основу диссертации составили труды по теории жанров и
жанровых систем (М. Бахтин, Н. Лейдерман, Н. Тамарченко и др.), по теории
интертекстуальности (М. Бахтин, Ю. Лотман, Н. Пьеге-Гро и др.), по теории
метаописательности (Ю. Лотман, Д. Сегал, Ю. Тынянов, Т. Цивьян и др.).
Судьба пасторали в культуре ХХ века изучалась нами с опорой на исследования
Е. Балашовой, В. Ганина, Е. Зыковой, Н. Лейдермана, Н. Осиповой,
Н. Пахсарьян, Т. Саськовой, И. Шайтанова. В научном осмыслении
произведений В. Астафьева, Ю. Нагибина, А. Чудакова, В. Климова,
В. Баталова мы опирались на работы, специально посвященные изучению их связей с пасторально-идиллической традицией.
Специфика рассматриваемого художественного материала, задачи работы
обусловили сочетание сравнительно-типологического и структурно-
семантического методов исследования.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые русская проза второй половины ХХ века изучается в связях с пасторально-идиллической традицией, впервые для сопоставления привлекается литература народов России. Новизна диссертации связана с введением в научный оборот новонайденных архивных материалов, в том числе и художественных (киносценарий В. Астафьева «Помню тебя»).
Положения, выносимые на защиту:
1. Современная пастораль относится к числу «гибких» жанровых
образований, способных трансформироваться и видоизменяться.
Взаимодействие с пасторально-идиллической традицией в русской прозе второй
половины ХХ века происходило в форме реактуализации основных структурно-
содержательных компонентов античной (Лонг) и просветительской (Д. Дефо)
пасторали.
2. Переклички с романом Лонга «Дафнис и Хлоя» обусловливают жанровую
специфику киносценария В. Астафьева «Помню тебя» и повести «Пастух и
пастушка», повестей Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности,
волюнтаризма и застоя», В. Климова «Богатырская палица». В одних
произведениях восходящие к «Дафнису и Хлое» темы и образы получают
ироническую аранжировку, предстают откровенно сниженными («Дафнис и
Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя»), в других их
травестирование отсутствует («Помню тебя», «Пастух и пастушка»,
«Богатырская палица»). В плане пасторальных приоритетов значимым
представляется как «притяжение» к жанровому канону античной пасторали, так
и «отталкивание» от него.
3. Реактуализация черт просветительской пасторали определяет жанровое
своеобразие романа-идиллии А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени»,
повести В. Климова «Богатырская палица», романа В. Баталова «Шатун».
В изображении А. Чудакова, В. Климова, В. Баталова робинзонада становится
формой выживания, в том числе и духовного. А. Чудаков воспринимает ее и как
болезнь духа, требующую медицинского вмешательства. Двойственное
отношение к робинзонаде демонстрирует В. Баталов: отшельничество
принимается им как выражение протестных настроений героя, вызванных
деспотизмом, царящим в семье и обществе на рубеже XIX–XX веков, и
осуждается как явление неуместное и несвоевременное в период
революционного преображения мира.
4. В повести Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности,
волюнтаризма и застоя», романе-идиллии А. Чудакова «Ложится мгла на старые
ступени» пасторальные герои, пасторальный хронотоп, пасторальные ценности
и т. п. становятся предметом авторской рефлексии. Переход пасторально-
идиллического состояния мира из объекта изображения в область поэтической
рефлексии отличает пасторали Ю. Нагибина и А. Чудакова от канонических
образцов жанра.
-
Киносценарий «Помню тебя», написанный В. Астафьевым по повести «Пастух и пастушка», представляет собой один из многочисленных ее вариантов. Концептуально совпадая как с журнальным, так и с окончательным вариантом повести, он отражает один из промежуточных этапов работы писателя над «современной пасторалью».
-
В киносценарии «Помню тебя» пасторально-идиллическая образность усиливается, прежде всего, за счет ввода в произведение дополнительных персонажей, отсутствовавших как в журнальном, так и в окончательном варианте повести. Киносценарий, рассмотренный в сопоставлении с повестью «Пастух и пастушка», подтверждает представление о метародовой природе пасторали.
Теоретическая значимость работы состоит в расширении и углублении
имеющихся научных представлений о жанровой системе русской прозы второй
половины ХХ века, специфике пасторально-идиллической традиции
в литературе ХХ столетия, современной пасторали как литературном жанре.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее выводы используются в вузовских курсах истории русской литературы ХХ века, истории литературы народов России. Материалы диссертации находят применение в спецкурсах, посвященных пасторально-идиллической традиции в русской литературе 1950–1990-х гг., в дальнейшем монографическом изучении творчества В. Астафьева, Ю. Нагибина, А. Чудакова, В. Климова, В. Баталова и др.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по
которой она рекомендуется к защите: Диссертация соответствует
специальности 10.01.01 – русская литература. Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности: п. 9 – индивидуально-писательское и типологическое выражение жанрово-стилевых особенностей в их историческом развитии; п. 16 – связи русской литературы с литературами народов России; п. 17 – взаимодействие русской и мировой, древней и новой литературы.
Апробация работы. Основные положения диссертации излагались
в докладах на международных научных конференциях: «IFUSCO – ХХIХ:
Международная финно-угорская конференция» (Сыктывкар, КРАГСиУ, 2013),
«IFUSCO – ХХХ: Международная финно-угорская конференция» (Геттинген,
Университет имени Георга-Августа, 2014), VIII Международная конференция
молодых ученых «Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, УрГПУ,
2014), ХLIХ Международная филологическая научная конференция (Санкт-
Петербург, СПбГУ, 2015), XII Международная научно-практическая
конференция «Иностранные языки и литературы в контексте культуры» (Пермь,
ПГНИУ, 2015), XII Международная летняя школа по русской литературе
«Русская литература: история, источниковедение, комментарий» (Санкт-
Петербург, ИРЛИ РАН, 2015); на всероссийских научных конференциях:
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Коми-пермяцкий язык и культура: прошлое, настоящее, будущее» (Пермь,
ПГГПУ, 2015), Всероссийская научно-методическая конференция молодых
ученых «Языки и литература: прошлое и настоящее» (Пермь, ПГГПУ, 2015,
2016), Всероссийская научно-практическая конференция «Пермские
Астафьевские чтения» (Пермь-Чусовой, 2015), IV Всероссийская научная конференция «Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи» (Пермь, ПГНИУ, 2016).
Результаты исследования изложены в 14 публикациях, 6 из них – в изданиях, рецензируемых ВАК РФ.
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 204 наименования. Общий объем работы - 232 страницы.
«Память жанра» и современная пастораль
В центре внимания Н. Л. Лейдермана наряду с образами пастуха и пастушки оказывается и одна из главных пасторальных оппозиций – противопоставление «нежной пасторали и кровавой прозы войны» (жизнь и смерть, любовь и натуралистические описания войны). Для усиления пасторальной линии, считал исследователь, писатель использовал не только традиционную пасторальную образность, но и дополнительные, «собственно архитектонические ходы». Например, «уже в самих названиях основных частей повести есть определенная логика»: первая военная часть («Бой») противостоит трем остальным «мирным» частям; пасторальная тема как эмоциональная доминанта задается «продуманной системой эпиграфов» [Лейдерман 2010: 161-162].
Среди исследований последних лет выделим кандидатскую диссертацию Н. М. Прокопенко, специально посвященную изучению пасторали в творчестве Астафьева. Объектом исследования Н. М. Прокопенко выбрана малая эпическая форма – рассказ и повесть. Для нас особый интерес представляет глава «Диалог жанровых миров в повести Пастух и пастушка», в которой рассматриваются связи произведения с «литературной традицией в конструировании пасторальной модели мира» [Прокопенко 2010: 128]. Вслед за Н. Л. Лейдерманом автор диссертации рассматривает соотношение реального и идеального планов повествования, подчеркивает сюжетообразующую роль пастушеских мотивов. Н. М. Прокопенко отмечает, что склонность к пасторальной (пастушеской) любви сформировалась у героя еще в детские годы, когда, посмотрев спектакль, он «на всю жизнь проникся райским состоянием мира, разыгрываемым на сцене, и хранил его как высшую ценность» [Прокопенко 2010: 134]. По мнению исследовательницы, отношения Бориса и Люси, сопровождающиеся «мелодией, пришедшей из глубины времен», заставляют вспомнить о любви героев западноевропейской пасторали. Рассматривая персонажей повести в аспекте пасторальной традиции, Н. М. Прокопенко находит в образе Бориса черты духовного «пастыря», способного проявлять заботу / жертвенность по отношению к окружающим, например, к солдатам: «Эта заботливость есть трансформированная черта того сакрального смысла, который несет образ пастуха в пророческих книгах» [Прокопенко 2010: 131]. С высокой ипостасью пастуха Н. М. Прокопенко связывает и принадлежность семьи Бориса к «дворянской культуре в ее самых возвышенных образцах»: он потомок декабриста Фонвизина, с жены которого А. Пушкин написал Татьяну [Прокопенко 2010: 131]. В облике Люси диссертант выделяет богородичные черты, считая их пасторальными знаками: «Описание лица женщины напоминает воссоздание иконы, образа Богоматери, о чем свидетельствуют возвышенные эпитеты скользящий, осиянные … , сравнение будто со старой иконы» [Прокопенко 2010: 136]. Люся ассоциируется с образом девы Марии-пастушки, распространенным в католических странах ХVII века, когда «она оказывается на пути у тех, кому нужна помощь» [Прокопенко 2010: 136].
Обращаясь к образам убитых одним снарядом деревенских стариков-пастухов, Н. М. Прокопенко связывает специфику национального варианта рассматриваемого жанра с укладом жизни «простых русских крестьян», где «кротость их трудового, приумножающего жизнь существования и становится … прообразом той реальной силы, которая позволяет полузадушенной войной жизни подняться из руин» [Прокопенко 2010: 141]. Рожденный крестьянским образом жизни, русским бытием, «пастушеско-земледельческий мотив», по мнению диссертанта, «далек от книжной традиции». Н. М. Прокопенко отмечает связь пасторального мироощущения с трагедийным началом, их буквальное соседство в современной пасторали.
В научной литературе имеется и иной взгляд на повесть Астафьева как на «современную пастораль». Так, Л. Р. Никифорова считает, что «Пастух и пастушка» не является ни повторением, ни развитием ранее существовавших пасторальных образцов. Исследовательница полагает также, что неправомерно связывать пасторальность повести с содержащимися в ней отсылками к произведениям Прево («Манон Леско», «История одной гречанки»), которые «даже отдаленно» не имеют никакого отношения к «традиции классической романной пасторали» [Никифорова 1989: 192]. По мнению Л. Р. Никифоровой, астафьевская повесть – скорее «полемическая трансформация» традиционной пасторали, так как автор «опирается не на конкретные элементы поэтики пасторальных романов и присущие им жанровые черты, а возрождает пасторальный миф, то есть некие общие представления о пасторальном идеале, пасторальной любви, пасторальной действительности». Все это, продолжает далее Л. Р. Никифорова, «позволяет писателю прикоснуться к общечеловеческим ценностям, воплотить общечеловеческий характер добра и зла, любви и смерти» [Никифорова 1989: 193-194]. При этом «жанровый замысел Астафьева – не пародия на пастораль, а художественное воссоздание ее невозможности в трагической военной реальности» [Никифорова 1989: 194]. «Пастух и пастушка», по мнению Л. Р. Никифоровой, - это антипастораль.
Научные интерпретации «Пастуха и пастушки» как «современной пасторали» весьма различны, и разброс мнений относительно ее жанровой природы весьма широк. Он отражает спектр имеющих представлений о пасторали ХХ века в целом. Высокая степень изученности данного произведения не означает, что проблема его жанрового своеобразия закрыта. Новые возможности в понимании связей «Пастуха и пастушки» с пасторально-идиллической традицией открывает учет ранее не известных материалов, как историко-литературных, так и собственно художественных.
Трансформация пасторально-идиллической образности в киносценарии «Помню тебя»
рассказа к пасторали не отменяет, он лишь свидетельствует о Примером пасторали, полемичной по отношению к «памяти жанра», можно считать рассказ М. Бутова «К изваянию Пана, играющего на свирели». В образе военного командира (у которого нет имени) «явлен чудовищный лик естественного человека-животного», ничего, кроме отвращения, не вызывающего. Т. В. Саськова определяет данное произведение, названное автором «сонетом», как «бурлескную антипастораль, выворачивающую наизнанку топику пасторали высокой» [Саськова 2011: 105]. По словам исследовательницы, «ироническое столкновение далекой пасторали с современностью, резкое противопоставление природы, явленной в облике полковника, не приобщенного к культуре, и природы, воссозданной культурным сознанием, рождает эффект инфернальной бессмыслицы, дикого абсурда бытия», оттеняет «жуть» настоящего [Саськова 2011: 105]. Рассказ Бутова «К изваянию Пана, играющего на свирели», будучи антипасторалью, остается в семантическом поле пасторали, воспроизводя ее «идеальную» модель «с точностью до наоборот». Иронический «регистр» изображения принадлежность творческом переосмыслении жанрового канона современным автором.
Перегруппировка ценностных оппозиций, обусловливающих смену пасторального идеала, а вслед за ним и изменения жанровой формы, не раз привлекала к себе исследователей, внимание которых фокусировалось на вопросах, связанных с натурализацией пасторали, с соотношением в ней реального и идеального, условного и конкретно-исторического.
В плане натурализации пасторали интерес представляет рассказ Б. Екимова «Пастушья звезда». Т. В. Саськова рассматривает данное произведение на широком историко-литературном фоне и в связях с новыми (перестроечными) социокультурными условиями. Сравнивая «Пастушью звезду» с известными образцами жанра, исследовательница определяет ее, с одной стороны, как «прозаическую эклогу, где пасторальный мир изображен изнутри, с точки зрения героя-пастуха, через его восприятие», с другой (имея в виду «сюжетно-композиционный принцип нанизывания картин») – как идиллию «в ее изначальном античном понимании» [Саськова 2011: 94–95].
В основе рассказа лежит противостояние пастуха, «носителя естественной нравственности», работодателю – новому «хозяину» жизни. Заметив, что главный герой предстает в «полном соответствии с жанровыми пасторальными установками» как «идеальный естественный человек», исследовательница обращает внимание на разницу между принципами идеализации в традиционной пасторали и в данном рассказе. Если «на всех предшествующих этапах идеализация пастушеского образа жизни, его поэтизация имела условный характер», то теперь, когда во всех сферах жизни общества в очередной раз произошел резкий социальный слом, когда «поменялись эстетические представления», «механизм идеализации тоже стал иным» [Саськова 2011: 99]. Предметом идеализации в рассказе Екимова «оказывается (наряду с естественностью, близостью к природе) все то, что прежде было для искусства сомнительным, невозможным в средне-высоком жанрово-стилевом регистре, – тяжкий, грязный, изматывающий труд» [Саськова 2011: 99]. Исследовательница подчеркивает, что даже в просветительской георгике «поэтизация сельских трудов и дней оставалась достаточно отвлеченной». В рассматриваемом рассказе поэтизация трудовых пастушьих будней не только сохраняется, но и утрачивает отвлеченность, условность, характер героя раскрывается «в его социально-бытовой конкретности».
Обратив внимание на «жизнеподобие» сюжета, Т. В. Саськова отмечает его двуплановость, которая проявляется в такой особенности сюжетной организации произведения, как взаимодействие «между явью и воображением, материальным и идеальным». При этом согласно выводу исследовательницы, «материальная реальность стремится обернуться призрачным небытием, а пасторальный мир, живущий в сердцах, в памяти, в воображении, оказывается подлинной действительностью», «психологическая реальность оказывается выше и значительнее эмпирической данности» [Саськова 2011: 103–104]. В плане динамики ценностных оппозиций показательным является роман Д. Липскерова «Пространство Готлиба». В статье Т. Н. Фоминых, посвященной изучению данного произведения в свете пасторальной традиции, предметом анализа становится авторская «транскрипция» одной из главных пасторальных оппозиций город / деревня. Наблюдения над текстом позволили исследовательнице заметить, что в романе Липскерова «вместо характерной для пасторали идеализации деревни наблюдается релятивизация деревенской идеальности», что «происходит не только перегруппировка входящих в состав пасторального идеала ценностных оппозиций», но и «становятся более подвижными границы между элементами внутри самих этих оппозиций» [Фоминых 2011: 110, 111]. Так, главная героиня Анна, являясь «спинальным больным», переезжает в деревню, полагая, что обретет в ней гармонию с внешним миром. Деревня, ассоциирующаяся с неподвижностью, воспринимается увечной женщиной как родственное пространство. Однако деревня, казавшаяся «парализованной, калечной, не совместимой с идеалом пасторального существования, вопреки ожиданиям Анны постепенно начинает утрачивать исходную неполноценность» [Фоминых 2011: 111]. Именно в сельской местности героиня начинает жить полной жизнью и стараниями двойника своего возлюбленного (Лучшего Друга) становится матерью. Деревня, такая далекая от того, чтобы можно было считать жизнь в ней пасторально-идиллической, чудесным образом возвращает себе «статус пасторального локуса». Отметив «взаимозаменяемость элементов, входящих в состав ценностной оппозиции деревня – город», Т. Н. Фоминых пришла к выводу о том, что подвижность границы между элементами внутри самой этой оппозиции «к разрушению ценностной иерархии не приводит» [Фоминых 2011: 112].
Лонг в художественном отражении Ю. М. Нагибина
В рассказе Люси о «барственном» фрице, которому одна из его жертв выпорола глаз, имеется подробность, отсутствовавшая как в журнальном, так и в окончательном варианте. Сообщив Борису жуткие детали происшедшего (лежащая с прокушенным горлом девушка, облизывающаяся собака), Люся замечает: «Видишь под окном яблоньку, Боря? – Он кивает головой. Люся, как в забытьи, продолжает: – Я закопала там ту девушку...» [л. 34]. В обоих рассматриваемых нами вариантах повести собака загрызла девушку на глазах Люси, в киносценарии Люся прибежала, когда «все уже было кончено» [л. 34]. В повести (как в журнальном, так и в окончательном варианте) содержится намек на то, что партизаны поймали Люсиного постояльца не без ее участия. В киносценарии этот намек отсутствует.
Четвертая часть «Успение» входит в киносценарий без кардинальных изменений. В киносценарии тот же событийный ряд, что и в повести: ранение Бориса, его пребывание в полевом госпитале, смерть в санпоезде на пути в стационар, погребение в чистом поле. Показаны и другие значимые эпизоды (ранение Пафнутьева, гибель Карышева, Мохнакова, Шкалика). Переходят в киносценарий эпизодические герои повести (доктор-старичок в позолоченных очках, медсестра санпоезда Арина, раненый, перепоясанный бинтами, как революционный моряк пулеметными лентами). Однако нет медсестер эвакогоспиталя (ни старшей, отдающей приказ привязать к койке строптивого лейтенанта, ни дежурной, которая только делает вид, что исполняет этот приказ).
Из сколько-нибудь значимых фабульных звеньев повести в киносценарии пропущен лишь эпизод, которым открывается четвертая часть, как в журнальном, так и в окончательном варианте. Автор исключает до мельчайших подробностей придуманную Борисом встречу с Люсей, в том числе и предшествующее ей обращение героя к замполиту полка с просьбой об отпуске. По-разному изображается в повести и в киносценарии стычка Пафнутьева с Мохнаковым, происшедшая незадолго до ранения одного и героической смерти другого. В журнальном варианте повести она отсутствует. В окончательном варианте Пафнутьев за услуги, оказываемые штабному капитану, был уведен им с передовой. Мохнаков предложил Пафнутьеву определиться (или выписаться из взвода, или вкалывать наравне со всеми), заметив: «Уж двадцать лет как у нас холуев нет» (1997, 3, 118). Пафнутьев, согласившись с тем, что холуев нет, намекнул: зато имеются штрафроты и разведка боем с участием штрафников, из которой живыми не возвращаются: «Вот как бы ты вместе с Боречкой не запыжил туда...» (1997, 3, 118). Ссора завершается визгом Пафнутьева: «Не стращай девку му... она весь видала!» (1997, 3, 119).
В киносценарии о том, что Пафнутьев сбежал в штаб, речи нет. Никаких намеков на штрафроту он Мохнакову не делает. Чтобы досадить старшине, подвергающем его жизнь опасности, Пафнутьев «выкладывает» имеющийся у него «компромат» на командиров: «Спелись с этим, лейтенантом, [нрзб.]. Чё хотят, то и вытворяют. Девку уж одну по очереди пользовать зачали, что не помню, думали, как в Тараще… – старшина, схватив его за ворот гимнастерки, притянул к себе, зашипел: – Ты говори, да… лейтенанта чего припутываешь? Знаешь ведь, знаешь, гад, каково ему… Я – злодей. Меня пили. А его не трогай… – Не трогай, не трогай!.. А вот и трону. Старшина подносит ему под нос гранату: – Нюхал! Пафнутьев вдруг вышибает у него из руки гранату и вопит: – Не стращай девку му... Она весь видала!» [л. 50]. Разночтения наблюдаются в сценах ранения Пафнутьева, гибели Карышева. В повести (как в журнальном, так и в окончательном варианте) подорвавшегося на противопехотной мине Пафнутьева вытаскивает из заболоченной низины Мохнаков. Он останавливает Карышева, рванувшегося было на подмогу. Карышев получает смертельное ранение тогда, когда они с Малышевым, «доставив Пафнутьева живым до санбата, возвращались ... на передовую» (1971, 60). В киносценарии подробности спасения Пафнутьева не уточняются. О случившемся позволяет судить признание самого Пафнутьева, из которого следует лишь то, что Карышев погиб из-за него: «В хату врывается лейтенант. Пафнутьев открывает глаза, в которых плывет жуткая жара, облизывает губы: - Рва… рвануло… Карышев – ко мне… Тут его и...» [л. 51].
В повести (как в журнальном, так и в окончательном варианте) слова: «Жажда жизни рождает неслыханную стойкость – человек может перебороть увечье, поднять тяжесть выше своих сил. Но если нет ее, значит, остался мешок с костями» (1971, 66), – принадлежат автору. В киносценарии их произносит доктор: «Да-с, молодой человек! Жажда жизни рождает неслыханную стойкость! Человек может одолеть любое увечье, поднять тяжесть выше своих сил!.. Встряхнитесь! Не лезьте в раковину одиночества! Оно страшнее войны... Н-дас!» [л. 60]. Он же в разговоре с медперсоналом называет Бориса «мешком с костями» [л. 60].
Итак, фабулы первой, третьей, четвертой частей отразились в киносценарии без каких-либо существенных корректировок. Изменения коснулись лишь второй части: в киносценарий не вошли сцены, тормозящие развитие любовной линии, связанной с Борисом и Люсей. В результате отмеченного исключения эпизодов сократился объем текста, сюжет приобрел большую динамичность. По признанию автора, осталась «одна центральная линия – он и она, ночь и разлука» [Письма В. П. Астафьева (1966)–1988: 20 (об.)].
Следует подчеркнуть, что, переделывая эпическое произведение в драматическое, Астафьев продолжал тяготеть к эпике. Об этом свидетельствуют не только весьма многочисленные и большие по размеру ремарки, но и дублирующие текст повести титры, например, открывающие произведение, вводящие читателей (зрителей) в курс событий.
Метаописание в романе-идиллии «Ложится мгла на старые ступени»
У обоих героев были соперники. Тот и другой оказались старше и Дафниса, и Юры. Соперником Дафниса являлся Доркон, обещавший отцу Хлои «много ценных подарков, как подобает тому, кто пасет быков, - пару волов для пашни, четыре улья пчел молодых, полсотни яблонь, воловью кожу, чтобы подошв нарезать, и всякий год теленка, уже не сосунка» [Лонг 1964: 41]. Соперником Юры был поэт, «у него имелась жилплощадь, прописка, жировка» (с. 351). Соперники превосходили Дафниса и Юру не только в материальном отношении, каждый из них обладал талантами, которых и Дафнис, и Юра были лишены. Доркон делал лучшие свирели и хорошо на них играл. Поэт был прекрасным танцором: «он был ритмичен», «выписывал ногами кренделя».
И у Хлои, и у Даши не было недостатка в кавалерах. К Дриасу приходили с просьбой отдать Хлою замуж: «иные уже приносили подарки, иные ж много богатых даров обещали, если ее заполучат» [Лонг 1964: 122]. В доме Гербета всегда находился докторант, рассматривавшийся как потенциальный муж Даши - «взрослый и представительный». Как в романе Лонга, так и в повести Нагибина матери надеялись выдать дочерей замуж за обеспеченного человека. Напа переживала, что Хлоя, пася стадо, «себя потеряет и в мужья себе пастуха возьмет за несколько яблок или роз», по ее мнению «лучше сделать ее госпожой в собственном доме» [Лонг 1964: 122]. Анна Михайловна мечтала о лучшей жизни для Даши, думала «посадить этот слабый росток в тучную, надежную советскую почву» (с. 388). И Напа, и Анна Михайловна основательно готовили своих дочерей к свадьбе. Мать Хлои «учила ее чесать шерсть, крутить веретена и то и дело о свадьбе ей поминала» [Лонг 1964: 102]. Мать Даши «деятельно занялась внешностью и туалетом дочери». «Даша стала носить длинные волосы, что ей необыкновенно шло … . Она стала краситься. … как говорят женщины, делала лицо» (с. 392).
Т. Бочкарева уже обращала внимание на то, что и Дафниса, и Юру «делам любовным» обучали взрослые замужние женщины. «Просвещением» Дафниса занималась Ликэнион, Юру мужчиной сделала Гера Ростовцева. Обе героини обладали исключительной внешностью. Это резко выделяло их на общем фоне. Ликэнион – жена землевладельца, «молодая, цветущая, гораздо более изящная, чем поселянки» [Лонг 1964: 112]. Гера Ростовцева «высокая стройная женщина», ее «отличали крайнее беззлобие, расположенность к людям и откровенность во всем». Изображая Геру, Нагибин имел в виду и ее литературный «прототип». И Дафнис, и Юра были благодарны своим наставницам, однако нагибинский герой оказался более требовательным. Он признавался в том, что «Гера выпустила» его «из своих объятий немногим более опытным, чем был Адам после первого спаривания с Евой», поэтому «всю любовную науку» ему пришлось осваивать вместе с Дашей (с. 410–411).
Сильно и искренне любящие своих избранниц, герои и Лонга, и Нагибина не способны бороться за них. Дафнис ничего не мог возразить, когда наблюдал, как богатые женихи буквально осаждают дом Хлои. Юра после приезда жениха-поэта признавался: «Мне и в голову не пришло бороться за Дашу» (с. 353). В романе Лонга расстроенная Хлоя рассказала «о Напы речах, торопившейся выдать замуж ее поскорее» своему возлюбленному. Узнав о возможном расставании с Хлоей, Дафнис очень огорчился, но ничего не сделал, чтобы изменить сложившуюся ситуацию в свою пользу. В повести Нагибина Даша говорила Юре: «Маму беспокоит моя неустроенность. Она совсем извелась» (с. 395). Услышав эти слова, Юра «не испытывал ни малейшего желания ни к какому действию жизни» (с. 397).
Отсутствие воли действовать сближает Юру с буколическим пастушком Дафнисом. Он не предпринимает никаких действий в тот момент, когда коктебельское хулиганье угрожало Даше и пригласившему ее на танец жениху-поэту. «У меня даже в мыслях не было стать рядом с поэтом и вместе биться за честь нашей дамы. Я полностью уступил ему Дашу и всю ответственность за нее» (с. 354), – признается нагибинский герой и сравнивает себя в этой ситуации не с героем Лонга, а с пастухом из «рассказа Брет-Гарта Пастух из Солано». Пересказав историю героя (влюбленный в девушку, помолвленную с другим, пастух пригласил ее на лодочную прогулку; лодка перевернулась, и девушка оказалась за бортом; вместо того, чтобы «героическим поступком завоевывать сердце любимой», пастух «хладнокровно ждал, когда ей на помощь придет жених»), Юра проводит прямую параллель между собой и пастухом из Солано замечая, что «парализовавшие» его «соображения были столь же великодушны и низменны», как и у героя рассказа Ф. Брет-Гарта. Юра, говоря о страстях, поглощавших его, признавался: «Из буколического пастушка я превращался в фавна, сатира, объятого нечистым пламенем»29 (с. 365). В рассмотренной сцене он остался Дафнисом, но поскольку речь в ней шла, как выразился Юра, о соображениях «низменных», сравнил он себя не с героем Лонга, а с пастухом из Солано.