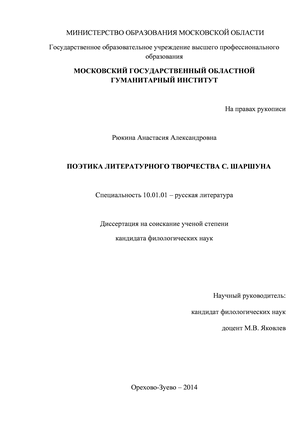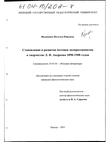Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Определение генезиса литературного творчества С. Шаршуна 25
1.1. Трансформация проблемы героя в младоэмигрантской прозе 1920–1930-х годов .25
1.2. «Эмигрантский» характер художественной стратегии творчества С. Шаршуна 34
1.3. Преемственные связи авангардной прозы С. Шаршуна с культурной традицией Серебряного века 53
ГЛАВА II. Художественная самобытность литературного творчества С. Шаршуна 73
2.1.Своеобразие автобиографизма в творчестве С. Шаршуна 73
2.2. «Синтез искусств» как основа художественной стратегии творчества С. Шаршуна 107
ГЛАВА III. Проблематика и художественные особенности поэмы в прозе С. Шаршуна «долголиков» .129
3.1.Проблема жанра поэмы в прозе «Долголиков» 129
3.2. Типология главного героя поэмы в прозе «Долголиков» .142
3.3. Интертекстуальные связи поэмы в прозе «Долголиков» с русской классической литературой .164
3.3.1.Лермонтовский интертекст в поэме в прозе «Долголиков» .164
3.3.2.Мифологизация архетипов Достоевского в поэме в прозе «Долголиков» .172
3.4. Стилевые особенности поэмы в прозе «Долголиков» .183
Заключение .206
Список использованной литературы .
- «Эмигрантский» характер художественной стратегии творчества С. Шаршуна
- Преемственные связи авангардной прозы С. Шаршуна с культурной традицией Серебряного века
- «Синтез искусств» как основа художественной стратегии творчества С. Шаршуна
- Интертекстуальные связи поэмы в прозе «Долголиков» с русской классической литературой
«Эмигрантский» характер художественной стратегии творчества С. Шаршуна
Проблема героя всегда являлась центральной в художественно-поэтической системе русской литературы. Внимание к человеческой личности как к центру литературных событий провозгласили еще сентименталисты, однако планомерная разработка данной темы писателями началась только в XIX веке, «чему способствовало становление нового литературного направления, получившее название «реализм», по мнению литературоведа Э.Я. Фесенко [406, с.22]. При этом она заочно вступает в полемику с М. Липовецким, который считает, что «совершенно необходимо написать историю русской литературы, избегая категорию «реализма» [234, с. 4]. По его мнению, высказанному в статье «Реализм в русской литературе – это фантом» (2010), если «великий русский модернизм» «взялся из романтизма», то реализм получается лишним звеном в литературном процессе [там же], который не нашел своего прямого выражения в русской литературе XIX века. «Мы видим романтические структуры, обогащенные психологическим анализом. Именно таков «реализм» Толстого и Достоевского, – аргументирует свою точку зрения М. Липовецкий. «С другой стороны, мы видим натурализм», представленный «натуральной школой» Н.В. Гоголя [там же]. Однако уже Г.С. Померанц в своей книге «Открытость бездне. Этюды о Ф.М. Достоевском» (1989) обнаруживал синкретический характер творчества Ф.М. Достоевского с ведущей ролью реалистического литературного направления. Исследователь утверждает: «Достоевский времен своих великих романов широк и полностью допускает реализм … ; но романтизм прорывается в мечтаниях его героев, совершенно падших» (Курсив автора. – А.Р.) [319, с. 193]. Мы можем отметить, что здесь литературовед, анализируя героев Достоевского, обозначает раскол личности русского человека, планомерно исследуемый и углубляемый писателями XIX века. Это выражалось в изображении все усиливающегося противоречия внешней и «внутренней жизни» героя в русской литературе XIX века.
Этот процесс был детально проанализирован Н.М. Бахтиным в статье «Разложение личности и внутренняя жизнь», опубликованной в 4-й книге журнала «Числа» в 1931 году. Для нашей работы эта публикация представляет непосредственный интерес. В ней констатируется преемственная связь младоэмигрантской литературы по отношению к русской классической литературе XIX века относительно взгляда на проблему героя: «Во многом мы все еще только покорные продолжатели основных тенденций ненавистного 19-го века. В частности, чувство личности, как оно определилось в ту эпоху, в значительной мере остается господствующим и теперь» [84, с. 176]. В своей статье Н.М. Бахтин на теоретическом уровне, максимально обобщенно и схематично, прослеживает процесс распада личности героя в XIX веке, который он связывает с гипертрофированным выражением функции сознания, которое он определяет как «возможность колебания и выбора, т.е. с в о б о д а» (Здесь и далее разрядка автора. – А.Р.) [там же, с. 180]. Это постепенно приводит к тому, что «д е й с т в и е и с о з н а н и е – перестали быть двумя н е р а з д е л е н н ы м и аспектами единого Я» [там же, с. 179]. В итоге герой предпочитает «отдаться с а м о с о з н а в а н и ю б е з с а м о о с у щ е с т в л е н и я, т. е. «в н у т р е н н е й ж и з н и» [там же, с. 181]. Причем процесс погружения героя во «внутреннюю жизнь» у критика ассоциируется с прогрессирующей болезнью эпидемиологического характера. Признаки ее проявления он усматривает как у героев, принадлежавших к низшим слоям общества, так и у тех, кто находился «на верхах культуры и жизни» [там же, с. 178]. Таким образом, мы догадываемся о том, что критик намекает на бытовавшие в русской литературе XIX века типы «маленького человека» и «лишнего человека».
Н.М. Бахтин так характеризует один из данных устойчивых литературных типов, который проходит у критика под кодовым обозначением героя «X»: «Он мыслит, чувствует, страдает, радуется, – и все это почти ни в чем не изменяет хода его жизни, которая предоставлена своей инерции и движется по каким-то своим, чуждым ему, законам» [84, с. 177]. В данном описании, безусловно, угадывается определение типа «маленького человека».
И в этом отношении «маленький человек» приближается к «лишнему человеку», рефлексия которого является одной из характерных черт этого литературного типа. Но в силу принадлежности данных героев к различным социально-культурным слоям общества в личности «маленького человека» обозначенное стремление понять и найти себя в окружающем мире не получает полноценного выражения, а видоизменяется в чувство страха, которым будут заражены все чеховские представители данного типа. Причина этого, возможно, лежит в ярко выраженном проявлении в образе «маленького человека» такой черты русского народа, как самоуничижение перед властьпридержащими.
Понятие «лишний человек» вошло в литературный обиход после публикации повести И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850). Хотя данный тип уже был широко представлен в русской литературе первой половины XIX века, но формально в нем прочитывались черты романтического типа байронического героя, на что указывает Н.Д. Старосельская в труде «Роман И.А. Гончарова «Обрыв» (1990). Н.М. Бахтин в статье выделяет два подтипа устойчивой литературной категории «лишнего человека». Характеризуя первый из них, критик отмечает, что в противоположность незаметной жизни «маленького человека», «внешняя жизнь такого человека может быть иногда крайне сложной и богатой событиями», но обращает внимание на то, что «все эти события для него лишь острые возбудители, которыми он неустанно раздражает, тревожит и усложняет свою внутреннюю жизнь» [84, с. 178].
Преемственные связи авангардной прозы С. Шаршуна с культурной традицией Серебряного века
Повышенной эмоциональностью отличается глава 14-я поэмы в прозе «Долголиков», которая построена как опус воображаемого проекта главного героя по возведению нового зала «Ротонды», чтобы та не потеряла своей уютности. Выполнение этого условия было очень важно для эмигранта Долголикова, всюду чужого и не находящего приюта. Неслучайно столь значительное внимание уделяется именно этому кафе, которое, по словам известного фактографа жизни в эмиграции А. Седых в книге «Далекие – близкие» (1962), являлось «незыблемой основой парижской жизни» [359, с. 259]. Эмигранты настолько сроднились со старым залом, что по поводу прощания со своеобразным надежным причалом их скитальческой жизни устроили вечер в 1922 году.
Возможно, душевная драма С. Шаршуна послужила основой для психологической драмы Долголикова и Наденьки в романе «Путь правый». В ходе своей поездки в Берлин младоэмигрант был постоянным гостем на собраниях «Дома искусств». За столиком кафе он находился в одной и той же компании «эффектной черноокой художницы». Как и его герой, «Шаршун не спускал с нее глаз, но к его горю он не был единственным, вздыхавшем по этой своеобразной Беатриче», о чем пишет А. Бахрах в статье «Шаршун, которого я знал» (1979) [83, с. 57]. И в довершение сходства «его увлечение отнюдь не было мимолетным» [там же].
По мнению А. Бахраха, С. Шаршун «умышленно покрыл себя скорлупой» [там же, с. 59] беспристрастного зрителя, наблюдавшего за происходящим вокруг, но предпочитавшего свое мнение оставлять при себе и выговариваться только в творчестве. Как и молодой С. Шаршун, «не без смущения» просивший разрешения взять несколько рисунков эротического содержания у Кокто, главный герой «лирический повести» «Заячье сердце» Берлогин, который, как и Долголиков, представляет собой Alter ego автора, жил под «роговой корой сдержанности» и «был так далек от ожогов похоти» [14, с. 13].
Именно от самого автора герои С. Шаршуна переняли любовь к долгим, полным восторга и саморефлексии, прогулкам вдоль Сены, по которой литератор любил доходить до самого устья, по свидетельствам Р. Герра [145, с. 370]. С первой же страницы книги «Неприятные рассказы» подобным чувством Шаршун наделяет очередную свою литературную маску – героя Курчина: «Часто он оказывался в Булонском Лесу, на берегу Сены, потому что не представлял себе пейзаж без воды...» [26, с. 3]. Другое выражение этой основной потребности можно найти в его рассказе «Роздых», которому автор предпослал подзаголовок «идиллия». Уже это жанровое определение содержит идеи солипсизма – философии, которая особенно была близка С. Шаршуну на всем протяжении его творческого развития.
Таким образом, тексты произведений С. Шаршуна составляют «автобиографическое пространство», в котором отражаются все мысли, движения души, эстетические воззрения их создателя. «Человеческий документ» был призван запечатлевать только пережитое автором, поэтому часто повествование ведется от первого лица и опирается на личностный опыт. Однако в частях эпопеи «Герой интереснее романа» герой, который воспринимался эмигрантскими критиками как зеркальное отражение личности автора, не ведет повествование, а, наоборот, служит субъектом, описанию жизни и метаний которого посвящено произведение. И скорее Шаршун вложил свой опыт именно в образ повествователя, который вместе с центральным героем солипсической эпопеи является представителями одного социально общественного круга и обладателем схожих художественных вкусов. Именно в его отношении можно расшифровать точное определение Г. Адамовичем поэмы в прозе «Долголиков» как «духовной автобиографии» С. Шаршуна [58, с. 3]. Критик в статье «Об одной рукописи» (1929) подчеркивает, что «литературно – в ней заметно влияние … в особенности Андрея Белого, но по существу Шаршун от подчинения кому бы то ни было свободен» [там же]. Действительно, начиная с этого произведения Шаршун, по словам Р. Герра, «в своем творческом процессе беспрерывно умирает и возрождается и в час творения целиком вливается в то, что творит» [145, с. 367]. Отдельные главы его поэмы составляют органическое единство благодаря личности автора, тенью следующего за своим героем. Долголиков открывает галерею «двойников» Шаршуна, которую продолжит Самоедов («Путь правый», 1934), Берлогин («Заячье сердце», 1937), Тихоня (рассказы «Антильский мед», 1935, «Неудавшийся Обломов», 1936, «Экзотическая песня», 1936, «Абиссиния», 1937), Курчин («Неприятные рассказы», 1964). Герои Шаршуна являют собой трагичные, гордые, одинокие личности, наделенные болезненной чувствительностью и острой восприимчивостью мира. В его произведениях почти всегда звучит тема родины и тоски по ней, поднимаются религиозные и морально-этические вопросы, осмысляются возможные пути выхода из трагедии «младшего поколения» русской эмиграции.
Они представляют собой своеобразные ипостаси духовного развития их создателя. И в этом смысле Шаршун выступает продолжателем эстетической концепции А. Белого, который в своем творчестве стремился воссоздать историю своего духовного становления. В статье «Почему я стал символистом и почему я не переставал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (1928) он пишет о том, что «вынужден был изживать свое самосознающее “Я” не по прямому поводу, а в диалекте ритмизируемых вариаций “Я” личностей-личин, из которых ни одна не была “Я”» [88, с. 420]. Несмотря на ярко выраженную сумбурность изложения, в их тексте не наблюдается хаоса действительности, а происходит целенаправленное, подконтрольное Разуму, погружение в психологию личности их создателей. Причем и у А. Белого, и у Шаршуна процесс самоуглубления разворачивается на фоне обыкновенного течения их жизни. Так, М.В. Яковлев в статье «Своеобразие автобиографизма в поэме А. Белого «Первое свидание» (2013) отмечает, что у поэта «само – со – знание и автобиографический анамнезис (греч. познание как воспоминание) произведения питаются московскими образами» [454, с. 213]. При этом А. Белый утверждал, что «я» не есть форма форм, коих содержание «личность»; «я» есть «само» самосознания как преодоление и субъекций личного, и объекций общеформального (синтетического)» [88, с. 455]. Однако Шаршун и А. Белый в этом процессе самопознания воспринимали по-разному роль мира, находящегося за пределами их «Я». На наш взгляд, Шаршун солидарен с антропософскими идеями Р. Штейнера в том, что, как отмечает А. Белый, «у Штейнера микрокосмическое мышление есть дедукция макрокосма» [там же, с. 456]. Младоэмигрант в «Ответе на анкету о своем творчестве» (1931) утверждал, что его творчество находится на «стадии «познай самого себя» [29, с. 289], причем он конкретизировал, что «творю» только с натуры, через опыт» [там же, с. 288]. Тогда как А. Белый в своей статье «Почему я стал символистом…» (1928) подчеркивает, что в его собственной творческой концепции «выход к макрокосму есть конечная индукция из вершины пирамиды познаний» [88, с. 456–457].
«Синтез искусств» как основа художественной стратегии творчества С. Шаршуна
Мы видим, что то состояние, в которое лишь временами погружался Долголиков, Человеку-Птице удалось достичь. Ему удалось выйти из границ собственного тела и переместиться в другой мир, где он смог ощутить гармонию и красоту, которыми природа наделила птиц. Человеку-Птице удалось избавиться от душащих, сковывающих рамок человеческого мира и воплотить в жизнь то, о чем только мечтал Долголиков. В 18-й главе «Пополь и «его русский» описана антигуманная сцена ловли воробьев одним из 160 персонажей поэмы, за которой с замирающим от ужаса и страдания сердцем наблюдал Долголиков. «Охота состояла в следующем: на кругло – обструганный конец лучинки он натыкал скатанный хлебный мякиш, а другой конец, плоский и легкий, намазывал незастывающим, липким клеем. Воробей, клюя хлеб, трепал лучинку, которая, коснувшись перышек, прилипала, лишая его возможности расправить крылья, улететь, терроризируя, парализуя его» [С. 103]. Разве не похож Долголиков на этого несчастного воробья? Главный герой уже привязан к неволе, которой является чужая для него страна, ставшая местом его эмиграции. Долголиков не может «расправить крылья» [С. 103] и улететь на свою родину. В воспаленном сознании главного героя сад, в котором он вынужден наблюдать это душераздирающее зрелище, ассоциируется с местом «пыток» [там же], которое символизирует собой весь окружающий его мир.
Снова мы приходим к выводу о том, что в этой жизни герой романа не мог найти себя и потому уже отмеченный мотив одиночества человека искусства является в произведении ведущим. Я.Н. Горбов отмечал, что «образ одиночества – «глухого, непроницаемого … дрожит – на каждой странице этой привлекательной и увлекательной поэмы» [153, с. 148]. И здесь снова мы можем провести параллель творчества и жизни С. Шаршуна. И. Одоевцева вспоминает в своих мемуарных очерках «На берегах Сены»: «Мне всегда казалось, что Шаршун находится не на одном уровне с остальными, а немного выше их или немного в стороне от них. Никогда не вместе с ними, а всегда сам по себе. Одиноко. Один. Всюду не свой, а чужой. Другого измерения или с другой планеты – чужой и непонятный» [293, с. 141].
Рецензируя книгу «Долголиков» (1963), Г. Адамович отметил, что она «проникнута аскетической, иноческой печалью» [54, с. 415]. Мотив скитания является традиционным в младоэмигрантской литературе. Однако в поэме Шаршуна в образе главного героя прочитываются именно иноческие черты «человека, природно доверчивого, даже простодушного, … очень честного, готового все и всех любить», по определению Г. Адамовича [54, с. 415], но совершенно чуждого обществу людей. Сам Шаршун, который не мог жить без путешествий наедине с самим собой, будь то ежедневные прогулки вдоль устья рек или поездка на Галапагосские острова в конце жизни, наделил этой страстью и своего героя. Михаил Долголиков предпочитал странствовать по глубинам своего внутреннего мира. Шаршун так организует время и пространство в тексте поэмы, что оно постепенно сужается до границ «внутреннего Я» главного героя. Автор подводит нас к выводу, что только в ходе процесса самопознания можно прийти к гармонизации личного существования, чтобы обрести свободу и понимание – два состояния, которые были недостижимы для эмигрантов. Таким образом, данный художественный текст Шаршуна можно считать иллюстрацией антропософских идей Р. Штейнера, которые, как отмечает Р. Герра, существенно повлияли на все последадаистическое творчество младоэмигранта.
Как уже отмечалось ранее, Я. Горбов указал на возможность рассмотрения поэмы «Долголиков» с позиций не словесного, а визуального искусства: «Славяно-монгола» своего Шаршун описывает так, как он уложил бы его на холст» [153, с. 148]. Одним из самых распространенных жанров живописи, способным «воплощать «образ личности» [270, с. 233], является портрет. По мнению Ю.И. Минералова, при создании портрета «живописец способен передать индивидуальную конфигурацию внешности человека в единстве с его внутренним миром (личность) даже буквально несколькими штрихами» [там же, с. 233]. Так и у Шаршуна одиночество героя, по мнению Я.Н. Горбова, выражено «линиями какого-то чертежа, какой-то теоремы» [153, с. 148]. Весь текст поэмы младоэмигранта посвящен рисованию камерного портрета главного героя, фамилия которого уже дает возможность нам представить вытянутый овал его лица. Я.Н. Горбов в своем отзыве о данном произведении Шаршуна указывает на яркость и насыщенность цветовой палитры текста. Кадровость композиции поэмы соответствует изобразительной технике мазка, очень популярной у Шаршуна-художника.
Особенность соединения в поэме Шаршуна авангардной поэтики с религиозно-мистической символикой образной системы дает нам возможность сопоставить данный текст со стихотворением кубофутуриста В. Хлебникова «Бобэоби пелись губы…» (1908–1909), которое у поэта является программным в разрабатываемой им концепции «заумного языка». Вспомним, что Шаршуна в связи с поэмой «Долголиков» также обвиняли в излишней непонятности и запутанности структуры текста. Отмеченные произведения двух литераторов написаны в традициях синкретического искусства и являют собой живописные портреты, созданные посредством словесной организации языковых единиц текста. Хлебников в своем стихотворении использует технику цвето-звуковых соответствий, восходящую к творчеству французских символистов. Как отмечает С.А. Васильев в монографии «Стилевые традиции Г.Р. Державина в русской литературе XIX–начала XX века» (2007), «детали [портрета девушки] – «губы», «взоры», «брови», «облик», «цепь» – созданы прежде всего средствами словесно-звуковой образности: повтором гласных, сонорных, звонких, губных» [124, с. 181]. Через наблюдение за значением слов, составляющих последнюю строчку стихотворения, литературовед замечает особенность изображенного в стихотворении Хлебникова лица находиться «вне пространства, в идеальном мире, одновременно проявляя себя в виде материально данного живописного облика»: «Так на холсте каких-то соответствий // Вне протяжения жило Лицо» [там же, с. 182]. С.А. Васильев, учитывая также и то, что «прообразом такого “пения портрета” могло быть богослужение» [там же, с. 181], приходит к выводу, что в данном стихотворении Хлебникова содержится аллюзия на иконописное изображение «лика Божией Матери». Нами уже было показано ранее, что в поэме Шаршуна в образе Человека-Птицы, представляющем собой духовную трансформацию образа Михаила Долголикова, также прослеживаются связи с христианской образной системой посредством обыгрывания образа Архангела Михаила.
Интертекстуальные связи поэмы в прозе «Долголиков» с русской классической литературой
Особый интерес к «внутренней жизни» личности в русской литературе второй половины XIX века привел к смене эстетических приоритетов в создании художественного произведения. С активным развитием психологического направления в русской литературе авторы стремятся не столько к созданию целостного образа мира в своем творении, сколько к осмыслению законов «внутренней жизни» отдельного человека. Проблема углубляющегося кризиса личности художественно была осмыслена Ф.М. Достоевским в типе «подпольного человека», который мифологизируется в эмигрантском сознании. При сопоставлении текста повести Достоевского «Записки из подполья» и поэмы Шаршуна «Долголиков» обнаруживаются как собственно типологические, так и интертекстуальные литературные связи. В частности, в центре обоих произведений стоит проблема трагичности положения героя, который осознает себя частью «всемства», но внутренне не может принять законы мира, которым вынужден подчиняться. Главной 214 эстетической задачей обоих произведений является погружение в «подполье» сознания главного героя с целью найти пути разрешения внутреннего конфликта личности.
Эмигрантской литературой также наследуется всесторонне разработанная Достоевским тема двойственности человеческой натуры, подвластной влиянию светлых и темных сил. Дело в том, что «герой эмигрантской молодой литературы», типичным представителем которого является главный герой поэмы Шаршуна, в психологическом плане соединяет в себе черты «внутреннего человека» и «подпольного человека». Лексико-семантический анализ антропонимов героя Шаршуна позволяет рассмотреть данный тип в религиозно-философском ключе с опорой на центральную триаду-мифологему христианской культуры «лик-лицо-личина». Так, проведенный лингво-культурологический анализ имени «Михаил» в соответствии с предложенным П. Флоренским его толкованием в «Словаре имен» обнаружил глубокую символичность данной номинации. Она позволила объяснить авторскую характеристику героя как «внука российского Дон-Кихота, Обломова» благодаря указанию на несоответствие внешней нерасторопности и внутренней кипучей энергии носителя данного имени. Кроме того, обращение к данному антропониму вскрыло особенности личности главного героя поэмы Шаршуна, который испытывал постоянное чувство неудовлетворенности окружающим его миром и всегда стремился обрести гармонию за его пределами. Наконец, религиозно-символический характер данного имени подчеркивается указанием на то, что его первым носителем был Архангел Михаил. В поэме Шаршуна находят художественное осмысление рассуждения Р. Штейнера о роли Архангела Михаила в деле одухотворения сознания рода человеческого, провозглашенного наступлением «эпохи Михаила». Религиозный аспект рассмотрения образа Долголикова находит свое продолжение в выведении фантастического образа Человека-Птицы, который по внешним признакам напоминает ангела, а в смысловом отношении являет собой художественно реализованную трансформацию «внутреннего человека» главного героя поэмы «Долголиков». Лейтмотивные образы воды и птиц обеспечивают достижение Долголиковым «пантеистического состояния», которое позволяет ему совершать переход в принципиально иное состояние приобщения к чуду вселенской гармонии.
Лексико-этимологический анализ фамилии «Долголиков» также указывает на художественно-поэтический план рассмотрения личности главного героя Шаршуна. С одной стороны, корневая сема лик- обращает внимание на собирательный характер образа Михаила Долголикова как представителя эмигрантского сообщества. С другой стороны, она обнаруживает особенности строения лица главного героя поэмы, которое отличалось вытянутой формой, и было похоже на «аэроплан». Становится возможным смещение акцента с анализа сущностных характеристик личности Долголикова на наблюдение за способами его отражения в тексте поэмы Шаршуна. В поле зрения попадает изображение лица главного героя, которое становится зрительно ощутимым.
В стилевом отношении поэма «Долголиков» строится на принципах словесного, изобразительного и кинематографического искусства. Эстетической задачей данного художественного произведения, по нашему мнению, является создание живописного портрета главного героя средствами слова. Обращение Шаршуна к авангардной поэтике с сохранением религиозно-мистической символики образа главного героя дает возможность сопоставить данный текст со знаковым стихотворением кубофутуриста В. Хлебникова «Бобэоби пелись губы…». Благодаря использованным в стихотворении приемам звуковой образности и синестезии в чертах изображенного на портрете лица угадывается лик Девы Марии. И Хлебников, и Шаршун выступают последователями стилевой традиции Г.Р. Державина, для которого поэзия была «говорящей живописью».
Язык поэмы Шаршуна «Долголиков» характеризуют такие специфические черты, как установка на преобладание устной литературной формы выражения мысли, активное включение разностилевой лексики, построение предложений с использованием моделей разговорного синтаксиса, наличие «мнимых неправильностей», столкновение в одном контексте религиозно-философской и гражданской тематики, использование церковнославянской образности. Стиль поэмы носит на себе отпечаток личности автора, который посредством текста хочет выговориться перед читателем. На языковом уровне это выражается в повышенной эмоциональности текста за счет включения вопросительных конструкций и обращений, в подчеркнутом стремлении с максимальной точностью, доходящей до физической ощутимости, описать то или иное явление или предмет, что достигается благодаря вхождению сложных слов в структуру индивидуально-авторских эпитетов, сравнений и метафор, синестетической образности.
Визуализации текста поэмы способствует использование безглагольных предложений, что восходит к стилевой манере А.А. Фета. Подражание импрессионистической технике мазка в живописи в тексте поэмы происходит также за счет выстраивания рядов бессоюзных однородных членов предложения, которые усиливают предметно-образное значение текста, что способствует созданию целостного образа описываемого предмета или явления. Итак, несмотря на ярко выраженный сюрреалистический характер произведения, при более пристальном рассмотрении отношений замысла и структуры поэмы С. Шаршуна «Долголиков», мы можем отметить, что как с точки зрения жанрового определения, так при анализе выбранного способа повествования и раскрытия внутреннего мира своего героя данное произведение писателя служит продолжением традиций русской классической литературы в оригинальной авторской переработке.