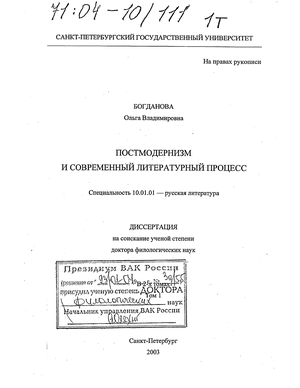Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Русский прозаический постмодерн (1960-е — 2000-е годы) 42
1.1. «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодерна 43
1.2. «Пушкинский дом» Андрея Битова («версия и вариант» русского постмодерна) 107
1.3. «Дихотомическая триада» прозы Сергея Довлатова 187
1.4. Ироничная и литературоцентричная проза Вячеслава Пьецуха... 206
1.5. Интертекстуальные связи в творчестве Татьяны Толстой 256
1.6. Субъективный мир прозы Виктора Пелевина 340
1.7. Технология «мрака» в прозе Людмилы Петрушевской 408
1.8. Де(кон)структивный слом в прозе Владимира Сорокина 420
ГЛАВА 2. Русский поэтический постмодерн (концептуальная поэзия 1960—2000-х годов)
2.1. «Количественное» качество поэзии Дмитрия Пригова
2.2. «Прозо-драматургическая» поэзия Льва Рубинштейна 38
2.3. «Русский поэт» Тимур Кибиров ; 53
ГЛАВА 3. Русский драматургический постмодерн (1970—2000-е годы) 99
3.1. «Пьеса для чтения»: «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикта Ерофеева 99
3.2. «Диалоги для театра» Людмилы Петрушевской 116
3.3. «Психологический постмодернизм» Николая Коляды 134
Заключительная глава. Постмодернизм в контексте русской
классической литературы 155
Приложение. Краткие сведения о писателях-постмодернистах 165
Библиография 224
Тексты 224
Литература 233
- «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодерна
- Субъективный мир прозы Виктора Пелевина
- «Количественное» качество поэзии Дмитрия Пригова
- «Пьеса для чтения»: «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикта Ерофеева
Введение к работе
Понятие современной литературы охватывает довольно большой временной промежуток: с конца 1950-х годов, когда начали обнаруживать себя основные тенденции, определившие развитие русской литературы на последующие три десятилетия, и вплоть до настоящего времени. Однако однородности и целостности в этом периоде нет: в нем отчетливо выделяются два подпериода: с конца 1950-х до середины 1980-х годов, когда господствовали одни тенденции, и с середины 1980-х до начала 2000-х годов, когда на первый план выступили другие тенденции, получившие название постмодернистских.
Для уточнения узуса и дефиниции предмета анализа приведем некоторые выдержки из словарной статьи на «постмодернизм»:
«Постмодернизм — широкое культурное понятие, в чью орбиту последние два десятилетия попадают философия, эстетика, искусство, гуманитарные науки. Постмодернистское умонастроение несет на себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей. Общим для различных национальных вариантов постмодернизма можно считать его отождествление с именем эпохи „усталой", „энтропийной" культуры, отмеченной эсхатологическими настроениями, эстетическими мутациями, диффузией больших стилей, эклектическим смешением художественных языков ... . Рефлексия по поводу модернистской концепции мира как хаоса выливается в опыт игрового освоения этого хаоса, превращения его в среду обитания человека культуры ... . Выходящая за рамки классического логоса постмодернистская эстетика принци пиально антисистематична, адогматична, чужда жесткости и замкнутости концептуальных построений .. . .
Новый взгляд на прекрасное как сплав чувств, концептуального и нравственного, обусловлен его интеллектуализацией, вытекающей из концепции экологической и алгоритмической красоты, ориентации на красоту ассонансов и асимметрии, дисгармоничную целостность второго порядка как эстетическую норму постмодерна ... . Пристальный интерес к безобразному выливается в его постепенное «приручение» посредством эстетизации, ведущей к размыванию его отличительных признаков. Возвышенное замещается удивительным, трагическое •— парадоксальным. Центральное место занимает комическое в его иронической ипостаси: иронизм становится смыслообразующим принципом мозаичного постмодернистского искусства.
Другая особенность постмодернистской эстетики— онтологическая трактовка искусства, отличающаяся от классической открытостью, направленностью на непознаваемое, неопределенностью. Неклассическая онтология разрушает систему символических противоположностей, дистанцируясь от бинарных оппозиций: реальное — воображаемое, оригинальное— вторичное, старое — новое, естественное— искусственное, внешнее — внутреннее, поверхностное — глубинное, мужское — женское, индивидуальное — коллективное, часть — целое, Восток — Запад, присутствие— отсутствие, субъект — объект. Субъект как центр системы представлений и источник творчества рассеивается, его место занимают бессознательные языковые структуры ... Сознательный эклектизм питает гипертрофированную избыточность художественных средств и приемов постмодернистского искусства, эстетический „фристайл".
Постмодернистские принципы философского маргинализма, открытости, описательности, безоценочности ведут к дестабилизации классической системы эстетических ценностей. Постмодернизм отказывается от дидак тически-профетических оценок искусства. Аксиологический сдвиг в сторону большей толерантности во многом связан с отношением к массовой культуре, а также к тем эстетическим феноменам, которые считались периферийными.
Антитезы: высокое — массовое искусство, научное — обыденное сознание не воспринимаются эстетикой постмодернизма как актуальные.
Постмодернистские эксперименты стимулировали также стирание граней между традиционными видами и жанрами искусства, развитие тенденций синестезии подвергли сомнению оригинальность творчества, „чистоту" искусства как индивидуального акта созидания, привели к его дизай-низации. Пересмотр классических представлений о созидании и разрушении, порядке и хаосе, серьезном и игровом в искусстве свидетельствовал о сознательной переориентации с классического понимания художественного творчества на конструирование артефактов ... .
Наиболее существенным философским отличием постмодернизма является переход от классического антропоцентрического гуманизма к современному универсальному гуманизму, чье экологическое измерение обнимает все живое — человека, природу, космос, Вселенную» (Культурология..., 1997:348—351).
Общий характер приведенного определения, неадаптированность к литературе вообще и к современному литературному процессу в частности позволяют принять его в целом, но уточнить его некоторые позиции и проследить их актуальность в связи с анализируемым явлением. В этой связи более «близким» к литературе можно считать определение постмодернизма, данное литературоведом и философом Михаилом Эпштейном:
«Обычно постмодернизм определяется как культурная формация, исторический период или совокупность теоретических и художественных движений, которым свойственен принципиальный эклектизм и фрагментарность, отказ от больших, всеохватывающих мировоззрений и повество ваний. Просветительская установка на идеал, поиск некой универсальной и рационально постижимой истины отождествляются с опасностями утопизма и тоталитаризма. Мир мыслится как текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, за пределом которых нельзя явить означаемые, „вещи" как они есть, „истину" саму по себе. Текст мыслится „интертекстуально", как игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише. Понятие реальности конструируется производив от тех концептуальных схем и текстуальных стратегий, которые зависят от расовых, этнических, сексуальных ориентации исследователя, от его властных позиций и устремлений. На место категорий единства и противоположности выдвигаются категории различия и инаковости, которые устанавливают ценность „другого", иноположного, выходящего за рамки данной системы. Всякая иерархия ценностей, в том числе противопоставление „элитарного" и „массового", „центра" и „периферии", „глобального" и „локального", революционная оппозиция обществу, авангардистский вызов традиции,— снимаются во имя сосуществования разных культурных моделей и канонов, самоценных, самодостаточных и несводимых друг к другу. Те группы и субкультуры, которые раньше считались маргинальными, выдвигаются на первый план, как субъекты политической деятельности и теоретического самовыражения — отсюда феминизм, гомосексуализм, постколониализм как стратегии письма и общественные движения. Личность, оригинальность, авторство рассматриваются как иллюзии сознания или условные конструкции, за которыми действуют механизмы знаковых систем, языка, бессознательного, рынка, международных монополий, властных структур, распределяющих функции между индивидами.
Среди терминов и понятийных комплексов, которыми чаще всего характеризуется культура постмодернизма, выделяют „означающие без означаемых", „симулакр" (подобие без подлинника), „интертекстуальность", „цитатность", „деконструкция", „игра следов", „исчезновение реальности", „смерть автора", „эпистемиологическая неуверенность", „критика метафизики присутствия", „гибель сверхповествований" (обобщающих моделей мироздания), „антиутопизм и постутопизм", „крах рационализма и универсализма", „крах логоцентризма и фаллоцентризма" (мужской шовинизм), „фрагментарность", „эклектика", „плюрализм", „релятивизм", „рассеивание значений", „крах двоичных оппозиций", „различение", „другое", „многокультурность", „скептицизм", „ирония", „пародия", „пастиш" (или „центон", художественная композиция, составленная из цитат, часто с целью пародии)...» (Эпштейн, 2000: 5—6).
В опоре на данные определения (которые, несомненно, можно было бы множить ) в известной степени упрощается процесс выявления генезиса и конститутивных черт постмодерна в русской литературе 1980—1990-х годов. Хотя, цитируя того же М. Эпштейна, можно согласиться: «Вообще дать четкое и однозначное определение постмодернизма трудно...» (Эпштейн, 2000: 5—6).
Что касается самого термина «постмодернизм», то академической науке хорошо известно, что нет абсолютно удачных терминов для обозначения какого-либо направления или течения, но едва ли найдется другой термин, который бы вызвал такое количество споров, нареканий, несогласий и разночтений в своей трактовке, как «постмодернизм».
С одной стороны, в значении самого слова изначально заложена некая алогичность: «пост» = «после», «модерн» = «современность». А. Гулыга по
Среди других заслуживающих внимания словарно-энциклопедиче-ских изданий могут быть названы: Ильин, 20016; Литературная энциклопедия терминов и понятий, 2001; Постмодернизм..., 2001; Руднев, 1999 и некоторые другие (см. библиографию).
этому поводу замечает: « ... а после современности возникает новая современность, ничего другого быть не может» (Гулыга, 1988: 153).
С другой стороны, если принимать значение синтагмы «модерн» за обозначение литературного направления начала века, то и тогда определение «пост-модерн» не отражает подлинной сути явления, так как термин «постмодерн» как бы порождает представление о явлении, отталкивающемся от модерна, уходящим от модерна, независимым от модерна, дистанцирующим себя от модерна, предполагающим некоторую исчерпан-ность модерна . Но это не так, или не вполне так, ибо суть постмодерна заключается в ином: не в приоритете одного над другим или предпочтении одного другому, а во всеядности, в плюрализме, во множественности. Постмодернизм не противостоит и не противоречит модерну, а вбирает его в себя как одну из традиций, как один из возможных культурных кодов3.
2 Ср. М. Липовецкий: «Русский постмодернизм с самого своего рождения скорее оглядывался на прерванный и запрещенный опыт русского модернизма, чем отталкивался от него. Ранние тексты русских постмодернистов с равным успехом можно анализировать и в модернистском контексте ... » (Липовецкий, 1999: 209).
3 Ср. П. Кириллов: «Ведь если задаться простым вопросом: „А чем, собственно, отличается модернизм от постмодернизма как способ мышления, в т. ч. художественного?" — ответ будет прост: „Отношением к истории". Модернизм антиисторичен, он сражается с историей, он погружен в поиск внеисторических, вневременных форм. Постмодернизм — а-истори- чен, исторически индифферентен, „истории" (ед. ч.) он предпочитает „истории" (мн. ч.), для него интересны именно (и только) временные, исторические формы, имеющие в его глазах одинаковую ценность единиц хранения. Модернистский герой мечтал „проснуться от кошмара истории" ... , постмодернистский герой эти „кошмары" коллекционирует ... . Из Постмодерн настаивает не на исключительности (эксклюзиве), а на всеобщности и всеобъемности (т. е. инклюзиве). В. Велыы: «Самое время теперь отказаться от примитивного противопоставления модерна и постмодерна. Эта оппозиция исходила из ложного по содержанию понимания постмодерна как анти-модерна и из ложного, в отношении формы, понимания его как транс-модерна. Ни то, ни другое несовместимо с подлинной идей и содержательным ядром постмодерна, с принципиальным плюрализмом» (Велып, 1992: 132).
Таким образом, термин «постмодерн/постмодернизм» не просто неудачен, но еще и трудно определим, различно толкуем, изменчив, неустойчив— « ... не в силу слабости письма, а в силу текучести предмета» (Курицын, 2001: 27). «Неудивительно, что в работах исследователей этого сложного феномена невозможно отыскать более или менее полное его определение» (Зыбайлов, Шапинский, 1993: 5). Но «несмотря на то, что понятие постмодерна способствовало формированию многих ложных представлений, все же мы не в состоянии подыскать для него лучшей замены» (Klotz, 1984: 16), «термин уже получил распространение» (Гулыга, 1988: 153).
По наблюдениям В. Велыыа, впервые термин был использован немецким философом Рудольфом Паннвицем в 1917 г. в работе «Кризис европейской культуры», где дебютировало прилагательное «постмодерный», но относилось оно не к области культуры (искусства или литературы), а к «новому человеку», призванному преодолеть упадок общества: «постмодерный человек», шедшее от «сверхчеловека» Ф. Ницше.
Впоследствии термин возникал и в работах других ученых (независимо от Р. Паннвица), но использовался спорадически, случайно, в различ всего этого, однако, не следует, что хронологически постмодернизм (как способ мышления) следует за модернизмом; тем более генетически из него вытекает» (Кириллов, 2000: 322).
ных областях и подразумевал разные явления: ни причинной, ни содержательной связи в его употреблении не прослеживалось4.
Тем не менее, несмотря на разнобой в словоупотреблении, очертания понятия «постмодернизм» постепенно начали проступать, явление конту-рировалось, и начало эпохи постмодернизма исследователи отнесли примерно к середине 1940-х годов, т. е. к концу второй мировой войны.
Распространению и утверждению термина в значительной мере способствовали работы Лесли Фидлера (США) середины 1960-х годов, в частности его статья «Пересекайте границы, засыпайте рвы!» (1969), в которой автор отмечает: «Практически все сегодняшние читатели и писатели осознали (в полной мере с 1955 г.) тот факт, что мы присутствуем при агонии литературного модерна и родовых схватках пост-модерна. Литература, претендовавшая на эпитет „modern", „современная", „новая" ... победоносное шествие которой началось незадолго до первой мировой войны и завершилось вскоре после окончания второй, — эта литература мертва, иными словами, она принадлежит истории, а не реальности» (Современная западная культурология..., 1993: 217). Л. Фидлер, впервые «положительно» характеризуя постмодернизм, одной из главных черт новой литературы назвал полиструктурность, т. е. то, что впоследствии получило определение плюрализма. Он увидел проявление плюрализма (полиструктурности) в литературе в новом сопряжении элитарной и массовой культуры, в разрушении границ между реальным и вымышленным, в изменении позиции художника, отсутствии ее определенности5.
4 См. об этом подробнее: Велын, 1992.
5 Ср. В. Велын: «С постмодерном мы имеем дело там, где практикуется осознанный плюрализм языков, моделей, методов, причем не только в разных произведениях, но в одном и том же, т. е. интерференциально, че- респолосно ... . Постмодерн радикально плюралистичен, и не из-за по
По наблюдениям В. Велына, именно с этого момента «постмодерн», случайное и крайне неоднозначное выражение (термин), «приобрел в литературной полемике очертания подлинного понятия и возвысился притом ... от слова с негативной маркировкой, регистрировавшего явления упадка, до лексической единицы, имеющей позитивную окраску, именующей обязательства перед настоящим и будущим и являющейся носительницей радикального плюрализма» (Велып, 1992: 115).
Постмодернистские тенденции обнаружили себя прежде всего в Италии, Франции, Германии, Австрии, Великобритании, не в первую очередь, но весьма пышно и разнообразно — в США.
В настоящее время на Западе и в России область распространения постмодернистских тенденций весьма обширна: архитектура , живопись, скульптура, литература, философия, социология, политика, теология и др. «Сегодня, кажется, уже нет области, куда бы не проник этот вирус» (Велып, 1992: 109). Но, повторим, наиболее яркое выражение и воплощение постмодернистское направление нашло в сфере искусства.
На западе постмодернизм представлен именами и творчеством Б. Виа-на, У. Эко, Х.-Л. Борхеса, А. Роб-Грийе, Э. Уорхола, Д. Эшбери и др. — в литературе; Д. Кейджа, К. Штокхаузена, Ф. Гласса, Т. Райли — в музыке; О. М. Унгерса, Д. Стерлинга, X. Холлейна — в архитектуре; Ж.-Л. Годара — в кино; М. Мерца, Я. Кунеллиса, М. Паладино — в живописи.
Основы теории постмодернизма были разработаны главным образом философами, социологами, культурологами, которые исповедовали идеи верхностности подхода или безразличия, но благодаря сознанию бесспорной ценности различных концепций и проектов. Видение постмодерна — видение плюралистическое» (Вельш, 1992: 115, 129).
«Массовое сознание познакомилось с постмодерном прежде всего в архитектуре» (Вельш, 1992: 117).
постструктурализма. Более того, по словам И. Ильина, «постмодернизм синтезировал теорию постструктурализма, практику литературно-критического анализа деконструктивизма и художественную практику современного искусства и попытался дать этому объяснение как „новому видению мира"», что «позволяет говорить о существовании постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистского комплекса общих представлений и установок» как широком и влиятельном интердисциплинарном по своему характеру течении в культурной жизни Запада 1970—90-х годов, охватывающем различные сферы гуманитарного знания (Ильин, 2001а: 764).
Среди ученых-постструктуралистов, заложивших основы постмодернистской теории, — французские философы, социологи, культурологи, литературоведы Ролан Барт, Мишель Фуко, Жак Деррида, Жиль Делез и Фе-лике Гваттари, Жан Бодрийяр, Жан-Франсуа Лиотар и многие другие .
Среди американских ученых значительный вклад в теорию постмодернизма внесли Д. Барт, В. Джеймс, Ф. Джеймсон, Ч. Дженкс, Б. Джонсон, Р. Рорти, Э. Сэйд, А. Хайсен, И. Хассан; в Германии — В. Велып, Д. Кам-пер, X. ЬСюнг, Ю. Хабермас; в Италии — У. Эко, Д. Ваттимо; в Великобритании — Дж. Батлер, Т. Иглтон, Д. Лодж, М. Пэйн; в России — В. Подоро о га, И. Ильин, А. Пятигорский, М. Эпштейн, Н. Маньковская и др.
Переводы трудов перечисленных французских философов и социологов на русский язык и особенно тщательность реферирования их работ в современной критической литературе по постмодерну избавляют от необходимости подробного изложения их позиций и позволяют просто отослать к библиографии.
8 Необходимо подчеркнуть, что труды ученых-постструктуралистов несводимы к какой-либо единой и цельной системе или теории: в чем-то они дополняют друг друга, в чем-то кардинально расходятся.
Основные понятия философии (теории) постмодернизма в их отношении к модернизму были суммированы И. Хассаном (Hassan, 1982), и, хотя его наблюдения достаточно часто цитируются в различных работах по постмодерну, кажется не бессмысленным привести их еще раз, так как схематизм, условность и упрощенность представленных наблюдений делают зримыми характерологические черты изучаемого явления:
МОДЕРНИЗМ (структурализм) закрытая замкнутая форма цель замысел иерархия мастерство (логос) предмет искусства (законченное произведение) дистанция творчество, тотальность, синтез присутствие центрирование жанр, границы семантика парадигма метафора селекция корни (глубина) интерпретация (толкование) ПОСТМОДЕРНИЗМ (постструктурализм) открытая разомкнутая антиформа игра случай анархия исчерпывание (молчание) процесс (перформанс) участие деконструкция, антисинтез отсутствие рассеивание текст, интертекст риторика синтагма метонимия комбинация ризома (поверхность) противоинтерпретация (неверное толкование) означаемое — означающее чтение — письмо повествование — антиповествование (большая история) (малая история) основной код — идиолект симптом — желание тип — мутант фаллоцентризм — полиморфность, андрогинизм паранойя — шизофрения истоки, причины — различие, след Бог-Отец — Святой Дух метафизика — ирония определенность — неопределенность трансцендентное — имманентное
Наконец, что касается приложимости западных теорий постмодернизма к русской литературной практике, то здесь вопрос еще более сложный. При всем родстве и ориентации на западную традицию русский литературный постмодернизм развивается особым и весьма специфическим образом9, о чем еще пойдет речь ниже.
И. Скоропанова: «... думается, мы вправе говорить о западной (американской и западноевропейской) и восточной (восточноевропейской 9 Ср. С. Бирюков: «... в русской поэзии (и в русской литературе в целом. — О. Б.) по сути дела вообще не было резкого, типичного для западной традиции выделения направлений (барокко — не вполне барокко, классицизм — не вполне классицизм, футуризм — не вполне футуризм ... )» (Бирюков, 1994: 10). И можно продолжить: русский постмодернизм не вполне то, что на западе называется постмодернизмом.
и русской) модификациях постмодернизма (выделено автором. — О. Б.), а также о диффузных зонах, в которых происходит скрещивание признаков той и другой модели» (Скоропанова, 2000: 70).
В западной модели постмодернизма И. Скоропанова выделяет более тесную привязанность к постструктуралистско-постмодернистской теории, ориентацию в языке на масс-культуру и относительный оптимизм.
В восточной, так называемой русской, модели исследователь подчеркивает большую политизированность; в качестве языка деконструкции называется язык соцреализма; специфически окрашивающим компонентом русского постмодернизма И. Скоропанова считает юродствование (Скоропанова, 2000: 71); с последним мы не вполне согласны.
Начало эпохи постмодернизма наступает в России позднее, чем на Западе, что в значительной мере связано с причинами внешнего (по отношению к литературе) характера, т. е. с социально-политическими особенностями развития Советского государства: «В России в силу политических и социокультурных причин этот процесс оказался деформированным» (Зы-байлов, Шапинский, 1993: 23). Однако «даже сокрушительный сворот в социальной истории России, который произошел в октябре 1917 года, не выглядит переломным рубежом собственно историко-литературного процесса ... . И в годы гражданской войны, и в последующее десятилетие создавалось огромное количество произведений, авторы которых старались выразить свое ощущение революционного перелома в жизни страны именно на языке модернистских систем...» (Лейдерман, Липовецкий, 2001 1: 13). Но именно установление советской власти и провозглашение Советского государства «в отдельно взятой стране» осенью 1917 года искусственно (насильственно) прервало развитие модернистско-авангардного искусства 20-х годов10, сведя его естественное движение к «исчезающей точ « ... в России именно на границе 1920—30-х годов были написаны произведения, во многом предвосхитившие и подготовившие постмо ке» в начале 30-х11, когда на первый план выходила тенденция «ясности и равновесия», «ориентирующая художественную стратегию на поиск регулирующих механизмов человеческого мира, на определение констант бытия» (Лейдерман, Липовецкий, 2001 1:13).
Кроме того, политика социальной и культурной изоляции (так называемый «железный занавес») отделяла Россию от западной культуры, и, следовательно, знакомство с постмодернистскими теориями, так же как и попытка реализации новых художественных принципов, на практике серьезно запаздывали и не могли состояться в полном объеме.
А. Битов: «Смерть Сталина проделала первую дырочку в занавесе. Оттуда посочилось, а у нас у всех было ощущение, что хлынуло ...» (Битов, 1999: 378—379).
Наступление 1950-х годов в истории советской государственности характеризуется критическими — «судьбоносными» — событиями (смерть Сталина, избрание нового состава секретариата ЦК КПСС во главе с Н. С. Хрущевым, арест и смертный приговор Л. Берии, XX съезд КПСС и дернистскую философию культуры,— это „Египетская марка" (1928) О.Мандельштама, „Труды и дни Свистонова" (1929) К. Вагинова, „Случаи" (1933—39) Д. Хармса. А уже в 1955-м году русским писателем Вл. Набоковым (хотя первоначально и на английском языке) был написан роман, ставший классикой мирового постмодернизма, — „Лолита"» (Лейдерман, Липовецкий, 2001 1: 17).
11 В 1-й половине XX в. в западноевропейской культуре переход от модернизма к постмодернизму тоже не обошелся без «замирания», но тоталитарные режимы в Италии и Германии не были столь долговременными, как в России (см. об этом: Зыбайлов, Шапинский, 1993: 21).
постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий») и началом «хрущевской оттепели», которая принесла с собой в политике и в обществе некоторое «послабление-потепление» (постановление «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР», закон о государственных пенсиях, отмена платы за обучение в школах и вузах, постановление СМ СССР о повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим, установление дипломатических отношений с ФРГ, ликвидация ГУЛага по инициативе Хрущева, статья В. Померанцева «Об искренности в литературе», роман И. Эренбурга «Оттепель», восстановле-ние М. Зощенко в Союзе писателей и т. д.) , а в культуре (в той ее области, которая связана с зарождением постмодернизма) была отмечена возрождением интереса к русскому и западному литературно-художественному авангарду и дала некоторую возможность диффузии зарубежных философ-ско-эстетических новаций в отечественное общественно-культурное сознание.
«Оттепельные» тенденции проявили себя прежде всего в том, что советскому читателю стали доступны (открылись) отдельные образцы американской, западноевропейской, восточной философии, эстетики, живописи, архитектуры, литературы, кино (труды Ф.Ницше и 3. Фрейда, Р. Га-роди «О реализме без берегов», произведения Э. Хемингуэя, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Белля, О. Уайльда и др.).
А. Битов: «Мы смотрели первые французские, итальянские, польские фильмы, мы читали первые американские, немецкие, исландские книги (так, первый современный роман был «Атомная станция» X. Лакснесса в 1954 году). Не важно, если эти книги писались и издавались двадцать, тридцать лет назад,— они воспринимались сейчас. „Три товарища" Ремарка были явлением 1956 года, а не 1937-го. „Потерянное поколение",
1 } разразившееся романами в 1929 году, были мы (словно не было перерыва между мировыми войнами). Как в школе всем преподавалась одна и та же литература, так, и выйдя из нее, мы все продолжали „проходить" одни и те же книги, одновременно читая Ремарка, Фейхтвангера, Хемингуэя ...» (Битов, 1999: 378—379).
В России впервые были опубликованы ранее недоступные (запрещенные) произведения М. Булгакова (например, «Мастер и Маргарита»), И. Бабеля, А. Платонова, О. Мандельштама, Ю. Олеши, В. Набокова, В. Розанова и других русских философов «серебряного века», обнаруживавшие иррациональные способы мышления и осознания действительности, моделирующие иной (подчеркнуто субъективный) образ мироздания, демонстрирующие условные формы изображения жизни и изысканно-артистическую манеру письма.
Кроме того, внутри самого литературного процесса 1950—1960-х годов наметились пути возрождения «нетрадиционных» для соцреализма авангардистских и модернистских тенденций, путей эксперимента и «чис-того искусства» («искусства для искусства») . Примером тому могло служить творчество А. Ахматовой или Б. Пастернака, а также творческие поиски молодых на тот момент прозаиков и поэтов, например И. Бродского, В. Сосноры, Е. Харитонова и др.
Период «оттепели» послужил толчком к вызреванию инакомыслия в единой и цельной системе советской ментальности, что в политических кругах получило определение диссидентства, а в литературных— андеграунда. Именно в середине 1950-х — начале 1960-х годов появилось «Прощание с социальным заказом»: «художник уже не хочет быть эстетическим подручным или пропагандистом той или иной общественной утопии» (Велын, 1992: 122).
множество новых литературных объединений («СМОГ»14, «лианозовская школа»15, группа Л. Черткова и др.), возникли новые и были возобновлены ранее существовавшие литературно-художественные издания (реферативные журналы, «Юность» , «Нева», «Наш современник», «Вопросы лите 14 «СМОГ» возник в 1965 г. по инициативе Л. Губанова, который был автором манифеста («Чу!»). В числе его членов были преимущественно студенты-гуманитарии МГУ: В. Алейников, Ю. Кублановский, Л. Губанов, В. Батшев, А. Прохожий, Саша Соколов, М. Соколов, О. Седакова, А. Ба- силова, А. Агапкин, В. Делоне, М. Ляндо, А. Морозов, В. Пожаренко и др. «Основным пафосом поэзии смогистов была реакция на формальную и смысловую примитивность самозахлебывавшейся риторики „вокальной" („эстрадной". — О. Б.) поэзии» (Величанский, 1990: 240). В конце 1960-х годов поэты-СМОГисты (Л. Губанов, В. Алейников, Ю. Кублановский, А. Па- хомов) и примыкавшие к ним А. Величанский, В. Лён, В. Сергиенко предприняли попытку сорганизоваться в новое сообщество. Попытка не удалась, остались два варианта названий: «изумизм», предложенный Л. Губановым («изюминка», «изумление», удвоенный «изм» и др.), и «кволитизм», предложенный В. Лёном (от англ. quality — «качество») (см. об этом подробнее: Сны о СМОГе, 1996).
15 «Лианозовская группа. Неформальный союз поэтов и художников, существующий в кон. 1950-х— нач. 1960-х.. Назван по железнодорожной станции, где жила семья поэта и живописца Е. Л. Кропивницкого. Входившие в союз поэты (Г. Сапгир, И. Холин, Вс. Некрасов) были непосредственными предшественниками концептуализма. Художники были менее радикальны в языке, но отличались почти постмодернистским „всеприятием" стилей ... » (Русское искусство..., 2001: 283). См. также: Кулаков, 1991.
16 «„Юность"— литературный журнал, созданный в 1955 г. (1-й редактор — В. Катаев), дитя оттепели, так до конца и неотогревшееся. В ратуры», «Русская литература», «Филологические науки» и др.), сформировались и включились в литературный процесс «самиздат» и «тамиздат». «Именно в духовной культуре начали складываться модели постмодернистской ментальносте ... . Искусство стало не только выразителем начального процесса постмодернистских трансформаций ... но и специфическим их стимулятором» (Зыбайлов, Шапинский, 1993: 4). В целом формировалась новая система (!) философских представлений.
Однако в конце 1950-х и даже в начале 1960-х годов постмодернистский пересмотр фундамента предшествующей (классической, модернистской, соцреалистической) культурной традиции не был еще вполне последовательным и основательным, он носил скорее локальный и фрагментарный характер. Период «оттепели» не был продолжительным, новая русская литература вскоре вновь была вынуждена вернуться «в подполье», поэтому было бы преждевременным отмечать в русской литературе 1950-х годов формирование прочных основ постмодернистского мышления или устойчивых постмодернистских парадигм художественного творчества. Но вопреки внелитературным (идеологическим и социально-политическим) обстоятельствам именно в период «хрущевской оттепели» были заложены основы новой философии, а в период «брежневского застоя», когда новая литература пребывала в условиях «андеграунда», сформировались и закрепились те художественно-эстетические открытия, которые свидетельствовали не только о начале качественно нового этапа в развитии литературы, но и о жизнеспособности новых, уже отчетливо проявившихся тенденций. А. Битов, А. Терц, Вен. Ерофеев и многие другие художники, которые впоследствии будут названы постмодернистами, начинали именно в эти «под журнале зародилась так называемая молодежная и исповедальная проза, подкупавшая искренней несложностью и пользовавшаяся необыкновенной популярностью ... » (Битов, 1999: 363).
польно-застойные» годы и именно в новом «андеграундно-диссидентском» русле. Именно они (как и другие писатели этого ряда) стали инициаторами и участниками нашумевшего «предпостмодернистского» альманаха «Метрополь» (1979).
Реальный же выход за пределы андеграунда и обретение «официального» статуса «новой», или «другой», литературы, т. е. легализация и легитимизация различных художественно-эстетических форм постмодернистской философии, в заполитизированном СССР были по-прежнему связаны преимущественное обстоятельствами внелитературного плана— с наступлением «горбачевской перестройки»17, когда закончилась эпоха __ 1 й
Единого и Цельного (самого государства, его партийной системы, мировоззренческих представлений и т. д.), когда стратегия уподобления и уравнивания была потеснена признанием исконности множественности и различности, когда генерализующей тенденцией времени стала тенденция де-монизации19 (децентрализации, деполитизации, демонополизма и т. д.). Изменения социально-политического характера позволили постмодернизму обнаружить себя как литературному течению, по-своему единому и цельному, объективно новому и эстетически значимому.
И. Скоропанова выделяет три периода в развитии постмодернизма в русской литературе: «кон. 60-х— 70-е годы— период становления; кон.
70-х — 80-е годы — утверждение в качестве литературного направления, в основе эстетики которого лежит постструктуралистский тезис «мир (сознание) как текст» и основу художественной практики которого составляет деконструкция культурного интертекста; кон. 80-х — 90-е годы — период легализации» (Скоропанова, 2000: 71). Однако, как видно, в данной классификации нарушен принцип единства критерия: первые два периода выделены с учетом степени сформированности постмодернистских тенденций («становление», «утверждение»), последний — по принципу легализации, выхода из андеграунда, т. е. на другом основании. Не оспаривая в целом ход рассуждений И. Скоропановой, можно до известной степени уточнить ее классификацию: если опираться на принцип «легальности/нелегальности» постмодернистской литературы, то можно говорить о двух ее ступенях: периоде андеграунда и периоде легализации; если же опираться на характер эволюционирования литературы постмодерна, то, вероятно, можно говорить о конце 1950-х — середине 1960-х годов как о начале формирования постмодернистских тенденций в современной культуре, о конце 1960-х— середине 1980-х годов как о периоде их становления и утверждения, о 1980—1990-х годах (и далее вплоть до 1-го десятилетия XXI в.) как о времени расцвета постмодернистских тенденций во всех областях культуры (ив целом в жизни общества — так называемый «бытовой», «обыденный» постмодернизм). Хотя, кажется, с не меньшими основаниями можно выделять только два периода в развитии постмодерна: конец 1950-х— середина 1980-х годов как период формирования и становления постмодернистских тенденций (совпадающий с периодом андеграунда) и середина 1980-х— 2000-е годы как период их утверждения и расцвета (совпадающий с временем легализации).
В научных исследованиях нередко обнаруживают себя заблуждения, связанные, во-первых, с абсолютизацией «внешних» по отношению к литературе условий возникновения постмодернистских тенденций (социально-политические условия, «хрущевская оттепель», «горбачевская перестройка», поднятие «железного занавеса», веяния запада и т. п.), а во-вторых, с утверждением о том, что вызревание постмодернистских тенденций шло исключительно по линии «андеграундно-диссидентскои» литературы с ее «противо- и анти-пафосом» . Однако следует принимать во внимание и то обстоятельство, что на формирование постмодернистского мировоззрения влияли и собственно литературные факты, а именно тот, что ростки постмодернистских взглядов обнаруживали себя и в недрах так называемой «официальной», «подцензурной» литературы.
В современной русской литературе выплеск постмодерна, или накопившегося за несколько предшествующих десятилетий «андеграунда», произошел в середине 1980-х годов, в период «горбачевской перестройки». Складывалось ощущение, что литература «русского постмодерна» возникла как реакция на общественную ситуацию в стране, на изменение политического строя, на ре- или де-конструкцию государственного устройства и что новая действительность породила потребность новых поэтических средств, продиктовала новые законы отражения реальности, так как новизна литературы середины 1980-х—1990-х годов в основном сводилась именно к изменению поэтики, к трансформации художественной формы, редко— к новым ракурсам какой-либо темы. Однако вызревание новых приемов и манеры письма, равно как и смещение «идеологических» акцентов, возникло не вдруг, а происходило постепенно и питалось открытиями литературы предшествующего подпериода. Находясь в зависимости от государственно-политической системы и идеологии, литература «до-постмодернистского» периода тем не менее не всецело определялась директивами партии и правительства в области литературы и искусства, она в себе самой обнаруживала тенденции, которые далеко отстояли от канонов и установлений советской литературы социалистического реализма. Изменения социально-политических условий в обществе несомненно способст вовали выработке новых перспектив в литературе, но в свою очередь и сами обнаруживали зависимость от новаций искусства.
Если обратиться к «официальной» («подцензурной») литературе конца 1950-х — середины 1980-х годов, которую с точки зрения сегодняшнего момента и по отношению к литературе постмодерна можно назвать «классической» или «традиционной», то в ней на означенный период можно выделить следующие тематические направления: военная проза, лагерная проза, деревенская проза, историческая проза, городская проза и проза сорокалетних. Вероятно, эти тематические направления не исчерпывают все-го многообразия литературы 1950—1980-х годов, однако именно на них, при всей мере условности их выделения, можно проследить возникновение и развитие основных и ведущих тенденций литературного процесса тех лет и тем самым обнаружить процесс зарождения (подготовки) постмодерни-стических черт в недрах «классики».
Появление новых тенденций в развитии русской литературы конца 1950 — 1980-х годов, т. е. начало отсчета первого из выделенных подпе-риодов, можно связать с публикацией рассказа М. Шолохова «Судьба человека» (1957), так как именно в нем впервые в послевоенной литературе героем повествования становится не Герой, не личность социально активная, деятельная, «передовая» в терминологии тех лет, а герой «незаметный», «простой», «рядовой». Образ Андрея Соколова, намеренно созданный автором как образ человека «обыкновенного», ничем особенным не приметного, знаменует собой поворот (или возврат) литературы соцреализма к традициям русской литературы XIX в.: от изображения черт, приобретенных под воздействием социальных изменений и установлений, литература переходит (возвращается) к изображению черт народно-национальных, традиционных. М. Шолохов «не награждает своего героя ни исключительной биографией, ни качествами выдающейся личности», он стремится придать судьбе героя черты «всеобщности», «всемерно подчер кивая обычность пути» Андрея Соколова, выделяя народные составляющие характера героя (Хватов, 1970: 338—339). Перенос акцента с вопроса о взаимоотношении личности и государства (социальный аспект) на внутренний мир и личностные качества отдельного героя (нравственный аспект), причем героя «негероического», не-борца и не-активиста, героя «как все», имел принципиальное значение для развития всей русской литературы последующих десятилетий.
Появление «нового», а точнее традиционного для русской литературы, героя дало толчок развитию всех тематических направлений в прозе тех лет. В 1957 г. появилась повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», о которой впоследствии, перефразируя известные слова, В. Быков сказал: «Все мы вышли из бондаревских „Батальонов..."». Действительно, именно с «Батальонов...» началась «новая волна» военной прозы, получившая название «окопной прозы», или «прозы лейтенантов». Грандиозная панорама военных событий, данная в 1940—1950-х годах в романах А. Ча-ковского и К. Симонова, была потеснена изображением «пяди земли», узкого окопа, клочка земли вокруг одного орудия, многогеройная композиция уступила место изображению одного-двух героев, объективированная манера повествования была сменена исповедью-монологом, романные жанры заслонены небольшими повестями и рассказами (проза В. Астафьева, Г. Бакланова, В. Богомолова, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева, Е. Носова и др.). Изменение угла зрения героя, смена ракурса воспринимающего сознания породили новое видение событий военного времени, расширили границы военной темы, обнаружили причинно-следственную связь обстоятельств войны с социально-политическими процессами 1920— 1930-х годов. Наряду с традиционными аспектами военной темы на первый план были выдвинуты проблемы предательства, измены, дезертирства, плена, власовщины, и их корни были обнаружены не в упрощенно-примитивной формуле «кулацко-мелкобуржуазного» происхождения отдельного героя, а особенностях общественно-политического устройства советского государства, которое в свою очередь обнаружило свое генетическое родство с тоталитарной системой фашизма. В литературе о войне обнаружила себя тенденция дегероизации. Таким образом, уже в военной прозе, очевидно дистанцированной от литературы постмодерна, нашли свое отражение те моменты, которые можно рассматривать как начало формирования внутрилитературных условий, способствовавших появлению постмодерна в современной русской литературе: проза данного направления обнажала теневые стороны военной темы, в условиях жесткой цензуры преодолевала границы дозволенного, обнаруживая сопротивление стереотипу и системе в целом. Отчасти на этом направлении и на этом основании в конце 1960-х годов был написан «военно-иронический» роман В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1975 — публ. во Франции, 1988/1989 — публ. в России).
Почти одновременно и параллельно с военной прозой шло развитие лагерной литературы, отсчет которой принято вести с рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1959 — время создания, 1962 — публ.). В силу специфики лагерной темы проза данного направления (А. Солженицын, В. Шаламов, Г. Владимов, Е. Гинзбург, Л. Жигулин, Л. Бородин и др.) изначально была пронизана духом антисистемности, противо-режимности. В самом ее основании отчетливо просматривалась параллель «тоталитарное советское государство // лагерь строго режима», сумма составляющих которой возрастала от произведения к произведению. Не случайно, что на материале данной темы появились одно из первых произведений литературы постмодерна — «Зона» С. Довлатова (середина—конец 1960-х — время создания «записок надзирателя», начало 1980-х — окончательное оформление текста, 1982 — 1-я публ.в Анн Арборе) и одно из самых ярких произведений конца 1980-х годов — «Ночной дозор» М. Кураєва (1988).
В 1960—1980-е годы среди перечисленных направлений объективно лидировала деревенская проза. Именно в ней мощно и художественно весомо отразились глубинные процессы «разлада» народной жизни, именно в ней были сделаны попытки разглядеть в событиях революции и гражданской войны, коллективизации и колхозного движения в целом истоки трагических конфликтов современности, именно писатели-деревенщики заговорили о взаимозависимости социальных «великих переломов» и нравственной деградации современного человека. В прозе Ф. Абрамова, В. Астафьева, Л. Бородина, В. Белова, С. Залыгина, Б. Можаева, Е. Носова, В. Распутина, В. Шукшина осмысление этих проблем осуществлялось через образ героя «простого», «незаметного», «ординарного», героя «из самой гущи народной». И уже только это следует считать значительным вкладом деревенской прозы в развитие современного литературного процесса.
В рамках деревенской прозы, во многом ориентированной на прошлое, на идеалы традиционной крестьянской жизни, такого рода герои (особенно герои старшего поколения, старики и старухи) обретали черты праведников, героев цельных и идеальных: «нам свойственно идеализировать прошлое» (Н. Бердяев). Но чем меньше герой деревенской прозы был связан с прошлым, чем более он был причастен к настоящему, тем яснее в его характере обнаруживался «слом», «крен», «сдвиг», «беспокойство» и душевная неустроенность. Наряду с героями цельными и идеальными в деревенской прозе появился тип современного героя — героя «промежуточного», маргинального, стоящего «одной ногой на берегу, другой— в лодке» (В. Шукшин). «Беспорядок» в душе такого героя прогнозировал кризис личностного начала, девальвации духовных ценностей, его двули-кость и раздвоенность, процесс деперсонализации, нашедший свое отражение в «иронически-авангардистской» (Н. Иванова) прозе В. Пьецуха.
Если деревенская проза опиралась на национально-почвенническую традицию, на основы народно-крестьянского уклада жизни, то городская проза— преимущественно на культурную, интеллектуальную традицию. В критике городскую прозу нередко противопоставляли деревенской, но по сути оба направления возникли и развивались не только не в противовес, но параллельно друг другу, имея точки соприкосновения. Как и в деревенской прозе, в городской остро стоял вопрос о самоценности личности, о (не)развитости личностного начала, о девальвированной «самости» современного человека. В творчестве городских прозаиков герой также подчеркнуто не-активный и не-цельный. «Я» героев городской прозы многолико и многоголосо, не адекватно и не идентично само себе. В героях Ю. Трифонова происходит непрекращающийся «обмен», рефлексия, звучит мотив «чужой», «другой жизни». Герои А. Битова (еще не названные героями-симулякрами) — это герои «без истинного лица», с мозаично-цитатным сознанием, они «производят впечатление», «мерещатся», живут «не-своей», «краденой» жизнью, в «ненастоящем времени», проводят дни «в поисках утраченного назначения»21. Постмодернистская формула «мир как текст» едва ли не впервые отчетливо звучит у Битова: герой «Пушкин «...западные критики увидели в романе Битова поразительную близость к эстетическим параметрам постмодернизма: „Первое впечатление, которое получает информированный западный читатель от „Пушкинского дома", состоит в том, что автор, кажется, использовал опрокидывающие литературные приемы каждого постмодернистского писателя, которого он читал, так же как и некоторых, которых он не читал. Сюда входят эссеизм Музиля... надтекстовый аппарат Борхеса... набоковское обнажение искусственности повествования... свойственная Эко озабоченность интертекстуальными связями... повторения и множественность повествовательных версий, характерные для Роб-Грийе", — пишет Рольф Хеллебаст в статье о романе Битова, опубликованной в международном журнале „Стиль"» (Ли-повецкий, 1997:122).
ского дома» — филолог, изучающий тексты русской литературы, сам «становится частью текста» (Курицын, 2001: 155)22. Элементами интертекстуальности, игрового и абсурдистского начала, максимальной слитности автора и персонажа (аннигиляции образа автора — то, что в постмодернистской поэтике будет носить определение «смерти автора») пронизаны и насыщены и содержательный, и формальный планы литературного произведения. Битова интересует не сам предмет, а способы его отражения в ху-дожественной реальности . На уровне артистизма стиля проза Битова изысканно-изощренна: «фраза его что-то значит сама по себе ... превосходит самое себя; не является простой информацией, а заключает более глубокий смысл» (Бурсов, 1980: 3). То есть и в городской прозе можно наблюдать зачатки или родство литературе постмодерна. (В качестве косвенного доказательства «родства» можно привести тот факт, что в 1979 г. Битов с рассказом «Прощальные деньки» стал участником альманаха «Метрополь», который, по словам Виктора Ерофеева, явился «"визитной карточкой" литературы постмодерна»).
Наконец, проза «сорокалетних» (В. Маканин, Р. Киреев, А. Ким, А. Курчаткин и др.), ближе других направлений стоит к литературе постмодерна. Литературой «общей серединности», литературой «взаимоус-редненной массы», «поколением коммуналки», «прозой промежутка», «барачным реализмом» (Л. Аннинский) называли «сорокалетних», и уже только эти определения указывают на существование связи с литературой «Лева знает, по какой модели он должен встретиться с дедом или общаться с отцом, ибо эти модели описаны в литературе ... » (Курицын, 2001: 152). М. Липовецкий говорит о «фиктивном бытии» Левы Одоевцева (Липовецкий, 1998: 292)
23 Ср. В. Курицын о постмодернистской поэтике: «важна не правда, а замысловатость ментальных операций» (Курицын, 2001: 194)
постмодерна. Но важнее другое: именно проза «сорокалетних» привнесла в литературный процесс I960-—1980-х годов представление о возможности «безопорности», о герое «никаком» (или «каком есть», или «ни то, ни се»), герое амбивалентном, изменяющемся (и изменяющем), герое-конформисте, «нормально-аномальном», безындивидуальном («роевом»)24. В прозе «сорокалетних», более чем в каком-либо другом направлении, автор обнаружил (как это будет в постмодерне) свое «равнодушие» к герою, выступил в роли хроникера, бесстрастного и безучастного, принимающего все «как есть», не могущего вмешаться (даже на уровне оценки) в происходящие события (так называемая «смерть автора», упомянутая выше; далее мы рассмотрим ее в связи с творчеством А. Битова). Изображаемые события остались без маркированности «хорошо/плохо» («кризис иерархической системы миропонимания в целом»: Липовецкий, 1997: 117): все происходящее «объективно» (т. е. «бесконтрольно» и «неизбежно-неотвратимо»), «нормально» (т. е. «привычно-обыденно») и «как есть» («А жизнь идет...» и «надо проще...»: «Повесть о Старом Поселке...», Маканин, 1974:11, 104). Игровое, абсурдистское начало представлено в прозе «сорокалетних» ничуть не меньше, чем в прозе городской (достаточно вспомнить рассказы А. Курчаткина). Уровень стилевой изысканности и живописности прозы «Человеке свиты» (название рассказа В. Маканина, 1974) или герое, у которого все «в меру»: «Живу, как все, типичен в меру и в меру счастлив...»: «Повесть о Старом Поселке (Провинциал)» (1966), Маканин, 1974: 42). «Эта типичность и похожесть на других любопытна сама по себе ... . Похожесть не только обедняет. Она ведь в общем-то и оберегает человека. Страхует его. Так сказать, в генетическом смысле. Как ни верти, в этой неуловимости, неотличимости от других несомненно есть что-то защитное...» («Повесть о Старом Поселке...», Маканин, 1974: 14).
«сорокалетних» (последнее особенно характерно для А. Кима25) необыкновенно высок.
Таким образом, условия и предпосылки для возникновения «другой», неканонической, нетрадиционной литературы постмодерна 1990-х годов сложились уже в недрах литературного процесса 1960—1980-х годов26. Образ героя-«негероя» или героя-«антигероя» обозначился уже в творчестве писателей-семидесятников. Роль и участие автора в судьбах и ситуациях были ограничены. Тематические рамки литературы были раздвинуты настолько, что «запретных» тем к середине 1980-х годов фактически не оста 25 Среди замечательных особенностей прозы А. Кима можно отметить и «около-постмодернистскую» растворенность голосов персонажей. См., например, повесть «Лотос»: «Нам грустно было смотреть на столь великую скорбь человека, и я коснулась плачущего лица моего сына незримым крылом, и мне стало вдруг тепло, спокойно, я внезапно уснул, припав головой к подушке матери ... » (Ким, 1981: 376). Уже только формы личных местоимений («нам», «я», «я») и родовые формы глаголов («коснулась» и «уснул») свидетельствуют о наличии трех повествователей внутри единого «монолога».
26 Ср.: « ... мы можем констатировать только одно: в русской культуре 60—80-х годов действительно возникают предпосылки постмодернистской ситуации» и «кризис всей этой словесности не может быть объяснен только кризисом советской идеологии ... » (Липовецкий, 1997: 120, 117). По М. Липовецкому, культурологические факторы, которые привели к возникновению и формированию литературы (культуры) русского постмодерна, — это «делегитимация идеологического и, шире, утопического дискурса», «кризис иерархической системы миропонимания», «осознание симулятивности „общественного бытия" в целом» (Липовецкий, 1997: 210—211).
лось. При всех минусах своей подцензурной соцреалистической судьбы русская литература 1960—1980-х годов сложилась как литература мысле-емкая и эстетически полнозначная, на определенном этапе выполнившая свою «учительную» и «пророческую» роль. Однако период ее «пассионар-ности» в силу объективных обстоятельств к середине 1980-х годов закон-чился . В ситуации «безвременья» угасание литературы, как и в начале XX в., преодолевалось на пути формалистических поисков, оттачивания техники и приема, стиля и слова, в отказе от служебной функции искусства28.
В середине 1980-х годов в условиях изменившейся общественно-политической и литературной ситуации в современной литературе действительно обнаружились формалистические тенденции и на этом фоне произошло «от Так, например, кризис «деревенской прозы» наиболее отчетливо проявился в «кризисе традиционалистского отношения к прошлому как образцу» и «деградации, не только идеологической (в сторону националистического фундаментализма), но и эстетической (в сторону прямолинейной публицистики и соцреалистического канона) ее ведущих авторов» (Липовецкий, 1997: 116). См. также: Чалмаев, 1985; Левина, 1991; Ермолин, 1992; Лейдерман, 1988.
Причем формирование и развитие русского постмодерна шло не «по указке Запада», не с ориентацией на уже сложившуюся западную теорию, а автономно — «в ситуации полной изоляции от постмодернистской теории», контурируясь изнутри художественно-эстетической реальности русской литературы. М. Липовецкий назвал это качество зарождавшегося русского постмодерна «автохронностью»: «„Автохронность" русского постмодернизма делает его эксперименты наиболее чистыми: здесь не проверка эстетической теории художественной практикой, но радикальная попытка изнутри традиционных форм художественности расширить их границы...» (Липовецкий, 1997: 197).
крытие» «новой» литературы, первоначально получившей в критике названия «другая проза» (С. Чупринин), «андеграунд» (В. Потапов), «проза новой волны» (Н. Иванова), «младшие семидесятники» (М. Липовецкий), «литература эпохи гласности» (П. Вайль, А. Генис), «актуальная литература» (М. Берг), «сундучная литература» (Ч. Гусейнов), «литература эпилога» и «артистическая проза» (М. Липовецкий), «расхожий модернизм» и «типичный сюр» (Д. Урнов), «бесприютная литература» (Е. Шкловский), «Кракелюры» (С. Касьянов), «плохая проза» (Д. Урнов) и, наконец, много позже утвердившейся в определении литературы постмодернизма (или постмодерна).
Что касается термина «postmodern, postmodernismus» (нем.), «post-modernisme» (фр.), «postmodernism» (англ.), то уже говорилось о сложности его интерпретации на Западе. Не меньше (а скорее и больше) сложностей в его «переводе» на русский язык, в его «адаптации» к русской традиции. Однозначной терминологической фиксации и в России данное понятие не получило.
В настоящее время для обозначения новых тенденций в современной русской культуре и в литературе широко используются два термина — «постмодерн» и «постмодернизм». М. Липовецкий, например, достаточно последовательно использует термин «постмодернизм» (Липовецкий, 1997). М. Эпштейн дифференцирует понятия «постмодерность» и «постмодернизм»: «постмодернизм как первая стадия постмодерности» (Эпштейн, 2000). Л. Зыбайлов и В. Шапинский полагают, что «термин „постмодерн" указывает на состояние эпохи (выделено авторами. — О. Б.) после Нового времени (модерна, современности), „постмодернизм" означает ситуацию в культуре и тенденции ее развития в послесовременную эпоху» (Зыбайлов, Шапинский, 1993: З)29. В известной степени им вторит И. Скоропанова:
«На основе понятия „постмодерн" возникло производное от него понятие „постмодернизм" (с этим мы не вполне согласны. — О. Б.), которое, как правило, используют применительно к сфере философии, литературы и искусства, для характеристики определенных тенденций в культуре в целом ... . До настоящего времени термин „постмодернизм" устоялся не окончательно и применяется в области эстетики и в литературной критике наряду с дублирующими терминами „постструктурализм", „поставангардизм", „трансавангардизм" (в основном в живописи), „искусство деконструкции", а также совершенно произвольно» (Скоропанова, 2000: 9). В. Курицын же не только в теории, но и в своей критической практике использует термины «постмодернизм» и «постмодерн» как «абсолютные и простые синонимы»: слово «постмодернизм» «по видимости и слышимости — передает не совсем то значение, что обычно вкладывается в иноязычные аналоги ... термин „постмодернизм" достаточно неудачен ... . Что касается варианта „постмодерн", он еще более некорректен ... . Однако .. . в соответствии с успевшей сложиться у нас традицией — мы употребляем слово „постмодерн" как абсолютный и простой синоним слова „постмодернизм", помня при этом, что под обоими словами имеется в виду не то, что они означают „сами по себе"» (Курицын, 2001: 8—9). С той же свободой относится к этим двум терминам и философ-теоретик И. Ильин . Несмотря на размытость и неопределенность самого понятия и термина, обозначающего новые тенденции в жизни и в культуре, исследователи пытаются вывести «формулу» постмодернизма. Так, А. Генис, в опоре на труды В. Велына, предлагает следующее определение:
постмодернизм = авангард + массовая культура, которое, будучи адаптировано к отечественным условиям, трансформируется в иные слагаемые:
русский постмодернизм = авангард + литература соцреализма.
Между тем эта формула, как и всякое упрощение, не вполне верна и не универсальна, так как, например, по В. Курицыну, «высшее художественное воплощение „авангардной парадигмы" — советская культура» (Курицын, 2001: 70)31. Или, например, по Б. Гройсу, соцреализм есть промежуточная ступень в отношениях модернизма и постмодернизма (Гройс, 1995). А по М. Эпштейну, модернизм и постмодернизм— это не два различных литературно-эстетических феномена, но единая культурная парадигма (Эпштейн, 1995: 16).
Что же касается постмодернизма с его стремлением к множественности и полиструктурности, то он всегда включает в себя больше, чем две составляющие, т. е.:
(русский) постмодернизм = авангард (модернизм) + литература соцреализма + классическая литература + фольклор + мифология + х .
Однако дело не в «формуле» и даже не в самом термине, а в том круге понятий, которые эксплицирует (и имплицирует) постмодернизм. Это .многообразие, разнообразие, своеобразие, это интерференция, диффузия, гете Или: « .. . социалистический реализм (особенно начиная с конца сороковых до конца пятидесятых) был лебединой песней «авангардной парадигмы» (Курицын, 2001: 78). Хотя тот же исследователь соглашается с А. Генисом, утверждая, что «соцреализм был культурой массовой» (Курицын, 2001: 79).
рогенность, гибридность, паралогичность, дихотомия и синкретизм, это обратная перспектива, деиерархизация, отказ от причинно-следственной линейности и стирание границ центра и периферии. Но, по В. Велыпу, «подход постмодернизма по своей сути не равнозначен призыву к эклектическому цитированию и использованию легко заменяемых декораций. Напротив, требуется, чтобы отдельные архитектурные единицы — слова не звучали подобно словесным отрывкам, но наглядно представляли логику и специфические возможности того или иного используемого языка. Только тогда выполняется постмодернистский критерий многоязычия, в противном же случае мы получим неорганизованный хаос» (Велын, 1992: 121)32. В. Курицын: «постмодернизм — состояние стабилизированного (выделено мною. — О. Б.) хаоса» (Курицын, 2001: 41).
Применительно к современной русской литературе не только термин, понятие, но и само явление постмодерна не отличается некой концептуальной точностью и целостностью и не может быть охарактеризовано единым набором атрибутивных признаков. Постмодерн внутренне неоднороден, писателей постмодерна отличает индивидуалистичность («лица необщее выражение»), к литературе постмодерна отнесены авторы, далеко от Или: «Многим кажется, что главное в постмодерне — отход от стандарта жесткой рациональности, что нужно только как следует вымешать коктейль и сдобрить его солидной дозой экзотики .. . . Но эта мешанина из всякой всячины порождает только безразличие, а этот псевдопостмодерн не имеет с постмодерном ничего общего ... . Подлинный постмодерн абсолютно не похож на этот суррогат. И эта несхожесть достигается в постмодерне разрушением целого, но не с выдачей лицензии на хаотизацию, а в предоставлении широкого выбора дифференций» (Курицын, 2001: 130).
стоящие друг от друга по своим художественно-этическим и художественно-эстетическим принципам и пристрастиям (прозаики Ю. Алешковский, М. Берг, Л. Ванеева, А. Верников, Г. Головин, Вен. Ерофеев, В. Ерофеев, С. Довлатов, А. Иванченко, С. Каледин, М. Кураев, Э. Лимонов, А. Матвеев, В. Москаленко, В. Нарбикова, Л. Петрушевская, И. Полянская, Вал. Попов, Е. Попов, В. Пьецух, С. Соколов, В. Сорокин, Т. Толстая, Е. Харитонов, М. Харитонов, И. Яркевич и др., поэты М. Айзенберг, С. Гандлевский, А. Еременко, И. Иртеньев, Т. Кибиров, Вс. Некрасов, Д. Пригов, Л. Рубинштейн и др., драматурги В. Арро, С. Богаев, А. Казанцев, Н. Коляда, Л. Петрушевская, В. Сигарев и др.)33. Между тем неизбежны попытки квалифицировать явление и выделить некоторые определяющие для всех писателей данного направления конститутивные черты.
Первое, что обращает на себя внимание при предварительном и поверхностном знакомстве с литературой вышеперечисленных авторов, — это «пощечина общественному вкусу»: «вызов и выпад» (С. Чупринин), «на-перекорность» и «оппозиционность» (В. Потапов), «нарушение правил поведения» (Н. Иванова). И хотя данные определения вряд ли можно отнести к категориям литературоведческого анализа, но в отношении к описываемому явлению именно они являются той исходной общей характерной чертой, которая сближает различных авторов и позволяет говорить о некоем относительно едином направлении. Именно эта «категория» опосредует все прочие принципы, особенности и составляющие литературы постмодерна.
Опорные в художественном произведении образы героя и автора выглядят в литературе постмодерна действительно вызывающе. По наблюдениям критики, мир этой прозы «населен почти исключительно людьми Внутри постмодернизма выделяются две полярные тенденции: «крайне левое» направление — концептуализм и «крайне правое» — ме-тафоризм (к последнему приближен и «Орден куртуазных маньеристов»).
жалкими, незадачливыми, ущербными бесспорно» (С. Чупринин). Герои — «люди толпы», «люди из захолустья», обитатели задворок и помоек, представители низовых, деклассированных слоев общества. Социальная детерминированность принципиального значения не имеет, главное, что все они периферийны относительно центра. Их личности деформированы, черты аморфны, характеры аномальны. Их «одичалые» души, «тусклые» и «выпотрошенные», страдают «хронической нравственной недостаточностью» (Е. Шкловский). Стертость личностного начала — «тиски безликости» (Е. Шкловский) — составляет определяющую черту «маленького человека» современной литературы.
Существенно изменена позиция автора. Автор скрыт и замаскирован в герое-рассказчике, дистанцированность автора и героя снята, их голоса слиты. Это позволяет обеспечить «нулевой градус письма» (П. Вайль, А. Генис)34, т. е. отсутствие нравственно маркированной оценочности и переход от традиционной роли «учителя» и «наставника» к роли «равнодушного летописца» и не вмешивающегося в ход событий хроникера (как следствие — признак «неслужебности» творчества).
Образ реальности, создаваемый художниками постмодерна, лишен «земного тяготения и элементарного порядка вещей» (Е. Шкловский). Закономерное уступает место случайному. Реальность постмодернистов алогична и хаотична. В ней уравнено высокое и низкое, истинное и ложное, совершенное и безобразное. Реальность фантасмагорична. Она не имеет устойчивых очертаний, лишена точки опоры. Реальность трагична и катастрофична. Абсурд всепроникающ.
Способы и средства, служащие отражению этой реальности в искусстве, также «наперекорны» и нетрадиционны: достаточно обратиться к языку литературы постмодерна, который, с одной стороны, преимущест Термин, идущий от «Нулевой степени письма» Р. Барта.
венно (хотя и не всецело) сводим к языку улицы, к бранной и нецензурной лексике, окрашен всеми оттенками «чернушно-порнушной» сферы, насквозь ироничен35, с другой — вычурно красив, непостижимо витиеват, изысканно артистичен.
Принципиально важно то обстоятельство, что аномальный герой, обезличенный автор, фантасмагорически-абсурдная реальность для постмодернистской литературы являются не отклонением от нормы, а собственно нормой, той точкой отсчета, которая составляет центр постмодернистского мироздания.
По существу, на этом — образе героя, образе автора, образе реальности — исчерпывается (в самом общем смысле) сходство или родство представителей литературы постмодерна, так как пути и способы воплощения художниками-постмодернистами вычлененной «образной» системы уникально-разнообразны и неповторимо-субъективны. Диапазон художественно-поэтических средств и приемов, используемых в литературе постмодерна, огромен, их комбинаторность едва ли не беспредельна.
В современной критике предлагаются различные варианты дифферен-ции русского постмодерна 6, среди них отчетливо выделяются классификации Н. Ивановой и М. Липовецкого.
Н. Иванова в современном литературном постмодернистском движении выделила «три течения»: «историческое (генетически ... связанное с прозой Ю. Домбровского, В. Гроссмана, Ю. Трифонова), „натуральное"
35 Очевидно, здесь можно довериться В. Шкловскому, который отмечал, что «новые формы в искусстве создаются путем канонизации форм низкого искусства» (Шкловский, 1990а: 235).
36 Уже упоминалось, например, о попытке систематизации литературы постмодерна И. Скоропановой через хронологический принцип.
(близкое к социальной „новомировской" прозе 60-х и к жанру физиологического очерка) и направление иронического авангарда». По мнению критика, «первое представлено ярким именем Михаила Кураєва»; второе, «более обширное», — именами Геннадия Головина, Сергея Каледина, Виталия Москаленко; к третьему «со всей мерой условности» она относит Вячеслава Пьецуха, Татьяну Толстую, Евгения Попова, Виктора Ерофеева, Валерию Нарбикову (Иванова, 1989: 239—240).
По мнению М. Липовецкого, в современном литературном процессе могут быть выделены также три «ветви»: «аналитическая (Т. Толстая, А. Иванченко, И. Полянская, В. Исхаков)»; «романтическая (В. Вязьмин, Н. Исаев, А. Матвеев)» и «абсурдистская (В. Пьецух, Е. Попов, Вик. Ерофеев, А. Верников, 3. Гареев)» (Липовецкий, 1989а: 41—42.), которые, как видно, не совпадают с выделенными Н. Ивановой.
Обе классификации были предложены в 1989 г., и ни один из критиков в последующих работах не вернулся к ним, не отредактировал, не прокомментировал и не развил их. По-видимому, постмодернистский «хаос» не давал оснований к его упорядочению, а по мере развития постмодернистских тенденций еще и усиливал «хаотическую» составляющую литературы, так как на пути самоопределения отдельные художники все больше проявляли свою яркую индивидуальность, не поддающуюся систематизации. «Мера условности», на которой настаивала Н. Иванова, свидетельствовала о размытости границ различных «течений» или «ветвей», потому одни и те же авторы оказались разнесенными (причисленными) различными критиками к различным группам, едва ли не противонаправленным по своим формо-содержательным признакам. Единого критерия для вычленения «ветвей-течений» установить не удалось, и, как показало время, в этом не было необходимости.
«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодерна
Поэма Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки», по словам автора, написанная «нахрапом» с 19 января по 6 марта 1970 г. , впервые была
По словам Г. Ерофеевой, вдовы писателя, «„Петушки" случайно выскочили благодаря Муравьеву», другу Вен. Ерофеева (Ерофеева, 1991: 89). В. Муравьев: «Вероятно, он до „Петушков" что-то писал, но до меня ничего не доходило. До „Петушков" я знал: замечательный друг, умный, преле опубликована в Израиле в 1973 г., затем во Франции в 1977 и в России в 1988—1989 гг.2
Уже в 1970-е годы, когда поэма ходила в самиздате, она поражала редкостной новизной, мерой «неофициальности» и «нетрадиционности»3. Избранный автором образ героя-повествователя (сентиментально-интеллектуального алкоголика), иронический ракурс повествования, приемы тотального пародирования, неожиданный для своего времени интертекстуальный фон, игровая манера письма разрушали привычные нормы воспри стный, но не писатель. А как прочел „Петушки" .. . тут понял — писатель» (Муравьев, 1991: 92).
В сокращенном виде: Трезвость и культура. 1988. № 12; 1989. № 1—3. В полном виде: Ерофеев, 1990. В. Муравьев о «качестве» первых публикаций: «В „Прометее" вышел первый аутентичный текст, в Вестинской публикации (и в Имка-прессовской тоже) на 130 страницах текста нашлось 1862 не опечатки, а смысловых сдвига, перестановки слов и так далее .. . А инверсии? Знаки препинания расставляли просто, как хотели ... » (Муравьев, 1991:91).
Любопытно, что предисловие, сопровождавшее выход поэмы отдельным изданием, написанное В. Муравьевым, вслед за текстом Ерофеева тоже было «неофициально» и «нетрадиционно» как по сути, так и по духу: «Предисловие, автор которого не знает, зачем нужны предисловия, и пишет нижеследующее по инерции отрицания таковых, пространно извиняясь перед мнимым читателем и попутно упоминая о сочинении под названием „Москва—Петушки"» (Муравьев, 1995: 5). Будучи одним из первых написанных в таком ключе, оно несомненно, как и сама поэма, задавало направление постмодернистской традиции. А предпосланное роману «уведомление», по всей видимости, стало предтечей «предуведомлений» Д. Пригова, В. Курицына и других постмодернистов. ятия текста. В романе «ограниченного хождения» (В. Муравьев), написанном «о друзьях и для друзей», т. е., условно говоря, для узкого круга посвященных людей, со множеством биографических и автобиографических деталей , житейско-бытовое превращалось в художественно-эстетическое, общественно-значимое уступало место незначительно-частному, сферой раскрытия и реализации личности (характера) становились не общество или государственная система, а приятельская, по сюжету — случайная компания попутчиков, условием оценки окружающей действительности — не здравый смысл и рассудок, а сомнение и отчаяние. Контекст русской и мировой литературы (шире — культуры), из которого во многом была соткана канва повествования, порождал систему «отсылок»: формировал смысловую многозначность, многоплановость, многоуровневость текста — его полисемичность. А. Грицанов: «Произведение Ерофеева „Москва—Петушки" являет собой прецедент культурного механизма создания типичного для постмодерна ризоморфного гипертекста: созданный для имманентного восприятия внутри узкого круга „посвященных", он становится (в силу глубинной укорененности используемой символики в культурной традиции и узнаваемости в широких интеллектуальных кругах личностного ряда ассоциаций) феноменом универсального культурного значения» (Грицанов, 2001: 264).
Однако черты новой — впоследствии получившей определение постмодернистской — поэтики пока лишь намечались в произведении Ерофеева, обозначалась тенденция, которой только предстояло оформиться. Текст Ерофеева при всей его цельности не был еще «формализован» в той степени, которую обнаруживает (диктует) эстетика постмодерна. Он еще хранил в себе многие черты поэтики реалистического романа (традиционные приемы романного построения, композиционной организации, сюжетного развертывания, создания системы персонажей и т. д.).
Наряду с этим роман содержит множество «небрежностей» и «неряшливостей», элементов «непродуманности» и «непрописанности», прощенных автору друзьями и критиками, о которых и для которых писалось произведение, в связи с масштабом и глубиной обаяния личности Венедикта Ерофеева (см., например: Любчикова, 1991: 86; Ерофеева, 1991: 89; Муравьев, 1991: 98; Седакова, 1991а: 98).
И все это вместе — столкновение старого и нового, соединение несоединимого, «оксюморонность» и «переходность» идейного и формального, элементы «случайности» текста — во многом может служить объяснением того, что вокруг «Москвы—Петушков» сложилась устойчивая традиция «разночтения», миролюбивого сосуществования противонаправленных интерпретаций одних и тех же составляющих повествования.
Субъективный мир прозы Виктора Пелевина
Фиксиррванность системы образов в романе Ерофеева дополняет статичность характеров персонажей и прежде всего центрального персонажа. Если можно принять эстетическую «скованность» персонажей второго ряда, ограничение их художественной характерологии, создание образа од-ной-двумя устойчивыми чертами, то другое дело — образ Венички, который по законам романного жанра предполагает некую динамику, однако не развивается, не формируется по ходу повествования, но лишь раскрывается в своих отдельных составляющих.
Наконец, продвижение по сюжету также никоим образом не связано с движением поезда. Изменение места в пространстве не является тем стержнем, который определяет ход повествования, сюжетные эпизоды не имеют «координатно-географической» мотивации, фабульная линия не обнаруживает зависимости от маршрута. С равным успехом для развития повествования похмельный герой Ерофеева, подобно рассеянному герою Маршака, мог бы сесть «в отцепленный вагон», и это едва ли значительным образом скорректировало бы сюжет и фабулу.
Можно добавить, что «невозможность» или «обреченность» путешествия героя просматривается и прогнозируется уже в первых строках текста, в хрестоматийно известной цитате «Все говорят: Кремль, Кремль...» (с. 18). Герой, внутри города не могущий найти место, о котором «все говорят», уходящий с распутья в любом направлении и обязательно приходящий на Курский вокзал (с. 20), едва ли способен достичь иного города (или поселка), к тому же прекрасного и недостижимого, как рай. И даже если известно, что он 12 раз был в Петушках, то, исходя из логики начального утверждения, он должен был когда-нибудь обязательно сбиться с пути, ибо он «первородно» — не путешественник.
Роковая предначертанность «беспутья» («от судьбы не уйдешь») ге-роя-не-путешественника зафиксирована в тексте: задолго до того, как Веничку настигнут убийцы, будут «смущаться ангелы» при упоминании «о радостях на петушинском перроне» («Что они думают? — что меня там никто не встретит? или поезд провалится под откос? или в Купавне высадят контролеры? или у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку?», с. 47—48), будут звучать фразы: «доеду, если только не подохну, убитый роком...» (с. 51), «если я сегодня доберусь до Петушков невредимым...» (с. 68), «если доберусь живым...» (с. 73), сам герой то ли оговорится, то ли обозначит круг, по которому он движется: «Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду?.. (выделено мною. — О. Б.)» (с. 46). В последнем случае можно говорить о неточности и небрежности речи, которые встречаются у Ерофеева48, но можно предположить и другое: герой «проговаривается», зная или предчувствуя свою судьбу.
Таким образом, можно заключить, что Ерофеев использует прием маскировки сюжета «под путешествие» только на внешнем уровне, и к каноническому жанру романа-путешествия повествование Ерофеева вряд ли можно отнести. Тем более что путешествие разворачивается в замкнутом круге, кольцевая композиция романа лишает сюжет динамики. Отсюда логичным и по своему гениальным выглядит предположение М. Альтшулле-ра о том, что герой Ерофеева «никуда не уезжал»: «Если подъезд, в котором был распят Веничка, тот самый, в котором он проснулся утром, чтобы идти к Курскому вокзалу (а это, очевидно, так, иначе не нужно было героя загонять в подъезд, эффектнее было убить его у кремлевской стены), то он и не выходил никуда. Все, что произошло с ним, — это мгновения перед смертью, кошмары меркнущего сознания, последние видения умирающего» (Альтшуллер, 1996: 77).
Существует другая, не менее оригинальная, но, кажется, более спорная версия путешествия Венички. Так, Ю. Левин высказывает предположение, что на станции Орехово-Зуево «Веничку вынесло на перрон», и он Примером «небрежности» речи у Ерофеева может служить диалогически заданное в начале повествования противопоставление синонимов «стошнить» — «сблевать» (с. 28), которое так и не находит своего разрешения (с. 31). Или можно упомянуть весьма яркое определение, данное Веничкой собригаднику Алексею Блиндяеву, «члену КПСС с 1936 года» — «старая шпала» (с. 43), которое впоследствии с той же степенью эмоциональности прозвучит применительно к генералу Франко (с. 118). попал в электричку, следующую в обратном направлении, т. е. в Москву (Левин, 1996: 75). С этим предположением соглашается Э. Власов: «Пожалуй, это наиболее рациональное объяснение тому, что поэма заканчивается в Москве» (Власов, 2001: 450). Однако если согласиться с данным утверждением, то необъяснимым остается тот факт, почему Веничка вернулся в Москву в кромешной темноте, т. е. поздним вечером или ночью, ведь весь маршрут от Москвы до Петушков составлял всего 2 часа 15 минут, Орехово-Зуево — это половина пути, т. е. примерно час езды, следовательно, если принять во внимание время отправления электрички — 8 часов 16 минут, то Веничка должен был вернуться в Москву еще до полудня, т. е. «средь бела дня». Значительно большее характерологическое значение, чем законы жанра путешествия (в данном случае — мнимого путешествия, ложного путешествия, не-путешествия), для выявления своеобразия «Москвы—Петушков» имеют законы драматургической организации текста: не нарративность, а сценичность , и прежде всего — диалогизм . Драматизирующий повествование диалогизм51 романа Ерофеева реализуется на нескольких уровнях. Во-первых, наличие различных субъектов разговора: Веничка — Веничка (как варианты: Веничка — Веничкино сердце, с. 45, 129; Веничка — Веничкин разум, с. 45, 129), Веничка — читатель, Веничка — Ангелы (которых герой не только слышит, но в какой-то момент и видит, с. 54), Ве Не случайно почти сразу после публикации «Москвы—Петушков» роман обрел несколько сценических версий.
«Количественное» качество поэзии Дмитрия Пригова
Меняется лицо, меняется манера поведения героя, он даже на какой-то момент готов поменять свой социальный статус: «С сегодняшнего дня я посвящу себя... Чему?? Я буду не спать четыре ночи, и я придумаю новую машину, и она сама собой устранит все те нудные переделки, которые мне надо сделать, а какие — даже не расслышал. Потом я разоблачу этого руководителя, я раскрою всем глаза. Я буду вдумчиво и благородно относиться к людям на его месте. Потом три года, титанической работой бессонными ночами, я закончу все те заведения, которые я не закончил. Защищу докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. Стану руководителем крупного научно-исследовательского института. Совершенно новая отрасль в науке! И вот я через пять лет академик, минуя члена-корреспондента. Тогда я вспомню о несчастном руководителе, который окончательно опустился на дно, погрузившись в пьянство и разврат. Я благодарно подам ему руку и извлеку его. И вот мы трудимся бок о бок ... Тьфу! И из-за этого я не буду спать долгие бессонные ночи? И жить не буду? Не буду знать простых человеческих радостей? Э-э-э, нет. Чтобы я стал таким, как вы, хотя бы и поглавнее? Не буду я ничего этого делать. Не буду я не спать бессонных ночей!» (т. 1, с. 47).
То есть уже ранний герой Битова — не равен самому себе, вся его жизнь «краденая» (т. 1, с. 60), лишь «вариации на тему», его идеал подвижен и неустойчив, его внешность аморфна и текуча. Еще не институиро-ванный должным образом, но по сути своей герой Битова уже в ранних рассказах предстает героем-симулякром, жизнь вокруг него фиктивно-симулятивна, его сознание релятивно (и иронично), его личностная энергия деконструктивна.
Самооценка битовского героя не очень серьезна и не очень основательна, но иногда и в ней проскальзывает что-то важное и серьезное: «Я все чаще вспоминаю о детстве, и так грустно становится. И не то, что все розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и гадкий, не в невинности дело. Живой был, до самой последней клеточки! А сейчас я если и живу, то минутами, между чем-то стыдным и чем-то гадким...» (т. 1,0.51)79.
Этот последний пассаж со всей очевидностью указывает на необратимость потерь, на неизбежность деградации, на скептицизм героя и на независимость от собственного «я», на невластность в своей судьбе80. В отличие от «ясно-видящих» соцреалистических героев для персонажа Битова «цели не названы, задачи не определены».
Рассказ «Без дела» («Бездельник») содержит в неразвитом виде множество мотивов «Пушкинского дома» — о призрачности и «невидимости» существования (т. 1, с. 48, 65), о жизни-игре (т. 1, с. 50, 60, 63), о поведе-нии-«манере» (т. 1, с. 55), о «притворстве» (т. 1, с. 55, 61), о работе — «ненужном деле» (т. 1, с. 51), о «суете» жизни и «тишине»/«серьезности» научного заведения (в романе это образ Ботанического института и Пушкинского дома, в рассказе — образ больницы и НИИ, в котором работает герой: т. 1, с. 50, 60—61, 62), о «покое и счастье» (т. 1, с. 59, 60, 61) и др. Именно в нем «опробуются» важнейшие композиционные приемы романа— «версии и варианты», «тени» и «отражения» (т. 1, с. 52—53, 58—59, 62, 63) и «открытый финал» (т. 1, с. 67). Здесь намечаются перспективы некоторых образов будущего романа — образа дяди Диккенса («...я три войны прошел», т. 1, с. 55; мотив «чистоты», т. 1, с. 51, 65) и образа Митишать-ева («Так уж подло устроен человек! Только после гадости ощутить радость», т. 1, с. 51), и даже отношения к родителям, в рассказе — к деду (т. 1, с. 53—54). В тексте рассказа впервые упоминаются некоторые «романные» имена — князь Мышкин (т. 1, с. 47) и Дмитрий Менделеев (т. 1, с. 56).
Любопытно, что рассказ «Бездельник» в некоторых случаях оказывается не только «зародышем» романа, но, наоборот, заключает в себе образно-развернутые метафоры, которые, в свою очередь, в свернуто-усеченном (т. е. уже «отработанном») виде отзываются в «Пушкинском доме». Например, знаменитая чернильница Григоровича из «Пушкинского дома» (с. 309, 327) явно находится в «близком родстве» с чернильницами из «Бездельника»: «Интересна ... иерархия чернильниц ... . Есть чернильница-шеф, вы представляете, даже выражение у шефа на лице такое же! Есть чернильница-зам. Кажется, и нет разницы, тоже роскошная, а все-таки — зам. И так далее, и так далее, ниже и ниже. То есть просто, наверное, промышленности трудно справляться с таким обширным ассортиментом, чтобы каждому чернильницу по чину. Ведь даже промышленность такая есть, вот в чем ужас! Есть и самая ненавистная мне чернильница-руководитель. Ничего нет хуже средних чернильниц! Весь ужас чернильниц-черни и чернильниц-бояр соединился в ней. Да что говорить! Даже в красном уголке есть своя красная чернильница...» (т. 1, с. 50).
Или: в «Пушкинском доме» неожиданно происходит синонимическая переподстановка слова «оладья» вместо «лицо» (с. 323), которая обнаруживает свою мотивацию в зеркальном отражении «бездельника»: «невозможно толстая оладья — не понять вообще, есть ли ... черты» (т. 1, с. 46)82.
Таким образом, даже при самом поверхностном взгляде на ранние рассказы писателя можно говорить о том, что уже в самом начале 1960-х не в романном, а уже в рассказовом творчестве Битова обнаруживали себя «новые» тенденции «новой» литературы, связанные прежде всего не с формальными новшествами, а философией «неравности» человека самому себе («Я — уже не я», т. 1, с. 61), осознанием не-абсолютности и не-истин-ности существования.
Однако «Пушкинский дом» не стал немедленным и последовательным продолжением этой темы. В середине 1960-х Битов «отходит» от представлений о «не-реальности реальности» и делает попытку найти «органичность» и «воплощенность» в окружающей жизни — в жизни естественной, природной, правдивой.
«Пьеса для чтения»: «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» Венедикта Ерофеева
Заметим, что противопоставленности отцу у Левы нет, и Битов сознательно это подчеркивает: «Лева так однажды решил — что он очень не похож на отца. Даже не противоположность — не похож:» (с. 25). А рго-pos: «У него были основания так считать по фактическому несходству черт, глаз, волос, ушей — тут они действительно имели мало общего, но главное, что ему хотелось (быть может, и в тайне от себя) как-нибудь ловко проигнорировать .. . не это, формальное, а — подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт» (с. 25). Ср. А. Блок: «Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-то и делает похожими отца и сына» (Блок, 2000: 144).
Противополюсность Левы и деда (в романе Битова «вопреки естест-венным законам» «плюс отталкивается от минуса», с. 106) , их противо-направленность не носит альтернативного характера, ибо в образе Левы есть художественная, но нет личностной целостности. Он весь— не он, в нем нет собственного. Даже в его имени звучат «чужие» имена: имена литераторов Л. Н. Толстого (Битов: «наш герой назван Левой в его честь, не то нами, не то его родителями», с. 64)133 и И. Одоевцевой (может быть, и А. Одоевского134), и имена литературных героев — князя Л. Н. Мышкина, и, может быть, кого-то еще135. Подобно тому, как это было в рассказе «Без дела», портрет юного Одоевцева указывает на неравенство героя кому-либо (ср. коллективное, родовое, «роевое» начало в прозе деревенщиков), так же как и на неравен Среди «естественных законов» может быть назван, например, и закон Менделя о наследовании доминантных признаков через поколение. 133 «Непрямое» сравнение Левы и Л. Толстого прозвучит позднее в словах: «Кто-то сказал, что он прекрасно выглядит, Лева, и что воздержа ние на пользу не одному Толстому» (с. 334). Или в мотивации «русскости» имени Левы: «И Лев Толстой был Левой ...» (с. 199). 134 Вспомним: «Сначала у меня был Одоевский — как князь Владимир Федорович» (с. 464). 135 Битов: «Еще говорили: Лев Николаевич — это не на Гумилева ли? ... Конечно, я где-то ориентировался на двух единственных знакомых филологов — Гинзбург и Бухштаба, людей совсем другого поколения. Я отчасти воспользовался их обликом, чтобы наградить деда и обидеть Леву ... (Битов, 2000: 464). Sic: в рассказе «Бездельник» героя звали иначе — Виктор, но, кажется, не менее значимо — «победитель». Любопытно, что в одном из своих отражений в зеркале «бездельник» видит «лицо князя Мышкина» (Битов 1, 1996: 47). ство самому себе: «Черты лица его были лишены индивидуальности, хотя лицо его и было единственным в своем роде и под какой-либо привычный тип не подходило, но — как бы сказать? — оно и одно было типично и не принадлежало в полной мере самому себе» (с. 347). Как и в раннем рассказе, герой «Пушкинского дома» не узнает себя в отражении: из зеркала «выглядывал на Леву большими настрадавшимися глазами неизвестный человек, в котором Лева признал себя лишь по аккуратненькому, чистенькому крестику на лбу — из пластыря: его приклеила нежнейшими пальцами Альбина .. . » (с. 332) . Лева может «растерять лицо» (с. 267). То же качество облика Левы замечает и дед: «Ты ... совершенно искренне никогда не бываешь сам собой .. . » (с. 82). В разделе «Отцы и дети» автор предпринимает попытку определить героя, создать формулу его личности: Мотив симулятивности (образа, облика, характера) разрабатывается в романе и в связи с линиями других персонажей: например, Митишать-ев легко мимикрирует, меняет свой облик и даже внешность (« ... и в школе Митишатьев уже выглядел старше всех, даже мог выглядеть старше учителя, словно он менял свой возраст в зависимости от собеседника так, чтобы всегда быть слегка старше его. Вообще он с видимым удовольствием набрасывался на свежего человека, тем более если они были полной противоположностью друг другу, но всегда умудрялся сойти за своего, даже больше, чем за своего. Говорил ли он с работягой, фронтовиком или бывшим заключенным, то становился чуть ли не более собеседника — работягой, фронтовиком и заключенным, хотя никогда не работал, не воевал и не сидел» (с. 194). Фаина же чувствует себя самой собой («узнает себя») только в нарядах и при макияже («в форме», с. 154—155) и др.