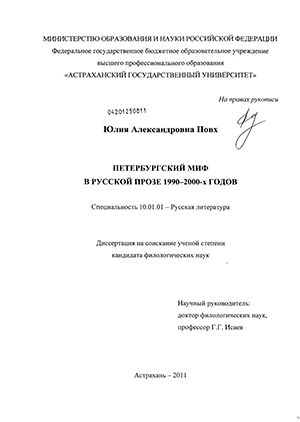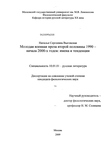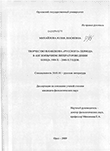Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мифопоэтика петербургского времени 25
1. Космогонический миф Петербурга 27
2. Эсхатологический миф Петербурга 45
3. Тема памяти и возраста города 66
Глава 2. Мифопоэтика петербургского пространства 88
1. Водное пространство города 88
2. Архитектурный облик города 101
3. Призрачность и театральность петербургского пространства 129
Глава 3. Персонажи петербургского мифа 144
1. Образ петербуржца в русской прозе 1990-2000-х годов 144
2. Обитатели петербургского Зазеркалья 165
3. Феномен двойничества в русской прозе 1990-2000-х годов как составляющая петербургского мифа 171
Заключение 183
Список использованной литературы 190
- Космогонический миф Петербурга
- Тема памяти и возраста города
- Призрачность и театральность петербургского пространства
- Феномен двойничества в русской прозе 1990-2000-х годов как составляющая петербургского мифа
Введение к работе
Петербургский миф - явление, через которое часто определяется самобытность петербургской культуры в целом; это особый феномен, художественное воплощение которого впервые появилось в произведениях А.Пушкина и Н. Гоголя. Русская проза 1990-2000-х годов стала новой, ещё в недостаточной степени изученной страницей петербургского мифа.
Культурологическим термином «петербургский миф» обозначается совокупность преданий и легенд, связанных с возникновением Петербурга и образом города в сознании людей и в искусстве. Реальные события возникновения города обрастали мифологическими образами. Невиданный размах строительства дал пищу для мифа о постройке Петербурга на пустом месте. Петербургский миф включил в себя легенды о чудесном основании города, сюжет пророчества о его гибели, идею искусственного, обреченного города. Природная стихия, наводнения порождали множество легенд о гибели Петербурга (очевидна их связь с идеей потопа, характерной для древних мифов).
Один из первых исследователей петербургского мифа- Н.П. Анциферов. Исследованию этого культурного феномена посвящены такие работы историка, как «Непостижимый город (Петербург в поэзии А. Блока)» (1921), «Душа Петербурга» (1922), «Петербург Достоевского» (1923), «Быль и миф Петербурга» (1924) и другие.
После работ Н.П. Анциферова исследователи периодически обращались к теме Петербурга в русской литературе, делая её центром или одним из аспектов исследования. Не раз эта тема звучала в работах, посвященных творчеству А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Блока; есть и публикации зарубежных исследователей, в частности, Ло Гатто, Я. Хинрикса и других. Несомненный интерес представляют работы Г.П. Федотова. Его статьи («Три столицы» (1926), «Россия и свобода» (1945) и другие) заключают в себе бесценный опыт историософского осмысления Петербурга. Свою точку зрения на историософию Петербурга предлагает Д. Андреев в книге «Роза мира» (1950-1958).
Целый пласт исследований петербургского мифа связан с именем В.Н.Топорова, впервые употребившего термин «Петербургский текст». Очерченные учёным границы этого понятия послужили отправной точкой семиотической разработки историко-культурных и литературных сверхтекстов, особенно так называемых городских текстов. Вслед за Петербургским текстом стали формироваться «столичные тексты» — московский, римский, венецианский и т.п., а также сверхтексты русской провинции.
В капитальном исследовании «Петербург и "Петербургский текст" русской литературы (Введение в тему)» (написано в 1971, доработано в 1993 году) В.Н. Топоров отмечает, что Петербург принадлежит «к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за
ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического»1. Петербург в Петербургском тексте оказывается городом-мифом, а не обычным пространством. Исследователь выделяет основные типы мифов Петербурга: миф об основании города и его демиурге, эсхатологический миф о гибели Петербурга, исторические мифологизированные предания, связанные с императорами, видными историческими фигурами, персонажами покровителями, святыми в народном мнении и т.п. (Пётр, Иоанн Антонович, Екатерина II, Павел, Александр I, Николай II; Ментиков, Аракчеев, Распутин; Иоанн Кронштадтский и др.), литературные мифы (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок и др.), «урочищные» и «культовые» мифы вплоть до их привязки к «узким» локусам (Зимний дворец, Михайловский замок, Юсупов дворец, Исаакиевский собор, фальконетов-ский монумент Петра, Летний сад, «васильеостровская» мифология - от «Уединенного домика» до Шефнера, сфинксы, отдельные «дурные» дома, населённые привидениями или связанные с мифологизированными событиями блокадной поры), мифы «явлений» (Петра, Павла, Ксении, некоего неизвестного лица, выделяющегося своими свойствами, и т.п.), «языковые» мифы (ономастические или ономастически-этимологические, прежде всего, Маркизова лужа, Васильевский остров, Васина деревня, Голодай, Охта, Мишин остров, Каменный остров, Крестовский остров, Волково поле, Коломна и т.п.).
На преобразование на рубеже XIX-XX веков мифа о Петербурге указывает Л.К. Долгополое в работе «Миф о Петербурге и его преобразование в начале века» (1977). Более полно взгляды Л.К. Долгополова на петербургскую мифологию изложены в монографии «Андрей Белый и его роман "Петербург"» (1988).
Особого внимания заслуживает работа Ю.М. Лотмана «Символика Петербурга и проблемы семиотики города» (1984). В ней исследователь раскрывает значение антитезы «концентрический / эксцентрический город», относя Петербург к эксцентрическим городам, то есть расположенным «на краю» культурного пространства. Не менее важным представляется то, что Ю.М. Лотман не отделяет мифологию Петербурга от его истории, упоминая огромную роль слухов, устных рассказов о необычайных происшествиях, специфического городского фольклора в становлении петербургской мифологии. Источник активного мифотворчества Ю.М. Лотман видит в особой семиотике Петербурга. Город как реализация рационалистической утопии (именно таков Петербург), фактически лишённый истории, лишен, с точки зрения исследователя, и тех семиотических резервов, коими обладают города с укорененной во времени и культуре историей.
Топоров В. H. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М. : Изд. группа «Прогресс» - «Культура», 1995. С. 259.
Особое место среди исследователей петербургской мифологии занимает Н.А. Синдаловский, автор работ «Петербург в фольклоре» (1999), «Легенды и мифы пригородов Петербурга» (2001), «Санкт Петербург. История в преданиях и легендах» (2002), «Мифология Петербурга. Очерки» (2006), «Призраки Северной столицы. Легенды и мифы питерского Зазеркалья» (2007), «Петербург: От дома к дому... От легенды к легенде... Путеводитель» (2008), «Пороки и соблазны Северной столицы. Светская и уличная жизнь в городском фольклоре» (2008) и других. Его книги явились фактически первой попыткой систематизации и осмысления богатейшего петербургского фольклора.
Попытки осмысления петербургского мифа в современной литературе и культуре предпринимались и в работах таких исследователей, как К. Жуков («О пользе и вреде петербургской мифологии»), С. Бломберг («"Петербургский миф" в наши дни»), Н. Марченко («Литературный миф Петербурга»), Р. Назиров («Петербургская легенда и литературная традиция»), Л. Лурье («Пять мифов Петербурга»), И. Шерганова («Роль "городского мифа" в создании семиотики города (на примере Москвы и Петербурга») и др.
Среди монографических исследований последних лет, несомненно, выделяется работа A.M. Буровского «Величие и проклятие Петербурга. Три Петербурга: метафизика второй столицы». Исследованию петербургского мифа в русской прозе были посвящены диссертации Т.В. Ефимовой («"Петербургский текст" как ресурс формирования городской ментально-сти»), Ж.Е. Ермолаевой («Петербургский текст: мифология города в, прозе 20-30 годов XX века»), Т.К. Ермоченко («Поэтика новой петербургской прозы конца XX - начала XXI веков»).
Актуальность предпринятого исследования обусловлена научным интересом к мифологическим аспектам современной русской прозы, прочтением художественных произведений 1990-2000-х годов в контексте мифологического мышления, потребностью выявить роль и функции петербургского мифа, исследовать формы его художественного переосмысления в прозе названного периода.
Объект диссертационного исследования - русская проза 1990-2000-х годов, представленная произведениями А. Битова, А. Вяльцева, Д. Вересова, Н. Галкиной, О. Юрьева, И. Стогова, А. Столярова и других авторов.
Предмет исследования - преемственность классического петербургского мифа русской прозой 1990^-2000-х годов и художественное развитие традиции современными писателями.
Цель работы: определение сущностных черт петербургского мифа, уточнение классических характеристик Петербургского текста и особенностей мифологии города в русской прозе 1990-2000-х годов.
Задачи, вытекающие из поставленной цели:
выявить круг мифопоэтических мотивов, помогающих авторам создать образы художественного пространства и времени в литературных произведениях о Петербурге;
установить роль и функции символических и фантастических образов-персонажей, способствующих раскрытию содержательной стороны петербургского мифа;
определить мифологические, фольклорные и литературные источники петербургского мифа в русской прозе 1990-2000-х годов;
выделить особенности сюжетной схемы петербургского мифа в русской прозе 1990-2000-х годов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в осуществлении системного изучения петербургского мифа в русской прозе 1990-2000-х годов. Рассказы, повести, романы, рассматриваемые в диссертации, не были ранее предметом серьёзного научного анализа. Лишь в отношении некоторых из них имеются отдельные критические статьи, в которых произведения иллюстрируют то или иное положение о развитии современного литературного процесса.
В диссертации выявлены мифопоэтические мотивы, помогающие авторам создать образы художественного пространства и времени в литературных произведениях о Петербурге; установлены роль и функции символических и фантастических образов-персонажей, способствующих раскрытию содержательной стороны петербургского мифа; определены мифологические, литературные и фольклорные источники и особенности сюжетной схемы петербургского мифа в русской прозе 1990-2000-х годов.
Теоретическая значимость диссертации связана с расширением представления о петербургском мифе, являющемся частью обширного культурологического феномена.
Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных учёных, посвященные Петербургскому тексту: Н.П. Анциферова, Ю.М Лотмана, Н.Е. Меднис, В.Н. Топорова; мифопо-этике и неомифологизму: СП. Батраковой, А.С. Козлова, А.Ф. Косарева, А.Ф. Лосева, A.M. Минаковой, З.Г. Минц, В.Б. Мириманова, Я.В. Погребной, В.П. Руднева, С.Д. Титаренко, М.Н. Эпштейна, А. Альварес де Миранды, Р. Грейвса и других. В процессе написания диссертации учитывались исследования феномена мифа в мировой культуре (Р. Барт, Э. Касси-рер, Т. Манн, Дж. Маркус, А. Сови, X. Хэтфилд, М. Элиаде, К.Г. Юнг и др.), а также работы по теории мифореставрации (С. А. Телегин, Р.Л. Шмароков).
В основе метода исследования лежит комплексный подход к анализу литературного произведения, сочетающий элементы мифопоэтического и историко-литературного.
Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования её результатов в вузовском курсе лекций по истории русской
литературы конца XX - начала XXI века, а также при разработке спецсеминаров и спецкурсов по проблемам Петербургского текста и современной прозы и элективных курсов школьной программы по литературе.
Апробация работы проводилась в ходе выступлений на вузовских, всероссийских и международных научных конференциях в Астрахани (2009,2010, 2011), Москве (2011), Бердянске (Украина, 2008). По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 5 статей в журнале, включённом ВАК Министерства образования и науки РФ в Перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук.
На защиту выносятся следующие положения:
-
В произведениях русской прозы 1990-2000-х годов о Петербурге реализуются мифопоэтические мотивы, позволяющие писателям создать образы художественного пространства и времени и запечатлеть мифосознание, реализованное в системе символов и других категорий. К числу мотивов, ориентированных на хронотоп, мы относим: мотив возникновения города, мотив конца истории города, мотив жизни «на краю» (такое положение Петербурга объясняет концентрацию мифов о гибели города), мотив перехода в другое пространство и время, мотив вечного возвращения.
-
Мифопоэтическое начало играет важную роль в формировании глубинной семантики образов-персонажей. Мифологизация знаковой фигуры Петра Первого как центрального персонажа петербургского мифа служит созданию амбивалентности образа: с одной стороны, чудесное основание Петербурга определяет представление о его создателе как о божестве, воплощении благостной силы (как в классическом варианте космогонического мифа), с другой стороны, легенды о выборе Петром места для будущего города, о массовой гибели первых строителей Петербурга актуализируют известный петербургский миф о городе на костях. Таким образом, мифологическое начало в образе Петра взаимоориентирует и сближает космогонический и эсхатологический мифы Петербурга, позволяя оценивать деятельность Петра и как демиурга, и как царя-антихриста.
К фантастическим петербургским персонажам в произведениях русской прозы 1990-2000-х годов мы относим призраков и привидений, оживающих сфинксов и статуй, Зверя (чудовища, обитающего в одном из петербургских каналов), а также (косвенно) двойников главных героев произведений. Введение их в сюжеты художественных произведений определяет две важнейшие отличительные особенности пространственно-временной организации петербургского пространства - призрачность и театральность, актуализирующие мотивы петербургской искусственности, миражности, ирреальности, обманной сущности города, в случае с двойниками - мотивы безумия, сумасшествия.
3. Мифологическими, фольклорными и литературными источниками
петербургского мифа русской прозы 1990-2000-х годов являются:
некоторые видоизменённые фрагменты скандинавских, древнеиндийских, этрусских, славянских и других мифов, служащие основой космогонического мифа Петербурга;
известный в мировом фольклоре сюжет об оживающей статуе, выявляющий взамообусловленность петербургского мифа и архитектурного пейзажа;
общее для многих культур понятие «река смерти» (и как частное его проявление - представление о реках загробного мира в древнегреческой мифологии: Стиксе, Коците и Ахероне), создающее амбивалентный образ реки в петербургской эсхатологии;
европейская религиозно-историософская и политическая идея «Третий Рим», раскрывающая некоторые аспекты темы памяти и возраста Петербурга.
4. Сюжетная схема петербургского мифа состоит из набора постоян
ных мотивов и сюжетов, среди которых: мотив возникновения города, мо
тив конца истории города и др. В рамках реализации сюжетной схемы
функционируют традиционные мифологические сюжеты об основании и
конце города. Композиция составных частей сюжета свободна и открыта.
Несмотря на возможность сюжетных усложнений, все варианты имеют
общую черту: речь идет о возникновении, истории и конце истории города,
обладающего чертами универсума (модели мира, вмещающей представле
ния автора о мироздании).
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 202 наименования. Общий объём диссертации - 211 страниц.
Космогонический миф Петербурга
Космогонические мифы занимают особое место среди других форм ми-фопоэтического мировоззрения, поскольку описывают пространственно-временные параметры Вселенной, то есть условия, в которых протекает существование человека и помещается всё, что может стать объектом мифотворчества. В различных вариантах этих мифов сотворение мира происходит либо по воле демиурга, либо путём превращения тех или иных объектов в другие (австралийские тотемные предки, совершив свой маршрут и «утомившись», спонтанно превращаются в скалы, холмы, деревья, животных и т.п.), либо в результате смены поколений богов и борьбы между ними.
По одним мифологическим представлениям, основанным на идее творения, мир создан каким-либо сверхъестественным существом - богом-творцом, демиургом, великим колдуном; по другим («эволюционным») - мир постепенно развился из некоего бесформенного первобытного состояния -хаоса, мрака - либо из воды, яйца.
В целом космогонический миф Петербурга соответствует сюжетной схеме, в которой движение осуществляется от прошлого к настоящему, от космического и природного к культурному и социальному. Петербургский космогонический миф восходит к идее творения мира, поэтому и в петербургской истории, и в петербургской литературе огромную роль играет образ творца, петербургского демиурга - Петра I. Из сочетания исторических событий с мифотворческим сознанием родился миф о чудотворном строителе Петербурга, оформившийся в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». По мнению В.Н. Топорова, «мифологизация этой фигуры царственного Всадника началась значительно раньше. ... Поэма Пушкина стала некой критической точкой, вокруг которой началась вот уже более полутораста лет продолжающаяся кристаллизация особого "под-текста" Петербургского текста и особой мифологемы в корпусе петербургских мифов. Миф "творения" Петербурга позже как бы был подхвачен мифом о самом демиурге, который выступает, с одной стороны, как Genius loci, а с другой, как фигура, не исчерпавшая свою жизненную энергию, являющаяся в отмеченные моменты города его людям (мотив "ожившей статуи") и выступающая как голос судьбы, как символ уникального в русской истории города»1.
В статье «Петербургский миф и политика монументов: Пётр Первый Екатерине Второй» Вера Проскурина, приводя ряд суждений о политической мифологии Российской империи, акцентирует внимание на возвеличивании создателя Петербурга: «Сакрализация власти и персоны императора парадоксально сочеталась с секуляризацией быта и нравов. Процесс этот окончательно оформился к 1721 году, когда Пётр официально принял титул императора, "отца отечества" (Pater Patriae), а также "великого" (Maximus). Своеобразие ситуации состояло в том, что императорство было принято Петром без официального - папского - признания. Кроме того, возвеличивание царя императора в насильственно секуляризуемой стране, в условиях смешения христианских и языческих элементов культуры привело, с одной стороны, к возникновению культа Петра, почти приравненного к Богу, а с другой, напротив, к восприятию его как Антихриста - в оппозиционных власти кругах. Пётр I приобретает черты своеобразного "домашнего", то есть русского, "божества"»1. Действительно, с основанием Петербурга связан новый значительный этап истории русского государства: обозначились новые параметры русской культуры и государственности, связанные с ориентацией на Запад в целом и Рим как на ведущую западную цивилизацию. Со временем культ Петра определил важнейшие особенности петербургского мифа: первоначальная символика Святого Петра заместилась активно насаждаемой символикой Петра І. В последующей культурной и литературной традиции Петербург, символизирующий разрыв с прошлым, европеизацию жизни и мышления, связывается уже исключительно с Петром I.
Итак, космогонический миф Петербурга опирается на идею сотворения города по воле всесильного демиурга - Петра. При этом легенды об основании города аккумулируют некоторые фрагменты скандинавских, этрусских, славянских, древнеиндийских и других мифов. Так, мифы о небесных городах, существующие в культуре славян (Ирий-сад), скандинавов (Асгард), этрусков (Ойнорея), древних индусов (Хираньяпура, Трипура), нашли отражение в петербургской мифологии. Чтобы придать государству ореол богоносности, в древних Вавилоне, Египте, Греции, Риме жрецы создавали мифы о небесных прототипах своих городов-столиц, так что земной город оказывался лишь отражением небесного града. Как отмечает Мирча Элиаде, «...каждый храм ... каждый священный город или царский дворец является "священной горой" и становится Центром. Будучи Мировой Осью, город или священный храм рассматриваются как место входа на Небо, под Землю или в преисподнюю» .
Представления о небесном городе отразились также в финской легенде об основании Петербурга в воздухе, несколько трансформированной в романах Олега Юрьева «Винета» и Андрея Столярова «Не знает заката». По этой легенде, город не мог быть построен на топком, проклятом Богом болоте известными в то время способами строительства, он бы просто утонул по частям. Поэтому его целиком возвели на небе и затем осторожно и тоже целиком опустили на землю: «Петербург строил богатырь на пучине. Построил первый дом своего города - пучина его проглотила. Богатырь строит второй дом - та же судьба. Богатырь не унывает, он строит третий дом, и третий дом съедает злая пучина. Тогда богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, и наморщил свой широкий лоб, а в черных больших глазах загорелись злые огоньки. Долго думал богатырь и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь, построил на ней сразу свой город и опустил на пучину. Съесть сразу целый город пучина не смогла, она должна была покориться, и город Петра остался цел»2.
Роман О. Юрьева «Винета» открывается несколько изменённой финской легендой. Основатель Петербурга в романе - уже не богатырь, а «царь Петра», пришедший к устью Невы-реки строить «Санктпитербурьх-город». Ингерман-ландская топь не позволяла ни забить сваи, ни положить в основание города камень, и разгневанный царь чудесным образом построил Петербург у себя на ладони: «государь толкнул в воздух множество скал и стволов и из этого, в низком небе парящего матерьяла, выстроил у себя на ладони весь Петербург целиком - с площадями и улицами, с церквями, синагогой и мечетью, с длинной низкой крепостью под золотым шпилем и Адмиралтейством под золотым шпицем, с кладбищами и дворцами, в том числе универмагами и станциями метрополитена (те, когда Советской власти понадобились, она их в подземельях отрыла). Потом спустил город наземь, и тот встал, как игрушечка.
В известном смысле Петербург так и остался небесным островом - всё и висит над землей и водой, чуть-чуть не касается. Чуть-чуть - означает: на толщину царёвой ладони. Чужим редко когда заметен этот зазор - небо в наших широтах низкое, очень низкое, ниже моря. Петербург - своего рода остров Лапута, не держали бы его несчётные якоря, давно бы уже улетел. Но якоря - в не знающих расслабленья руках: покачиваясь, стоят на дне мертвецы и тянут чугунные цепи»1.
В приведённом фрагменте, несомненно, присутствует авторская ирония: три века назад Петербург не мог быть построен в том виде, какой он представляет собой сейчас, с кладбищами, универмагами и метрополитеном. Тем не менее, иронизированный сюжет финской легенды позволяет акцентировать внимание на значимых деталях. Структура Петербурга в романах О. Юрьева вписывается в общие для многих народов представления о небесных городах как средоточии неба, земли и подземного мира (возведение города в воздухе описано и в романе О. Юрьева «Полуостров Жидятин»: «кесарь Петра на воздухе выковал за домом дом, за церковью церковь, за исту-каном истукан и весь разом поставил с ладони на побережную топь» ).
В то же время упоминание о кладбищах, появившихся одновременно с основанием Петербурга, и мертвецах, которые держат город на чугунных цепях, актуализирует в сознании читателей известный петербургский миф о городе на костях. Рассказы-«воспоминания» о массовой гибели строителей уже в начальный период истории Петербурга стали устойчивой чертой городского общественного сознания.
Тема памяти и возраста города
Значительное место в русле целостного осмысления истории и современности Петербурга, составившего содержательный центр многих произведений современной русской прозы, занимает обращение к теме исторической памяти и возраста города. Как фундаментальную категорию память можно рассматривать в качестве метакатегории литературоведения, так как генетически художественная литература, как и культура в целом, есть один из способов коллективной памяти, ориентированный на специфическое сохранение, закрепление и воспроизводство навыков индивидуального и группового поведения1. Художественная категория памяти в современной русской прозе о Петербурге многогранна: от индивидуально-личностного плана до памяти бытийного и историко-культурного значения. Эта категория не только формирует художественное единство произведения, но и непосредственно соотносит его содержание с действительностью.
Так, в романе Д. Вересова «Третья тетрадь» событийный ряд подчинён действию прапамяти, то есть памяти культуры: «...город бесновался вокруг них, втягивая в бездонные воронки совпадений и прапамяти, заставляя пове-рить во что угодно» . Главная героиня Катя (впоследствии сменившая имя на Аполлинария) таинственным, необъяснимым образом практически полностью повторяет судьбу роковой возлюбленной Фёдора Достоевского Аполлинарии Сусловой. Происходящее с Катей может быть несколько прояснено с помощью рассказа И.А. Бунина «Ночь»: такие люди, как Катя, наделены «способностью особенно сильно чувствовать не только своё время, но и чужое, прошлое», «способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью»1.
Особая миссия Кати заключается в повторении маршрутов и мучительных отношений Достоевского и Сусловой с тем, чтобы помочь антиквару Даниилу Даху найти третью, неизвестную биографам Достоевского тетрадь с записями Сусловой. В процессе перевоплощения в Аполлинарию Катя испытывает немало страданий. Испытывая те же чувства, что и Суслова когда-то давно, героиня Д. Вересова находится на грани помешательства: её незнакомые новые страсти принадлежат не ей и не подкреплены в ней её собственным опытом, поэтому переход к новой жизни так мучителен. Финал романа констатирует полное перевоплощение Кати в Аполлинарию: из робкой потерянной в жизни девушки с непримечательной внешностью Катя (Аполлинария) превращается в роскошную соблазнительницу, а в её молодом спутнике явно прочитываются черты В. Розанова.
Здесь мы сталкиваемся с темой двойничества (о которой речь пойдёт в третьей главе диссертации) и с отголосками учения Ницше о вечном возвращении: время в его бесконечном течении, в определённые периоды, должно с неизбежностью повторять одинаковое положение вещей. Ничто не исчезает; прошлое существует и продолжает приносить свои плоды. Все события, происходящие в романе с Даниилом и Катей (Апой), подтверждают эту теорию. В метафизическом смысле антиквар Даниил Дах ищет третью тетрадь не по своей воле, а повинуясь возложенной на него миссии: раскрыть тайны прошлого, пролить свет на некоторые факты биографии Достоевского и Сусловой. В этом смысле и Даниил, и Апа становятся заложниками прошлого. Примечательно, что Даниил осознаёт своё бессилие перед Петербургом и действие неких сил, которые удерживают человека, привязывают его к этому месту:
«- Однако же и местечко мы с вами выбрали для жизни.
- Ещё неизвестно, кто кого выбирал, - угрюмо буркнул в ответ Данила»1.
Как итог произошедших событий в эпилоге романа звучит мотив безысходности: «Всё шло по заведённому бесконечному кругу. Петербург не вы-пускает своих жертв никогда» . Приведённый фрагмент - явная реминисценция из стихотворения А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека», основным мотивом которого является полная безысходность, замкнутость жизни в страшный круг. История Даниила и Апы лишь одна из многих в длинном ряду историй людей, обречённых на Петербург и его тайны.
Петербург в романе Д. Вересова - «призрачный мир прошлого, не отпускающий из цепких объятий настоящее» , доказательством чему служит история Апы и Даниила. Определяющим модусом времени становится не настоящее, а прошлое; граница между ними стирается. Причина подобного явления заключается, по Вересову, в особенной характерной лишь для Петербурга ситуации безвременья: «В такие часы безвременья и безбытности можно ощутить себя кем угодно, когда угодно и где угодно. Впрочем, конечно, последнее - натяжка: ощутить себя в такие моменты можно лишь в Петербурге»4.
Со своеобразной диффузией настоящего и прошлого времени сталкиваются и герои романа Н. Галкиной «Архипелаг Святого Петра». Путешествуя по островам архипелага Святого Петра, Настасья и Валерий периодически встречают на пути призраков прошлого либо оказываются полностью поглощенными прошлым, видя первообраз города. Ситуации встречи с прошлым сопровождаются нарушением естественного течения времени. Так, оказавшись на призрачной подводной лодке (Железном острове) Николая II и наблюдая за призраками последнего царя и его фаворитки балерины Кшесин-ской, герои замечают: «Лиловое небо над нами не меняло цвета, не светлело, не темнело, мы не видели солнца, казалось, время остановилось» . В другом эпизоде романа Валерий встречает призрак умершего шесть лет назад садовника и даже получает от него розу. Их разговор сопровождается изменением привычного хода времени: «мы закурили и время словно бы встало»; «Стрел-ки все стояли на без пятнадцати, как прилипли» .
Спустя много лет Валерий, став известным искусствоведом, напишет об этих и других «странностях» времени в одном из своих эссе: «Я писал о том, что на нашем архипелаге некогда рванул хроно-Чернобыль, время здесь поколеблено, есть пятна будущего, прогалы прошлого, проталины настоящего, всякие плеши и флеши, пустыри хроноциклонов, кварталы времетрясении, пугающие смертоносные смерчи временных завихрений и т.д., и т.п.» .
Неоднократно герои романа встречают «метафизического ловца». Это образ значим для пояснения многочисленных пересечений планов настоящего и прошлого времён в романе. Каждый раз при его описании подчеркиваются «неопределенный возраст» и «древняя» ткань одеяния. Встреча с рыбарем всегда сопровождается нарушением естественного течения времени: «Мы смотрели друг на друга. Казалось, течение Невы застыло, время встало, пауза представлялась бесконечной. Симон? Петр? Призрак ли предо мною? или житель рыболовецкого поселка либо колхоза в погоне за планом? Рыбарь наклонился, взял со дна или из древней, как и его лодка, посудины (ведёрко? миска? бадейка?) связку рыбы (рыба нанизана за губу на подковообразно согнутую проволоку, напоминающую одну из букв греческого алфавита, сцепленную наподобие шейного украшения рабыни, двумя крючками, образованными самой проволокой, змея, кусающая свой хвост) и бросил мне в лодку»1.
«Змея, кусающая свой хвост» - мифический образ Уробороса. Это олицетворение бесконечного цикличного времени и непрерывности процессов бытия, бесконечности в пространстве, преходящей природы вещей; эмблема вечности. Неслучайно даже проволока, на которую нанизана рыба, напоминает Валерию одну из букв греческого алфавита. Здесь наблюдается онтоло-гизация звучания темы памяти. В этом уточнении содержится отсылка к греческой концепции океана. Хорхе Луис Борхес в своей известной «Книге вымышленных существ» дал концепцию океана, окружающего землю, и гностический образ Уробороса. В представлении греков океан был рекой, окружавшей землю, а также самым древним богом или титаном, праотцом богов. Согласно Борхесу, обычной персонификацией океана являлся старец с пышной бородой, но по прошествии веков появился другой символ - Уроборос. По Гераклиту, начало и конец окружности совпадают в одной точке. Хранящийся в Британском музее греческий амулет III века являет нам образ, иллюстрирующий эту бесконечность: змея, кусающая свой хвост, или, по выражению Мартинеса Эстрады, «начинающаяся с конца своего хвоста».
Призрачность и театральность петербургского пространства
Многие суждения о Петербурге, представляющие обширный пласт петербургской литературы, соединяют абсолютно противоположные оценки и мнения о городе в единое целое. В образе города Петра всегда таилось что-то непредсказуемое, иррациональное, таинственное. По мнению Ю.М. Лотмана, история Петербурга неотделима от петербургской мифологии, главная особенность которой заключается в том, что «ощущение петербургской специфики ... подразумевает наличие некоего внешнего, не-петербургского наблюдателя. Это может быть "взгляд из Европы" или "взгляд из России" ("взгляд из Москвы"). ... культура конструирует позицию внешнего наблюдателя на самое себя. Одновременно формируется и противоположная точка зрения: "из Петербурга" на Европу или на Россию (= Москву). Соответственно Петербург будет восприниматься как "Азия в Европе" или "Европа в России". Обе трактовки сходятся в утверждении неорганичности, искусственности петербургской культуры» . С этим связаны две отличительные особенности петербургского пространства - призрачность и театральность. Причины подобного восприятия города во многом обусловлены его архитектурным обликом: «разностилевая архитектура Петербурга, в отличие от архитектуры городов с длительной историей, не распадающаяся на участки разновременной застройки, создает "ощущение декорации"» .
Театральность петербургского пространства проявляется, прежде всего, в его дифференциации на «сцену» и «закулисную часть»: «Постоянное колебание между реальностью зрителя и реальностью сцены, причём каждая из реальностей, с точки зрения другой, представляется иллюзорной и порождает эффект петербургской театральности» .
Приведём фрагмент рассказа А. Битова «Полёт с героем» , отсылающий читателя к мысли о театральности петербургского пространства: «Окажитесь в Петербурге зимой, осенью, белой ночью ... - вы войдёте в картину Ки-рико, вы окажетесь в положении литературного героя даже не читанного вами, даже не написанного никем произведения и, сами того не заметив, ощутите на плечах пелерину, то ли на голове цилиндр, то ли ноги ваши обтянуты трико, и вы вылетаете из-за кулис на авансцену под углом героев Шагала, ощущая на себе, как пастернаковский Гамлет, "тысячу биноклей на оси". Человек, родившийся в Петербурге, родился в балете — как же ему воспринять эту пыльную неуклюжую условность, когда его впервые поведут в знаменитый Кировский (б. Мариинский) театр? До сих пор в моем сознании это первое тошнотворное головокружение от условности внутри условности, от условности, подражающей условности...» .
Симптоматично упоминание автором имён двух художников - итальянского художника (Кирико), ставшего образцом и идеологом сюрреалистической живописи, и художника-модерниста (Шагала). Сюрреалисты, как известно, черпали творческое вдохновение в сновидениях, в бессознательном. Картины де Кирико удивляют не только загадочностью положений, но и частым искажением масштаба, благодаря чему привычные вещи приобретают совершенно неожиданное звучание. Между тем, среди живописцев известен тот факт, что многие свои образы де Кирико «вылавливал» не из подсознания, а придумывал вполне сознательно. Таким образом, упоминание имени Джордже де Кирико в приведённом фрагменте рассказа указывает на смоделированную бессознательность, намеренное искажение реальности, что вновь наводит читателя на мысли о декоративности, театральности петербургского пространства. Имя другого художника - Шагала, одного из самых известных представителей художественного авангарда XX века, также соотносит пространство города с чем-то нереальным, вымышленным, странным. Образной основой картин М. Шагала был мотив победы над земным тяготением, свободного полёта людей в мировом пространстве, который он использовал для одной цели -вызвать ощущение странности, резкого смещения привычного. Действие в его картинах почти никогда не развивается в едином времени, оно разламывается, единое пространство тоже почти всегда отсутствует.
В рассказе «Дворец без царя» при описании Дворцовой площади для передачи атмосферы театральности, царящей на главной площади Петербурга, А. Битов обращается к лексеме «сон»: «Как в дурном сне - ни одной двери, одни фасады» . Одним этим предложением передана самая суть петербургской театральности: «одни фасады» и ни одной настоящей двери - это театральные декорации, вымышленный, искусственный мир, выглядящий реалистично, а в действительности скрывающий за собой пустоту сцены. Далее А. Битов поясняет читателю: «Для меня эта площадь, прежде всего, пуста. Особенно дважды в год, после демонстрации» . Демонстрация - это массовое шествие, всегда запланированное, не спонтанное действо, предполагающее выполнение его участниками определённых действий, следование избранным маршрутом, то есть несущее некую долю театральности. Демонстрации, марши, парады - всё это ритуальные церемонии «военной столицы», упоминание которых наглядно для понимания разделения городского пространства на «сценическую» и «закулисную» части. Пустота, которую чувствует повествователь после демонстрации, идентична эмоциям человека после окончания спектакля в театре: актёры ушли за кулисы, свет приглушен, остались одни декорации.
С другой стороны, эту метафору можно интерпретировать иначе: отсутствие дверей отрицает возможность выхода, то есть человек, зашедший на Дворцовую площадь, визуально лишён возможности покинуть это пространство, поменять своё местоположение, а значит, вынужден там находиться, испытывая при этом психологический дискомфорт и безысходность.
Перед читателем - типично петербургская ситуация: сущее и не-сущее поменялись местами, слились, смешались, ввели героя, оказавшегося внутри такого пространства, в заблуждение. Восприятие героем окружающего в качестве сновидения (причем сна дурного, неспокойного) выступает в тексте рассказа в качестве маркера пограничной - между сном и явью - ситуации.
Вернёмся к рассказу «Полёт с героем». В нём предельно лаконично выражена мысль о театральности пространства Петербурга: «Оттого каждый в него приезжающий попадает не в город своих представлений - не в город Петра, Пушкина, Ленина, он попадает именно в тот же Петербург, вечный, в котором и эти люди, составившие ему славу, лишь бывали ... С человеческой точки зрения Петербург не город Петра и Пушкина, а город Евгения и Акакия Акакиевича - те же чувства породят в вас эти великие декорации, какими волновались души этих героев, какими, надо полагать, хоть и не нам чета, были взволнованы умы их создателей» . Мысль о первостепенности для человеческого восприятия литературных героев, а не их создателя, демонстрирует доминирование вымышленного, искусственного, реально не существующего. Образы, рождённые творческой фантазией Пушкина, оказываются реальнее своего создателя, живут независимой от него жизнью, ассоциируясь с городом больше, нежели действительные исторические личности.
Здесь же находим ещё одну исчерпывающую характеристику Петербурга: «Фантом, оптический эффект, камера-обскура, окно в Европу, в которое вместо стекла вставлен европейский пейзаж... ... возможно ли символизировать символ, абстрагировать абстракцию, идеализировать идеалы, фанта-зировать фантазию, допустить условность внутри условности?» . Первые три лексемы приведённого фрагмента рассказа напрямую относятся к семантическому полю лексемы «призрачность». Фантом (от греч. phantasma - видение, призрак) - причудливое явление, призрак, привидение. Оптический эффект -зрительная иллюзия, искажение реального видения. Камера-обскура (от лат. camera - комната - и obscura - тёмная) - известная со Средних веков тёмная камера с одним миниатюрным отверстием, способная проецировать на стену перевёрнутое уменьшенное изображение предметов, на которые направлено отверстие. В номинировании Петербурга «окном в Европу, в которое вместо стекла вставлен европейский пейзаж», заложена мысль о неорганичности, искусственности петербургской культуры.
Феномен двойничества в русской прозе 1990-2000-х годов как составляющая петербургского мифа
Двойничество принадлежит к числу основных феноменов петербургского литературного мифа. Зачинателем темы двойничества принято считать Н. Гоголя. От Гоголя эту тему унаследовал Ф. Достоевский, ставший её классиком. «Безумная идея раздвоения столицы - перенести (чего нельзя вырвать и перенести) её в призрачные болота и воздвигать там парадиз» легла в основу феномена петербургского двойничества.
В научной литературе существует несколько традиций в изучении этого феномена. Ряд серьёзных исследований посвящен историческому становлению двойничества. Это работы Л.А. Абрамяна («Особенности отражения дуальной организации в праздничной мифологии», «Человек и его двойник: к вопросу об истоках близнечного культа», «Об идее двойничества по некоторым этнографическим данным»), В.Л. Махлина («К проблеме двойника (прозаика и поэма)»), Дж. Фрезера («Золотая ветвь», глава «Опасности, угрожающие душе»), О.М. Фрейденберг («Поэтика сюжета и жанра»), К.Г. Юнга («Психология бессознательного»), Е.М. Мелетинского («О литературных архетипах»), М.М. Бахтина («Проблемы поэтики Достоевского», «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса»), П.К. Суздалева («Врубель и Лермонтов»), С.Г. Бочарова («Загадка "Носа" и тайна лица»), Д.С. Лихачёва (в соавторстве с A.M. Панченко и Н.В. Поныр-ко - «Смех в древней Руси»), A.M. Панченко («Русская культура в канун петровских реформ») и других исследователей. Несомненной представляется тесная связь двойничества с дуальной структурой древних обществ и близнечными мифами.
Многие исследователи обращались к изучению феномена двойничества, но чаще всего такие попытки предпринимались в контексте творчества того или иного деятеля культуры. Теоретическое обоснование феномена двойничества представлено в работах М.М. Бахтина и В.Л. Махлина. Опираясь на концепцию «Другого» М.М. Бахтина, В.Л. Махлин интерпретирует двойни-чество следующим образом: Двойник - это такой «другой», который в то же время и я сам, и наоборот: это такое «я», которое само собой же не совпадает, сталкиваясь в какой-то момент с собой как «другим» вне себя. Двойник - это узнаваемый образ себя самого, который с собою никогда вполне не совпадает, как личина не совпадает с лицом1.
Именно с позиций такого подхода проблема двойничества рассмотрена в настоящем исследовании: это самоотчуждение личности, расщепление её сознания на две противоположные сферы, отрицающие друг друга, внутренний разлад со своей сущностью, персонифицирующейся в образе двойника, который осознаётся как реально существующий. Тот, в ком герой видит самого себя, кого он признаёт своим двойником, и определяет глубинную сущность человека. Взяв за основу и сохраняя данный инвариант, петербургская проза 1990-2000-х годов существенно обогащает его многообразными значениями.
Феномен двойничества проявляется в связи с обращением современных прозаиков к внутреннему миру своих героев, к глубокому познанию их психики. Наиболее яркий и показательный в этом плане пример - роман Д. Вересова «Третья тетрадь». Неслучайно это произведение обозначено писателем как роман-отражение. Интересные отношения двойничества устанавливаются в романе между обычной петербургской девушкой Катей и Аполли-нарией Сусловой, роковой возлюбленной Ф.М. Достоевского. В романе связь между Сусловой и её современным воплощением Катей названа связью между жертвой и посредником. Аполлинария Суслова - жертва для петербургского антиквара Даниила Даха: одна из сюжетных линий романа - поиск неизвестной биографам Достоевского тетрадь с записками Аполлинарии. Катя играет роль посредника между охотником (Дахом) и жертвой (Сусловой). Попытка Кати (впоследствии сменившей имя на Аполлинария) утопиться в Неве становится отправной точкой её полного преображения. В момент нахождения в воде Катя погружается в прошлое: «На мгновение ей вдруг увиделся другой город, на другой реке, от воды которого пахло не острой свежестью, а почему-то затхлой рыбой и прогорклой мукой» . Другой город, который был явлен Кате в её видении, - это Нижний Новгород, где до конца 1850-х годов жила Аполлинария Суслова. С этой женщиной отныне фантастическим образом будет связана жизнь Кати, и девушка, не в силах ни понять, ни объяснить множество мистических совпадений, обречена будет проживать не свою жизнь.
В отличие от ряда образов, созданных в литературе ранее, Аполлинария Суслова не персонифицируется для Кати в образе реально существующего обособленного от неё двойника. Скорее, речь идёт об инкарнации возлюбленной русского классика, о духовном двойнике. Раздвоению сознания главной героини способствует влияние дисгармонической действительности, бездушного общества, которое её окружает. Компания приятелей, в которой Катя всегда была чужой, и молодой человек, оскорбивший девушку, толкают её на попытку самоубийства. После неудавшейся попытки суицида Катя по совету гадалки меняет имя на Аполлинария, и с этого момента начинается её полное слияние со своим «двойником» Сусловой. Заметим, что толчком к стремлению Кати кардинально изменить свою жизнь, отказу от собственной личности и самоотчуждению (смена имени) является ситуация её крайнего унижения, неприятия её окружением. Вспомним героя повести Ф.М. Достоевского «Двойник»: Голядкин встречает своего двойника, возвращаясь ночью с бала, откуда его прогнали.
Основная причина раздвоения сознания Кати - неизбежность влияния прошлого на настоящее и будущее, особенно если оно зафиксировано творчески, в данном случае - литературой. «Призрачный мир прошлого, не отпускающий из своих цепких объятий настоящее» расставляет перед героиней романа множество ловушек. Встреча с антикваром Дахом только усугубляет сомнения и противоречия Аполлинарии. Дома, где когда-то жил, работал, встречался с Сусловой Достоевский, мистическим образом заставляют героиню переживать, чувствовать то же, что много лет назад волновало душу Аполлинарии Сусловой. В поисках третьей тетради с записками возлюбленной писателя Даниил Дах фиксирует все реакции и впечатления Аполлинарии / Кати во время их прогулок по маршрутам Достоевского и Сусловой. Эмоции девушки, которые она выражает словесно, удивительно точно совпадают с дневниковыми записями Сусловой и фактами её биографии.
Двойственность самоощущения Аполлинарии переживается ею очень болезненно: «А жить разорванной, вернее, постоянно рвущейся пополам оказалось мучительно и невозможно»1. Корень страданий Аполлинарии и её духовного двойника Сусловой - в метаниях между «высокими требованиями и их низким воплощением». Возлюбленная Достоевского безуспешно пыталась стать писательницей, а её современная инкарнация Аполлинария всей душой стремится к славе и известности в театре, но сценический дебют девушки оказывается провальным: «Нет, творчество - это всё-таки не её планида. Из неё такая же актриса, какая из Сусловой писательница» . Неудачи Аполлинарии на актёрском поприще объясняются в романе неизбежным влиянием на судьбу девушки фактов биографии её знаменитой тёзки: «Неужели, идя сюда, он ещё на что-то надеялся? На блеск, на триумф, на то, что обычные правила игры окажутся вдруг нарушенными, и Аполлинария явится своеобраз-ной даровитой писательницей, то бишь в данном случае - актрисой?» .
И.Д. Ермаков, исследовавший мотивы раздвоения личности героев Ф.М. Достоевского, находит причину двойственности их самоощущения в противоречии между чувством собственной недостаточности, малой ценности и желаниями, фантазиями о собственной значимости1. Аполлинария в романе Д. Вересова так же жаждет обрести стабильное, устраивающее её положение в обществе, но не находит с ним гармонии. Духовный двойник, так называемый внутренний близнец, возникает у девушки вследствие психологической раздвоенности личности. Она постоянно говорит о чужом голосе, звучащем в её голове: « ... и тут вдруг я поняла, что это не моя мысль, что будто это кто-то другой за меня подумал и даже произнёс» .