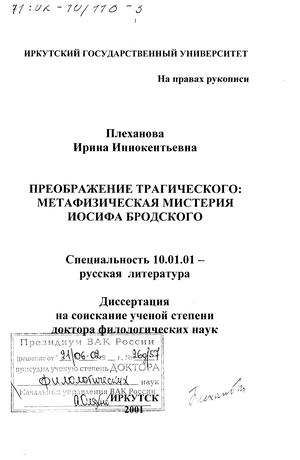Содержание к диссертации
Введение
Часть I. Преображение трагического. Эволюция философско-теоретических концепций Общие вопросы теории трагического 26
Литературоведческая практика исследования трагического: фактор времени 30
Синтезирующий потенциал трагического 34
С.Къеркегор: трагедия сознания 38
Воля к преодолению трагического 41
Трагедия познания XIX века в оценке века XX 46
Трагическое как историософская идея 48
Трагическое в нетрагедийном экзистенциальном сознании. М.Хайдеггер: бытийное как открытое 54
Трагическое как вероучение экзистенциализма 59
«Эдипов комплекс»: бегство от трагического как первооснова культуры 63
Массовое сознание и коллективное бессознательное в отношении к трагическому 70
Трагическое в культурологическом сознании 79
Постмодернистская игра против трагедии 83
Предварительные итоги и вопросы 92
Часть II. И.Бродский: под знаком бесконечности. Эстетика метафизической свободы против трагической реальности Предварительные замечания 98
Глава 1. Поэтическое осознание трагедии существования Экзистенциальная свобода - цель поэзии 99
Эстетика пантрагизма: «искусство подражает смерти » 101
Содержание лирического отчуждения 107
Лирический трагизм и классическая эстетика 114
Негативная трагическая истина в поэтическом выражении 119
Время и историческая истина 125
Трагизм и трагедия 133
Жизненные основания эстетики 144
Жизненное против трагического 153
Глава 2. Преображение бесконечности Общая формула 170
Притягательная и отталкивающая 171
Актуальность бесконечности 176
Бесконечность и бессмертие 181
Актуальная бесконечность 186
Бесконечность и небытие 189
Диалог как формула метафизического превращения а ) превращения и метаморфозы 193
б) диалог всеединства в метафоре 201
в) превращение как про-зрение 209
Явление бесконечности и времени в языке 219
Бесконечность, воспринятая изнутри 221
Бесконечность и Пустота
а) отрешение или возвращение? 227
б) «реанимация» Пустоты в духовном диалоге 234
«Критерий Пустоты» и игра со временем
а) образ времени в отчуждённом сознании 242
б ) поэтический язык как образ всецелого бытия 248
Поэтический язык как посредник между трансцендентальным и действительным 255
Язык как сознание 259
Лирический сюжет осознания и воплощения времени 266
Философская и поэтическая онтология языка 275
Игра как резонанс: сказывание и представление сокрытого 284
Идея Языка-Универсума в начале и в конце XXвека 291
Резонанс и поэтическая идея ритма 299
Итог игры с бесконечностью 303
Глава 3. Трагический абсурд и абсурд творческий Литература абсурда: эстетика отчуждения 305
Метафизический абсурд: органическая неочевидность одиночества 309
Экзистенциальный абсурд: обречённость времени и смерти 311
Эстетический абсурд в союзе с экзистенциальным против обыденного 313
Абсурд в борьбе за истину: гуманистическое отчуждение против иллюзий 316
Абсурд и парадокс отчуждения творческой воли от личного существования 320
Философское и поэтическое обоснование абсурда 322
а) Л.Шестов: адогматизм, реабилитирующий время 323
б) А.Камю: тупик абсурда как исток поэтического поиска 326
в) С.Кьеркегор: абсурд как диалогическое содержание невысказанного 334
Абсурд как эстетическая игра 337
Духовный потенциал эстетического абсурда 342
Абсурдное представление: явление идеи в голосах и рифмах 348
Театральное в абсурдной эстетике: слово как зрелищностъ и ценность 352
Экзистенциальный ужас и абсурдное сознание 358
Абсурд и теология: идея человека в отношении к невозможному
а) П. Тиллих: теологическое оправдание 365
экзистенциальной эстетики б) поэтическая метафизика и вера 369
в) диалог с трансцендентальным как уподобление Богу 372
г) божественное измерение души: абсурдный герой в отношении к смерти и бессмертию 374
д) уподобление и двойничество: истоки раздвоения сознания 377
е) открытие богоподобного потенциала героем: прозрение Слова, бесконечности, вины и призвания 380
ж) мистерия жертвы и явление языковой мистерии 383
з) теология языка 386
и) идея уподобления Богу в абсурдной форме: органичность воплощения 390
Призвание метафизического поэта: преображение трагедии в творчество 391
Предварительные итоги 396
Заключение 403
Литература 411
- Литературоведческая практика исследования трагического: фактор времени
- Синтезирующий потенциал трагического
- Эстетика пантрагизма: «искусство подражает смерти
- Притягательная и отталкивающая
Введение к работе
Феномен современной духовной ситуации - проблема разобщения творческого (художественного) поиска и интеллектуального его осмысления. Литература, особенно поэзия, сохраняет волю к обретению и утверждению истины, в то время как требование сугубой научности мышления о предмете исследования побуждает рассматривать соответствующую тенденцию как всего лишь вариант миропонимания и вполне субъективный. Такова не только постмодернистская позиция, настаивающей на своей объективности: «всё, принимаемое за действительность, на самом деле не что иное, как лишь представление о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель, и смена её ведёт к кардинальному изменению самого представления» (И.П.Ильин, 12, 348). Как ни парадоксально, но таково же и требование нравственной ответственности филологии: «она отучает человека от духовного эгоцентризма» (М.Л.Гаспаров, 9, 100), т.е. от навязывания предмету исследования (писателю, явлению, эпохе) собственной проблематики мышления. Даже если рассматривать деятельность литературоведа как особый тип сотворчества, диалога, то простая добросовестность требует признать: «один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? - вот в этом должен он дать отчёт, если он человек науки» (М.Л.Гаспаров, 8, 101). Таким образом, добросовестность претворяется в профессиональную авторефлексию, дабы сформулировать принципы научного анализа. Объективность, желая остаться таковой, избирает предметом рассмотрения тип и характер мышления, присущий эпохе, художественному направлению, отдельному мастеру, будь то эписте-ма, т.е. система познаний, порождённая «порядком, на основе которого мы мыслим» (М.Фуко, 37, 35), дискурс, монологический или диалогический (Ю.Кристева, 16), или же особенность художественного сознания автора.
Но художественное сознание современного автора, и не отдельного, а многих, обращено к разрешению метафизических задач -созерцанию целостного образа мира и определению собственного духовного участия в нём. Этому и служит разработка принципов
особого художественного мышления: «Если бы мы могли таким же взором видеть вселенную. Внутри и снаружи одновременно. Мета-метафора даёт нам такое зрение!» (К.Кедров, 13, 172). Те из «мета-метафористов», кто отрицает термин как «неуклюжий, выдуманный», тем не менее отстаивают призвание поэзии как «опыт антропологии», как расширение духовных горизонтов человека: «Дальний» - или «возможный» - или «будущий» человек. .. .Можно сказать и так: бесконечный, перешедший свою меру» (О.Седакова, 32, 161). Это прежде всего антропологический опыт прорыва в запредельное, трансцендентальное, и художественное творчество рассматривается как условие, а не цель движения: «У меня не столько эстетические задачи, сколько какие-то другие. Не хочу говорить духовные, но это какое-то постижение мной реальности через вещи, через людей, через себя саму, постижение чего-то иного. Это попытка получить знание, а какими средствами - мне более или менее безразлично» (Е.Шварц, 40, 201). Очевидно, художественные, творческие тенденции отнюдь не совпадают с тем, что в науке именуют «современным мышлением» и «концом метафизики», т.е. с сознательным самоопределением на основе «конечного человеческого бытия»: «так, философия жизни ниспровергает метафизику как покров заблуждения, философию труда - как отчуждённую мысль, как идеологию, философию языка - как эпизод культуры» (М.Фуко, 37, 338-339). Лирика и культурология существуют в разных плоскостях - как вера и знание, творчество и скепсис, таинство и рассудочная ясность по поводу причин и следствий. Проблема сосуществования двух истин - не просто проблема рассмотрения абсолютного как относительного, но проблема духовной соразмерности собственно художественной философии и рациональной концепции природы творчества. Открытия поэта нуждаются в истолковании, тем более это касается художественного сознания XX века, нацеленного на высказывание о невыразимом. И если сама природа лирики есть миропонимание, явленное через рефлексию поэтического языка и формы, то и анализ её невозможен без привлечения философского знания.
Глубинное родство лирики и философии подчёркивает именно традиция экзистенциализма, полагая его причиной природу самого
слова - как способа осуществления бытия в его идеальном выражении. Идеальном - и в значении совершенства (отточенность мысли), и в форме сущностного присутствия (мысль как осознание, т.е. явленное содержание сокрытого): «Всякая существенная речь вслушивается в эту взаимопринадлежность сказа и бытия, слова и вещи. Обе, поэзия и мысль, суть единственный сказ, ибо они вверены таинству слова как наиболее достойному своего осмысления и тем самым всегда родственно связаны друг с другом» (М.Хайдеггер, 39, 312). Таинство поэзии и философии - это процесс именования, будь то рождение образа или поиск определения, когда пространство языка превращается в ту реальность, через которую открывается самое существенное: «Поэзия, даже самая малопонятная, рождается в понимании и для понимания. На этом основана тесная связь поэзии и философии. Она кажется мне ещё далеко не достаточно оценена эстетикой» (Г.-Г.Гадамер, 5, 152). Второе основание для сближения - сам процесс рождения нового знания: как превозмогание известного, в том числе и устоявшихся речевых конструкций, т.е. сложившихся и окостеневших мыслительных схем. «То самое, подлежащее поэтическому высказыванию, всегда такое, что для него нет настоящей лексики в лексиконе..., но именование этого подлежащего по привычному приёму обозначения, якобы чем прямее, тем лучше, даст не просто слабый, а катастрофический результат» (В.В.Бибихин, 3, 131). Лирика обособляется от логического мышления как профанного, а миссия поэта соединяет в себе функцию демиурга, культурного героя и мессии: «Поэзия спасает то самое точностью именования... Там, где судья, критик, оценщик будет, не решаясь говорить от себя, ожидать объективных критериев, поэт стоит один. ...Ему дано право - не условно, без «допустим», «предположим», «постулируем» - назвать мир» (В.В.Бибихин, 3, 131). Столь высокая риторика предопределена третьей качественной особенностью: философия и лирика (не вся поэзия, а именно духовное переживание мира в осознанном единстве с ним), невозможны без постулирования бытийных опор сознания. В осмыслении их сознание определяет свою миссию, онтологизируя заодно и язык как средство собственного осуществления (так замыкается круг обоснований родства лирики и философии).
В поэзии XX века слово - объект постоянной творческой рефлексии и самоопределения: от деклараций божественной действенной природы («Слово» Н.Гумилёва, 1919) до слова-Психеи, обладающего собственной витальной силой и судьбой, сопричастной истории (О.Мандельштам, 23, 171). Даже в своей игровой стихии - «Я иду по улице, // Мир перед глазами, // И стихи стихуются // Совершенно сами» (Н.Глазков) - «последнее слово СЛОВА - // Откровенность на уровне откровенья» («Знаю я, что снова и снова...», Н.Глазков). Утверждение слова как Логоса, т.е. явления объективного Разума, характерно в середине века для отрешившегося от обэри-утской зауми в пользу натурфилософии Н.Заболоцкого: «И возможно ли русское слово // Превратить в щебетанье щегла, // Чтобы смысла живая основа // Сквозь него прозвучать не могла?» («Читая стихи», 1948). Но в конце века, когда философское сознание в лирике становится метафизическим, т.е. постигает таинства не природного, а духовного единства в общении с трансцендентальным, слово творится из молчания - как преображение тьмы и разрешение от замкнутости одиночества: «И где-то в стороне от взгляда ледяного, // свивая в смерч свою горчичную тюрьму, // рождается впотьмах само собою слово, // и тянется к тебе, и ты идёшь к нему» («До слова», И.Жданов). Словесная игра есть мистерия рождения смысла в диалоге неназываемого с человеческим сознанием.
Философ-экзистенциалист определяет контекст этого рождения как «речь» и, пользуясь средствами языковой игры, сформулирует идею онтологической расположенности всего быть осмысленным: «Сущее есть независимо от опыта, знания и постижения, какими оно размыкается, открывается и определяется. Но бытие «есть» только в понимании сущего, к чьему бытию принадлежит нечто такое, как бытийная понятливость. Бытие может поэтому не быть концептуализировано, но никогда - совершенно не понято» (М.Хайдеггер, 38, 183). Постигаемость через играющее слово - исходный пункт философии, онтологизирущей само знание. Но философ-неопозитивист переживает условность языковой игры как кон-венциональность мышления: «Всякая языковая игра основывается на узнавании слов и предметов. Мы усваиваем с равной неумолимостью и то, что это стул, и то, что 2x2-4» (Л.Витгенштейн, 4, 377).
Одновременно это и рефлексия по поводу качества мышления, степени его приближения к истине: «Языковая игра: доставка строительных камней, доклад о количестве имеющихся камней. Иногда их количество определяется на глаз, иногда же устанавливается путём подсчёта» (Л.Витгенштейн, 4, 391). Но неизбежность признания, что «понятие знания сопряжено с понятием языковой игры» (Л.Витгенштейн, 4, 391), ставит под сомнение саму онтологическую ценность слова: «Человек часто бывает околдован словом. Например, словом «знать». Неужели [сам] Бог опутан нашим знанием? (Л.Витгенштейн, 4, 375). Тогда главным вопросом философской рефлексии становится догадка: «как сомнение вводится в языковую игру?» (Л.Витгенштейн, 4, 377). И так - до бесконечности. Рефлексия, лишённая опоры, - это драма сугубо понятийного мышления, неактуальная для поэта, доверившегося именно игровой стихии языка, являющей себя сразу и в процессе, и в концентрации — в многоликости, многомерности и неизбывности: «Ты же, слово, царская одежда, // долгого, короткого терпенья платье, // выше неба, веселее солнца» (О.Седакова, «Слово»).
Лирика - это квинтэссенция экзистенции, т.е. бытийное переживание слова в насыщенном контексте поэтической речи - как утверждение собственной субъективности в единстве с миром. Экзистенциальная природа лирики - осуществление призвания через творческое освоение мира в бытийной игре слов и форм. Следовательно, методологической основой её анализа должно быть выявление взаимосвязи бытийных переживаний с осознанием игровой природы языка вообще и поэтического языка в особенности. И суть вопроса сводится к выбору конкретного подхода, обнажающего эту системную обусловленность, т.е. раскрытия духовного содержания не одной тематики, но и самих особенностей поэтического мышления. Явление концепции бытия через концепцию творчества, преломление её в разных элементах стиха требует системного фило-софско-эстетического подхода, вскрывающего внутреннюю срод-нённость разноплановых начал. Самоопределение поэзии среди иных модусов существования, феномен самосознания не только в языке, но и в поиске формы - тоже ответ на экзистенциальную проблематику, и исследовательский подход должен демонстрировать
этот духовно-эстетический синкретизм. Знаменательно, что для герменевтики «проблема современной лирики представляется... в гораздо большей степени проблемой эстетики, нежели поэтической техники» (Г.-Г.Гадамер, 5, 151). Речь идёт о специфике интеграции изобразительных и неизобразительных форм художественной деятельности: «Сложение смысла из фрагментов, характерное для «тёмной лирики» современности, пожалуй, в каком-то смысле, соответствует угасанию всех предметных значений, и единство всех родов искусства простирается достаточно далеко» (Г.-Г.Гадамер, 5, 151). Слово становится не живописным, но - представляющим, и остаётся главное - «поэтическое слово в силу своей внутренней по-нятийности особенно близко философскому понятию» (Г.-Г.Гадамер, 5, 155). Сделавшись неизобразительным - как «духовный знаковый материал» - оно остаётся сверхсодержательным, обладающим глубинным семантическим потенциалом, способным передать именно неисповедимое, невыразимое, неявленное.
Итак, лирика конца XX века остро сознаёт собственную экзистенциальную природу - как переживание бытийности в отрефлек-сированном слове, явление в перенапряжении творческих сил не физически и рационально воспринятого, но - духовного образа мира. Лиризм раскрывается как форма миропонимания, где эстетические принципы равны особому типу философского мышления, а оно направлено на поиск трансцендентальной истины. Анализ данной художественно-мыслительной тенденции требует выбора идеи-инструмента, которая могла бы раскрыть духовно-эстетический синкретизм, обладая сама экзистенциальным содержательным потенциалом и в то же время внутренней логикой художественного развития. Как представляется, категория трагического наиболее перспективна, поскольку является ключевой для экзистенциального миропонимания и равно принадлежит сразу и философии, и эстетике. Познавательно-аксиологический пафос трагического нацелен на определение сущностных закономерностей. Его синкретический потенциал должен быть предметом детального рассмотрения, но он изначально строится на особом диалогизме отношений «я» и мира, основополагающем для лирико-философского самоопределения -для творческого самосознания и представления закономерностей
бытия в отношении к личности. Рассмотрение особенностей трагического лиризма - насущная научная проблема, поскольку классическая трагическая проблематика - социальная, нравственная, историческая - не составляет собственную специфику поэтического сознания, оставаясь, безусловно, координатой, определяющей отношения личности с обществом. В лирике переживание трагического, уходящее корнями в экзистенциальную и этическую проблематику, должно обрести особые духовные горизонты именно в силу перенапряжения творческой воли и чуткости. Обострённое и - что не менее значимо - отчуждённое самосознание ищет общепонятное определение сокровенному, а связь с миром ощущается и непосредственно, и остранённо. В лирике, переживающей сознание как бытие, драма сознания раскрывается как изначальная драма бытия, пронизанного этим сознанием, а интенсивность избывания существования возводится в степень мировой закономерности. Лиризм и трагизм соприродны как духовные начала, исполненные не обязательно страдания, но - сверхнасыщения бытием.
Собственно лирическое истолкование трагического, помимо традиционной проблематики (конечность существования, обречённость на одиночество, невозможность совершенства в мире), ещё не стало предметом пристального анализа. Век XX, переполненный катастрофами социальными и духовными, породил трагическую литературу скепсиса, пессимизма и отчаяния, где истина - не цель героической борьбы, но причина сокрушения разума. По преимуществу это проза, и именно она была предметом анализа. Работы последних десятилетий сосредоточены на социальной или экзистенциальной проблематике, их пафос - исследование процесса преодоления безысходных конфликтов, что свойственно эпическому типу мышления и традиции восприятия героического как победы духа над обстоятельствами. Трагическое рассматривается в самом высоком значении - как мужество осознания глубины противоречий и тщетности надежд на разумно-позитивное устроение жизни (М.А.Лазарева, 20). Исследователи, разделяя трагедийное, т.е. обладающее потенциалом особого драматизма, и трагическое, как собственно художественную оценку событий, явлений, традиционно связывают последнюю с нравственно-гуманистической по-
зицией, воплощённой в прозе, в изображении объективных характеров (М.Б.Лоскутникова, 21). Обзор содержательной и художественной идеологии трагического в XX веке описывает процесс реабилитации самой категории в советской литературе и проникновение во все художественные сферы в общемировом масштабе, но приоритетной жанровой формой трагедии везде становится роман (П.Топер, 36). Смещение фокуса с трагического героического на обречённость обусловлено не только гибелью ценностей как имманентной характеристикой (М.Шелер, 41, 311), но крушением самого гуманизма, безысходностью и бессмысленностью как последней истиной человеческого существования. Но «пантрагическая» модель мира, отрицая действенность духовных ценностей, отрицала и метафизический аспект (П.Топер, 36, 39), тем самым уничтожая последнюю опору для философии трагического. Стоит ещё раз подчеркнуть, что все эти наблюдения касаются прозы, объективного представления человеческих судеб. Обращение к поэтическим формам (А.Пьяных, 26) касалось интерпретации исторических и социальных трагедий, но не собственно лирической философии трагического в его универсальном содержании.
Только С.Семёнова (33) связывает саму возможность «преодоления трагедии» с расширением метафизических горизонтов сознания. Прослеживая эволюцию представления «неразрешимых вопросов» в русской литературе XIX-XX вв. и экзистенциальной философии XX века, исследовательница возводит их к первопричине - переживанию смертной природы человека. Соответственно, извлечение «корня зла» связывается с обретением идеи бессмертия, будь то духовные прозрения Тютчева, религиозные идеи Достоевского или социальные деяния по преодолению смерти Платонова, «фиктивной» остаётся актуализация «я» у французских экзистенциалистов. Знаменательно, что идея «преодоления трагедии» на путях метафизики представляет «неразрешимые вопросы» разрешаемыми благодаря универсализации природы человека, т.е. той самой гуманистической вере в возможность духовного прогресса, обретения общей цели и утверждения общих норм - прежде всего в смирении свободы, в уважении жизни и разрешении тайн её продолжения, когда смерть - не конец, а физическое препятствие и испытание духа. В
конечном счёте, преодоление трагедии - это освобождение от обречённости волей духовного подвига, т.е. обретение подлинной свободы и превозможение собственной природы. Но это «преодоление созерцательного, медитативно-элегического переживания «проклятых вопросов», их трагической безысходности для человека, активный, творчески-преобразовательный подход к «роковым» противоречиям, пределам и границам земного человеческого удела» (С.Семёнова, 33, 3). Примечательно, что данный пафос деяния невольно ставит под сомнение ценность метафизического поиска в сугубо интеллигибельном его осуществлении, а утопия преодоления власти смерти - не только над сознанием, но и над человеческим существованием - утверждается как реально возможное деяние. Очевидно, что так трагическое возвращается к своему исконному началу - героической миссии спасения мира от гибели, как физической, так и духовной.
Итак, обозначилась тенденция к насыщению трагического миропонимания метафизическим, т.е. трансцендентальным содержанием, и она обусловлена изменением акцентов в экзистенциальном сознании и художников, и исследователя. Социальная, нравственная и натурфилософская проблематика сведена к проблеме переживания смерти и поиска бессмертия, конечное претендует на бесконечность и преодолевает собственную природу. Но мотив преодоления - как разрешения неразрешимого - взят из арсенала классической поэтики и не соответствует тенденции художественного мышления последних десятилетий с его пессимизмом и отчуждённой игрой иррациональными формами. Это противоречие — расширение духовного пространства мысли и сокращение его традиционных гуманистических оснований - нуждается в осмыслении и осмыслении на материале, обладающем особым потенциалом глубинного синтеза: философии, психологии, культурологии и поэзии. Основанием для сопоставительного рассмотрения означенной тенденции должна быть избрана именно категория трагического, экзистенциальная по самому своему содержанию и универсально присутствующая в любом разделе знаний о человеке. В общественных дисциплинах отбор материала диктуется их собственным отношением к проблеме трагического, которая обсуждается и в эстетике, и
в философии жизни и философии существования, и в психоанализе, и в истории культур. Но выбор собственно лирического материала должен быть обусловлен соприсутствием в творчестве поэта обоих аспектов: тяготения к метафизическому мышлению и острого переживания трагизма бытия в художественной рефлексии - т.е. сосредоточенностью на разработке особой философско-поэтической системы мышления.
Самым наглядным выражением названной тенденции является лирика И.Бродского. Его поэтическое определение сути собственного творчества звучало отчуждённо: он писал от имени тех, кто, «глядя в зеркало, смешивают эстетику с метафизикой» («Выступление в Сорбонне», 1989). Это лирическое самосознание строилось на выработке художественного миросозерцания (эстетика) как философии существования, прежде всего в пространстве мысли (метафизика). В литературе о Бродском отмечено особое качество остра-нённого сознания - как «отчуждение поэта от бытия» (Евг.Келебай, 14, 7), самоотчуждение (И.Кукулин, 17), «децентрация» (В.Полу-хина, 25, 147), «романтический гениоцентризм», когда «источником миростроительных смыслов станет... почти исключительно собственная поэзия», которая приведёт к созданию «рационалистической контрмифологии» (Дм.Лакербай, 19, 5) и собственного мифа (Евг.Келебай, 14, 25). «Собственный миф» - это, очевидно, та система онтологических явлений, которые образуют координаты духовного существования поэта, его представления о движущих силах бытия и художническая трактовка традиционных концепций.
Описанию философско-художественной концепции посвящены монографии М.Крепса, Л.Баткина, Н.Стрижевской, Евг.Келебая, кандидатские диссертации В.Куллэ, Дм.Лакербая и И.Абелинскене. Спектр опорных идей очерчен самим поэтом: мир отчуждён от человека, но им правят Язык и Время, которые сами пребывают в диалоге друг с другом, роль лирика - осознать эти онтологические силы в собственном движении к небытию, пустоте, ничто и обрести с ними духовное единство. В.Куллэ (18) рассматривает этот спектр на материале доэмигрантского творчества, устанавливая художественную преемственность Бродского с современниками (Ст.Красовицкий) и предшественниками (Баратынский в отношении
ко времени и О.Мандельштам в отношении к слову), но коренная идея творчества - противостояние разрушающему воздействию времени силой любви, памяти, языка. Дм.Лакербай анализирует «раннего Бродского» (1957-1965), определяя его творческий мир как «посмертную монархию, сообщающую человеческому времени новую длительность» (Дм.Лакербай, 19, 15), которая замещает смерть, что соответствует романтическому типу мышления в союзе с чувством экзистенциальной безнадёжности. Работы М.Крепса, Л.Баткина, Н.Стрижевской, Евг. Келебая рассматривают лирику Бродского не хронологически, но как целостное миропонимание в устоявшейся системе образов, постоянно сосредоточенное на проблеме сопротивления поэзии смерти и абсурду существования. М.Крепс (15) первый установил место поэта в ряду творцов метафизической лирики и определил круг соответствующих тем (смерть, ничто, любовь и одиночество, бессмертие языка и поэзии). Раньше других отмечена «вещность» лирики как поиск опор для отчуждённого сознания, как знак присутствия небытия и его равнодушия к человеку. Трагизм рассматривается как сознание экзистенциальной обречённости человека, и такая трактовка, ограниченная очевидным, сужает метафизический потенциал поэтической мысли. Л.Баткин (2) отождествляет пустоту и смерть, абсурд и беспросветность, а духовное разрешение безысходности отождествляет только с катарсисом безрелигиозного стоицизма, когда поэзия - едва ли не единственное оправдание существования - «смысл, смеющий в отсутствие надмирного смысла быть». Эта работа сосредоточена на комментарии особенностей миропонимания, высказанных художником практически непосредственно в поэтическом тексте.
Собственно философское истолкование взглядов Бродского сопряжено с методологической трудностью: как соотнести художественное явление мысли с определённой традицией - через выделение узнаваемых идей или акцентируя феномен совпадения самобытных поисков, устанавливая типологические закономерности, одинаковые для понятийного и образного мышления? Монография Евг.Келебая выдержана в ключе сопоставления миропонимания Бродского со сложившимися системами (экзистенциализм и религия), при этом рассматривается или специфика преломления идей
(С.Кьеркегор, Л.Шестов), или указывается ближайший аналог (позитивный экзистенциализм Н.Аббаньяно) и описываются пристрастные взгляды поэта на содержание мировых вероучений и его собственная апология Бога-Языка. Знаменательно, что сам подзаголовок монографии - «пролегомены к философии творчества Иосифа Бродского» - как будто освобождает от представления миропонимания поэта как некоей целостности: мифология и экзистенциализм «расхристанного язычника» просто сосуществуют, не будучи интегрированы сквозными идеями, пронизывающими всё целое. Причина состоит в объективной трудности определения самого типа философского мышления и позиции Бродского. Анализ фиксирует творческую переработку проблематики и несоотносимость до конца ни с экзистенциальной традицией, ни с какой-либо конфессиональной формой мышления (Дм.Радышевский, 27, А.Ранчин, 28, А.Расторгуев, 29). Общий вывод состоит в том, это не эклектика, но разработка глубоко оригинальной концепции бытия, строящейся на противоречивом единстве разнородного, но сама формула антино-мичного единства ещё не найдена.
Очевидным следствием невозможности сугубо философской интерпретации миропонимания Бродского должна быть сосредоточенность на расшифровке лирической метафизики, т.е. собственно поэтической идеи существования в абсолютных координатах: бытие - небытие, конечность - бесконечность, Хронос и Логос в их взаимопревращении. Методологическая трудность такого подхода состоит во всё той же проблеме научной объективности, т.е., во-первых, в необходимости соотнесения авторских сокровенных установок с имманентными закономерностями художественного мышления, во-вторых, в выработке формы изложения и комментария неизбежно пафосных творческих идей и, в-третьих, в сочетаемости мировоззренческих взглядов исследователя и поэта. И.Ю.Абелинскене, описывая познавательные и экзистенциальные позиции поэта, очевидно, исходит из аксиомы линейного восприятия времени и, соответственно, разрешения трагических конфликтов в творчестве, её дискурс - нейтрально-философический: «основой художественного мироотношения Бродского является дополнение стратегии отказа, нигилистической мироориентации, стратегией
позитивного утверждения личности в окружающей пустоте» (И.Ю.Абелинскене, 1, 11). Поэтому отношение поэта к смерти оценивается сугубо рационально - как «принципиальная несовместимость человека и мира» - и рассматривается, исключая возможность эмоциональной рефлексии и драматического акцента, как «переход от малореального к более реальному», исследование «Небытия как внеположенного «Я» смыслового целого» (И.Ю.Абелинскене, 1, 14). В рамках такого рассуждения сами познавательные принципы поэта объективно представляются средством разрешения муки обречённого существования, когда и Бытие, и Ничто - «лишь частицы Времени»: эта констатация трагического содержания мира «становится не итогом, а лишь началом бесконечности, выражаемой в поэзии единственным способом - совершенствованием языка, что является и путём расширения метафизических возможностей человеческой души» (И.Ю.Абелинскене, 1, 15). Но эти нейтральные по форме рассуждения продолжают пафос выступлений поэта со своим credo и представляют «язык, порождённый Временем и отождествлённый с ним», «формой Бытия, а не сознанием», поэтому миссия поэта, как он и говорил об этом, -«структурировать Хаос» стихом, «дисциплинировать язык» (И.Ю.Абелинскене, 1, 15). Исследователь опирается на те авторские высказывания, которые подтверждают установку на разрешение противоречий. Таким образом, игнорирование трагического как постоянно присутствующего мыслительного компонента исключает диалог с невозможным и рождает высокий образ героического преодоления антиномий: «в борьбе времени и пространства, языка и поэтического языка, времени и поэзии побеждает последняя» (И.Ю.Абелинскене, 1, 16). Более того, поэзия всегда оказывается в будущем, предстаёт как совершенствующаяся бесконечность, а власть поэта распространяется исследователем на сами онтологические явления - как возможность творчески влиять на их развитие. Так убеждённость поэтической веры захватывает и исследователя, что же касается типологических оценок, то мышление Бродского аргументированно относится к барочной модели художественного синтеза, представляющего мир на грани исчезновения, перехода жизни в смерть. Так представление метафизики поэта подчиняется
законам героической риторики, выпрямляющей рисунок его собственного художественно-экзистенциального мышления.
Наиболее глубокий и многогранный анализ творческой философии Бродского дан в книге Н.И.Стрижевской «Письмена перспективы. О поэзии Иосифа Бродского» (35). Эстетика поэта рассматривается как реальная и неопровержимая философия существования -«всякое стихотворение есть версия миропорядка» (Н.И.Стрижевс-кая, 35, 15), более того, «неизбежно и неотменяемо стих упорядочивает мир, ибо такова природа стиха» (Н.И.Стрижевская, 35, 18). Но, очевидно, речь идёт не о буквальном «усовершенствовании бесконечности», но об организации порядка в сугубо духовном пространстве. Отсюда и миссия поэта, сотворяющего форму, - «как подвиг сознания в борьбе с хаосом, моделирование времени с помощью стиха» (Н.И.Стрижевская, 35, 72). Знаменательно смещение акцента: не язык, а время как онтологическое явление обретает форму, причём - во взаимодействии с поэтом, ибо «творение стиха - единственная форма диалога со временем, то есть реальное бессмертие» (Н.И.Стрижевская, 35, 72). Но это особая, личная концепция, которая складывается из взаимодействия двух моделей восприятия -привычной, линейной, и обратной, когда прошлое уходит вперёд и память доминирует над надеждами на будущее. Это противоречие находит разрешение в образе времени-маятника, который универсально представляет и иные аспекты мировоззрения - и отказ от антропоцентризма, и модель сомнения, когда «духовный экстремизм» поэта не смиряется с необходимостью выбора между «верой и разумом, между эллинским и христианским видением, его выбор - это отказ от выбора» (Н.И.Стрижевская, 35, 149). Феномен несоотноси-мости творчества Бродского ни с одной системой миропонимания обрел образ определения, не столько метафорический, сколько архе-типический - как вариант идеи, присутствующей в сознании разных поэтов (Тютчев, Верлен, Анненский, Мандельштам), что есть свидетельство объективно значимой формы восприятия бытийных процессов. Что касается идеи «тождества языка и времени» (Н.И.Стрижевская, 35, 278), то она реализуется на основе закрепления в корневом значении слова смысловой ассоциации с понятием времени (веретено - время, мысль - мышь - миг).
Эти выводы рождены тонкими наблюдениями за поэтикой, объективные качества которой становятся предметом метафизической веры самого исследователя, как.например, собственная память слова в стихе, которая резонирует на все контексты, даже не осознаваемые автором, но она и обеспечивает, по Стрижевской, бытий-ность стиха. Соответственно, и представления исследователя о времени как стихии движения-уничтожения - аксиома общего сознания - рисуют духовное движение Бродского как безоглядное устремление в бесконечность, уводящее из быта в бытие, подобно пространству Петербурга или Венеции. Соединяющим началом в этом объективном движении является «нить голоса, ткущая ткань мироздания, она и непрочная и тающая как снег, и равносущая времени как холод, и вечная как мрамор. И она же Паркина нить судьбы» (Н.И.Стрижевская, 35, 239). Нанизывание метафорических ассоциаций, актуальных для поэзии Бродского, становится научным языком её описания, но следование за поэтом всё-таки уводит от объективных оценок, например, мотив ухода в бесконечность не позволяет представить формулу бытия диалогом, хотя слово «диалог» само явилось при описании отношений поэта со временем. Но, как представляется, диалог как формула обращения-возвращения особо значим для понимания метафизического существования поэта в здешнем мире. Мотив ухода в бесконечность становится общим местом рассуждений о метафизике Бродского (И.Абелинскене, 1, И.Служевская, 34), что свидетельствует больше о традиционном понимания небытия как разрыва со здешним миром, а бесконечности как инобытия, недоступного обыденному сознанию. В этом одно из коренных противоречий исследований о Бродском, ибо его идея слияния со временем как приобщения к бесконечности по крайней мере не тождественна интеллектуальному влечению к смерти, как можно полагать: смерть - «лицо искомой бесконечности, связка между человеком и Временем» (И.Абелинскене, 1, 14), «краткость, бренность, смертность человеческой жизни была гарантом вечности слова» (Н.И.Стрижевская, 35. 349). Последний тезис развивается в парадоксальное умозаключение: «именно смертность человеческой природы даёт право на творчество» (Н.И.Стрижевская, 35, 360), ибо жизнь обрекает человека на само-
повторения, а смерть становится воплощением Времени. Невольная апология смерти в стремлении определить её метафизическое значение - это попытка продолжить и уточнить мысль поэта.
В приведённых формулах нащупывается связь между глубоким поэтическим пониманием трагизма и открывающимися в нём новыми - метафизическими - горизонтами. Суть вопроса состоит в феномене претворения бескомпромиссного осознания безысходности в особое лирическое переживание, которое открывает в себе двойственное состояние бытия-небытия как их диалога. Это не переход одного в другое, а именно диалог, взаимозаинтересованное существование, в котором время - не разрушительная сила, а посредник и основа целостности. Необходимость преображения лирического начала как условие освоения целостности мира была намечена: «освобождаясь от границ «я» (а в пределе от самой жизни), оно постигает бытие и небытие как формы единой метафизической реальности» (И.Служевская, 34, 25) - но процесс этот рассмотрен как умозрительная операция, в которой трансцендентное знание открывается за счёт отчуждения от человеческого: «Метафизическое зрение, начинающееся с «шага в сторону от собственного тела», развиваясь, включает в свою орбиту взгляд вселенной, в которой нет места ни гуманизму, ни гуманоиду» (И.Служевская, 34, 27). «Взгляд вселенной», очевидно, не метафора, а образ сознания, поскольку, вслед за Хайдеггером, постулируется нуждаемость бесконечного в человеке - поскольку «бесконечное неспособно на самосознание» (И.Служевская, 34, 28). Но метафизический образ мирового разума не анализируется и не актуализируется, иначе сама тема «недостатка самосознания» потребовала бы анализа его составляющих: страдания от собственной неполноты, рефлексии, интен-циональности и т.д. Без акцента на трагедийность этого процесса неясна суть и содержание человеческого призвания в этом мире, как и цена его исполнения. Мысль Бродского, не подчиняясь логике ни одной системы, играет противоречиями не только благодаря собственной независимости, но и в силу скрытой, но глубокой прочувствованное мысли, образа, восприятия. Трагическая основа миропонимания не только не сужает «пространство перспективы», но позволяет ввести в круг изучаемых аспектов проблему не просто
абсурдности существования (Евг.Келебай, 14), но и метафизический потенциал абсурда. И, наконец, трагическое необходимо ставит вопрос о роли игрового начала в поэтическом осознании и представлении метафизической картины мира. Парадоксальность мышления Бродского общеизвестна, но место игры в раскрытии целостного образа бытия и небытия ещё не проанализировано, в отличие от «игры на чужом инструменте» (М.Крепс, 15), т.е. очевидной интертекстуальности. Но определение качества игрового фактора в сознании поэта позволит определить и логику рассуждения, и ту традицию, к которой он всё-таки принадлежит.
Итак, на основе вышеизложенного можно определить все характеристики данной работы. Цель - рассмотреть особенности трагического миропонимания в гуманитарном и художественном сознании, обращенном к метафизическим горизонтам. Трагическое как духовно и ценностно заряженная система мышления не может не участвовать в формировании идеи человека в конце XX века, будь то философия, психология, культурология или поэзия. Эта фило-софско-эстетическая категория обладает тысячелетней традицией и собственной логикой осмысления закономерностей бытия и человеческого существования, потому наиболее интересны и значимы вопросы взаимодействия её с принципами научного или особенностями художественного мышления. Экзистенциальная проблематика в интерпретации разных дискурсов открывает не только панораму современного понимания природы и содержания трагических противоречий, но и поможет осветить качество экзистенциального самосознания, свойственного разным типам мышления. Концептуальная заданность трагического и экзистенциальное напряжение лирического в диалоге формируют осознанную философию существования в творчестве, а специфика выражения трагического сознания в поэзии не может не влиять на его содержание и эволюцию духовных процессов. Трагическое сознание И.Бродского в художественном воплощении - образец современного безыллюзорного миропонимания и творческой воли, сосредоточенной на разработке метафизических основ собственной эстетической системы, цель которой - определить духовное призвание человека в век антропологических катастроф. Рассмотрение места и роли трагического в художествен-
ной концепции, отстаивающей приоритет эстетики перед этикой, создаёт предпосылки для научного анализа, способного выявить системную обусловленность сугубо творческих идей и жизненных поисков автора.
Задача исследования - рассмотреть внутреннее преображение трагического как системы мышления и его роль в осуществлении драмы метафизического поиска в современной лирике, т.е. обретения единства с миром в состоянии обречённости. Для этого необходимо:
исследовать синтезирующий потенциал самой категории трагического;
рассмотреть эволюцию её составляющих в связи с обновлением представлений о природе трагизма и образе трагического героя;
проследить изменение отношения к трагическому в разных системах мышления (философской, эстетической, психологической) XIX-XX вв., определяя его актуальность для духовной и социальной жизни;
проанализировать концепцию трагедийности существования Бродского в её эстетическом претворении и преображении составляющих начал;
раскрыть влияние трагического миропонимания на форму лирического самосознания и поиска духовной свободы не вопреки, а в соответствии с неизбежным;
оценить роль поэтических средств в осуществлении поставленной цели, т.е. определить метафизическое содержание самой образной системы;
выявить личностные и типологические аспекты в поэтическом и философско-эстетическом решении экзистенциальных проблем.
Предмет исследования - основные философские, культурологические и психоаналитические труды, повлиявшие на духовные и творческие процессы XX века, и корпус лирики, эссе, интервью и драматургия И.Бродского.
Актуальность работы обусловлена научной и общественной значимостью самой темы: трагическое в сознании мыслителей и ху-
дожника XX века, катастрофического и по содержанию событий, и по их духовным последствиям. Не менее значимо определение в лице Бродского значения и содержания метафизического поиска для современной лирики, его роль в развитии русской идеи всеединства.
Новизна работы обусловлена самим принципом параллельного рассмотрения духовных явлений в гуманитарном и художественном сознании. Трагическое анализируется не только в традиционных аспектах (историческое, социальное, нравственное), само изменение содержания философской составляющей в философско-эстетической системе мышления повлекло за собой трансформацию художественных проявлений и, соответственно, необходимость раскрыть метафизическое содержание абсурдного и игрового начал в лирическом трагическом миропонимании. Представление лирики, драматургии, философских поэм и эссеистики Бродского (вместе с его высказываниями в интервью) как единого эстетического явления, целостность которого обусловлена сосредоточенной разработкой метафизических идей в непосредственных высказываниях и художественном воплощении, раскрывает творчество поэта как экзистенциальную драму формирования, переживания и воплощения собственной концепции существования.
Методологической основой исследования является философско-эстетический анализ духовных явлений, т.е. рассмотрение идеологической концепции, сложившейся в философии, культурологии, психологии и лирике, как особых «ответов души на существование» (И.Бродский). Опыт экзистенциального истолкования явлений культуры (Г.-Г.Гадамер, 6, П.Рикёр, 30, М.Хайдеггер, 39, К.Ясперс, 44) -это опыт «созерцания того языка, в котором мы пребываем» (Г.-Г.Гадамер, 6, 11), т.е. философско-герменевтической рефлексии о мире и о формах высказывания, адекватных истине. Он позволяет соединить отчуждённость научной объективности с глубинной заинтересованностью в содержании рассматриваемых проблем. В применении к анализу лирического сознания и собственно поэтических форм философского мышления данный подход опирается на опыт мировоззренческого истолкования эстетики и поэтики, когда целые литературные периоды рассматриваются как разработка особой фи-лософско-художественной системы мышления (М.Л.Гаспаров, 7,
В.А.Сарычев, 31, Е.Г.Эткинд, 43), структурно-семантически анализ стиха в контексте времени и культурной традиции (Ю.М.Лотман, 22, М.Л.Гаспаров, 7а), целостное описание индивидуальных поэтических систем как «идиостиля» (В.П.Григорьев, 10, и др.), метафизическое прочтение образных исканий современной поэзии (К.Кедров, 13, М.Эпштейн, 42). В конкретном выражении философско-эсте-тический метод реализуется в системном рассмотрении круга идей и языка их высказывания во взаимообусловленности. Сопоставительный анализ прослеживает эволюцию и специфику осуществления определённых тенденций в разных дискурсивных моделях, требуя строгой системы сближения и дифференциации сходных явлений. В отношении к творчеству Бродского данный вариант системного философско-эстетического метода позволяет исследовать воплощение метафизической идеи единства Языка, Бытия и Времени посредством игры превращений в стихотворной форме, которая безусловно реализует концепцию поэзии как диалога художника с миром.
На защиту выносятся следующие положения:
трагическое является устойчивой парадигмой мышления, которая, несмотря на изменения социальных и духовных обстоятельств и ценностей существования, сохраняет, в силу внутреннего синкретизма, возможность диалогических отношений человека и мира и потенциал гуманистического развития сознания;
эволюция содержания категории в интерпретации разных типов мышления свидетельствует о насыщении её метафизическими аспектами миропонимания (восприятие бесконечности, Пустоты, Ничто, тайны Времени и Языка), обращение к которым свидетельствует о движении мыслителей и творцов к исполнению антропологического призвания;
метафизическая концепция Бродского реализуется не просто как перевод бесконечного на язык конечного, но как диалог этих начал в форме поэтического языка, взятого во всех своих параметрах;
этот диалог предстаёт как мистериальная игра, правила которой предопределены глубоко индивидуальной системой мышления
художника, разработавшего совершенно оригинальную систему адогматическую мышления и философию существования в форме поэтического творчества, соответствующего онтологическим закономерностям;
цель игры - преображение трагической безысходности в духовную свободу, разрешение метафизических тайн единства и взаимообусловленности бытия и не-бытия и определение роли человека в осознании этой стихии превращений;
лирический поиск Бродского, оставаясь эстетически и духовно неповторимым, представляет потенциал развития национальной идеи всеединства, осознанной адогматическим мышлением в диалоге с метафизической традицией мировой поэзии, что есть выражение общечеловеческого движения мысли к творческому освоению трансцендентального;
7) данный аспект исследования предполагает введение метафизи
ческой фразеологии в систему литературоведческого дискурса
как поиск языка, адекватного содержанию творческих идей и
особенностей мышления поэта.
Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в статьях, монографиях «Преображение трагического» и «Метафизическая мистерия Иосифа Бродского» (Иркутск, Изд-во ИГУ, 2001), в выступлениях на научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Иркутске, на семинаре в Констанце (Германия).
Практическая ценность: результаты исследования могут быть использованы в дальнейших разработках эстетических и мировоззренческих проблем русской литературы XX века, истории русской поэзии, в обзорных и специальных курсах, им посвященных.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух частей (вторая часть из 3-х глав) и заключения. Во ведении определяются цели исследования и выбор метода. В I части прослеживается эволюция парадигмы трагического миропонимания в гуманитарном сознании XIX-XX вв. Во II части анализируется метафизический образ мира в лирике И.Бродского и трагическое сознание как условие постижения целостности бытия. В Заключении творчество поэта оценивается как отражение и разрешение духовных коллизий XX века, рассмотренных прежде в философии, эстетике и психологии.
ЧАСТЬ I
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТРАГИЧЕСКОГО: ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
Литературоведческая практика исследования трагического: фактор времени
Актуальность применения категории трагического при анализе русской литературы XX века не вызывает сомнения, но столь же очевидно, что она не может соотноситься только с событиями исторического времени. Эстетика советского периода, даже стремясь уйти от идеологической заданности, не могла воспринимать время и историю в измерении человеческой души. Но обращение к Хроносу как составляющая трагического миропонимания появилось вместе с обособлением индивидуума и погружением души во внутренний космос. А.Ф.Лосев не включил категорию времени в обзор составляющих парадигмы трагического разных эпох и разных традиций. К.Ясперс, психолог и философ-экзистенциалист, настаивал, что трагическое «коренится не в «бытии», а во «времени» (Цит. по: П.Топер, 33, 39). Ссылка на немецкого исследователя позволяет автору обзора трагической проблематики в искусстве XX века сделать слишком категоричный вывод: «Трагедия всегда атрибут человеческой истории (или человеческой жизни), а не метафизики и не божественного провидения» (П.Топер, 33, 39). Т.Б.Любимова за основу своего исследования взяла именно проблему системной обусловленности идеи трагизма и восприятия времени. В результате выведены формулы взаимосвязи представлений о состоянии мира и темпоральной сущности в разных культурах. У древних греков участие рока в судьбе мирового целого содержало «идею времени, но не виде абстрактного времени, очищенного от событий, а, напротив, времени, насыщенного знанием (судьбе всё известно) и оценкой» (Т.Б.Любимова, 25, 29). Христианство переключает ощущение времени с «мгновенности катастрофы» на неизменность сакрального состояния мира: «единственно значимое событие - распятие и воскресение Христа - длится во все времена христианского мира. Это постоянное событие и постоянная величина, абсолютное значение, предел времени» (Т.Б.Любимова, 25, 38). В новую эру «трагическая история не происходит уже со всем космосом, она происходит в ограниченный промежуток времени (во времени), события касаются только участников; она локализована» (Т.Б.Любимова, 25, 48). Легко заметить, что в первом и во втором случае время общезначимо, и это, очевидно, исключает индивидуальные формы проживания его течения.
Но с открытием субъективности изменились модели восприятия и оценки: романтизм открыл и историзм, и образ краткости мига в наполненности его существованием («Мцыри», «Пир во время чумы»). Эксперименты со скрещением времён (Э.-Т.-А.Гофман, В.Ирвинг), мечта остановить мгновение (И.-В.Гёте) - усложнение концепции времени шло параллельно с обновлением содержания трагического, на статус общезначимого претендуют уже сугубо индивидуальные психологические образы мировосприятия. Но в исследовании Т.Б.Любимовой только исторический и культурологический образ времени остаётся критерием содержательности и подлинной ценности трагедийного чувства. В истинном трагизме отка
зано и «мировой скорби», т.е. априорно заданному мировосприятию, лишённому воли к полнокровному существованию, и пессимизму, и иным оттенкам предубеждённой «негативности» (Т.Б.Любимова, 25, 55). Тенденция к индивидуализации представления и переживания неразрешимых конфликтов, возобладавшая в XX веке, привела, по мнению Т.Б.Любимовой, к полной дискредитации человеческого разума, ценностному скептицизму, и, как следствие, «категория трагического распалась на составные элементы... Специфика состоит только в том, что «трагическое» в его негативности сохраняется как оценка, причём высшая и истинная» (Т.Б.Любимова, 25, 85). Оно по-прежнему являет бытийную антиномичность, но неразрешимость уже не несёт в себе духовное откровение - ни в открытии скорбной истины, ни в модусе её проживания, познание и воля к жизни разъединяются. Причина кризиса буржуазной культуры, по мнению Любимовой, в обособлении «трагического чувства жизни» (М. де Уна-муно), «трагического знания» (К.Ясперс) от социального бытия человека, под которым подразумевается активная гуманистическая позиция. «Индивидуализация» «онтологии трагического» ведёт к утверждению абсурда как сущностного единства смысла и формы, идеи и языка её воплощения, отсюда и «унижение» героя: «героем XX века становится человек без значения («человек без свойств»)» (Т.Б.Любимова, 25, 84). Напрашивается парадоксальный вывод, что обращение трагедии к жизненным основаниям личного существования лишает её витальной творческой силы, очевидно, поэтому классическая трагедия сходит со сцены, но отступления от чистоты формы с избытком компенсируются всепроникающей трагедийностью как мировоззренческой подоплёкой искусства.
П.Топер, констатируя вслед за своими предшественниками (В.Кауфман, 67, 68) смерть трагедии как собственно драматургического явления, подчёркивает её влияние на содержательную и художественную трансформацию романа как жанра наиболее гибкого и продуктивного (П.Топер, 33, 7), т.е. связывает катастрофический драматизм с социальной, исторической, экзистенциальной проблематикой, навязанной литературе историей. Отсюда появление нового литературного типа - «обречённого («проклятого») героя, средоточия «всей боли нашей эпохи», как Адриан Леверкюн из «Доктора
Фаустуса» Т.Манна (П.Топер, 33, 20), не деянием своим, но духовно ответственного за торжество зла. Стоит отметить, что этот персонаж родился ещё в лирике XIX века (Ш.Бодлер), поэзия обнажает духовные конфликты, которым суждено обрести социальную значимость. Отмечая тенденцию к дегуманизации трагического, его скрещение с комическим в самых жестоких и язвительных формах шутовства и гротеска, исследователь видит одну из причин этого в общей для всего времени незаинтересованности в человеке, и, как следствие, «трагические обстоятельства становятся для искусства важнее и интереснее трагического героя» (П.Топер, 33, 46). Наблюдение это и справедливо и ограниченно, поскольку даже в современной военной прозе есть и явления, его подтверждающие («Прокляты и убиты» В.Астафьева), и иные - выдвигающие на авансцену героя мысли, который отчитывается за причины крушения человека и общества («Стужа», «В тумане» В.Быкова). Совершенно очевидно, что без анализа субъективных и особенно лирических образов трагического невозможно ни содержательное, ни художественное понимание проблемы.
Синтезирующий потенциал трагического
Первооткрыватели трагического - древние греки - представляли его как космогоническое явление, т.е. первооснову бытия, когда «весь мир, космос предстаёт как некоторое единое трагическое целое» (А.Ф.Лосев, 24, 252), где развёртывается один бытийный сюжет, «С точки зрения аристотелевского учения о перводвигателе -нусе (уме), трагическое возникает, когда этот вечный, самодовлеющий ум отдаётся во власть инобытия и становится из вечного временным, из самодовлеющего - подчинённым необходимости, из всеблаженного - страдающим и скорбным. Тогда начинается человеческое «действие и жизнь». ... Это вовлечение ума во власть «необходимости» и «случайности» составляет бессознательное «преступление». Но рано или поздно происходит припоминание или «узнавание» прежнего блаженного состояния, преступление уличается и оценивается. ... Опознание преступления означает вместе с тем начало восстановления попранного, происходящее в виде возмездия, осуществляющегося через страх и сострадание» (А.Ф.Лосев, 24, 252). Очевидно, что общее явление и его художественная форма, трагическое и трагедия, отождествляются, так как это целостный динамический процесс: распад гармонии - прозрение ответственности - восстановление через покаяние, где все элементы - деяние, вина и катарсис - взаимосвязаны и необходимы, ибо Аристотель подчёркивал, что трагедия - «подражание действию важному и законченному» (Аристотель, 1, 651). Очевидно и то, что модус законченности, т.е. смысловой завершённости, исчерпанности коллизии вместе с «очищением страсти», обусловил жизнеполагающую силу трагедии: порядок восстанавливался, страх не порождал отчаяние, потрясённый социум переживал единство. Парадокс трагедии - в отождествлении судеб всецелого и конечного, в их зримом взаимоотражении, в том числе и парадокс социальной заинтересованности в индивидуальном - во имя изживания страстей, насыщения бытием отрезка времени.
Проблема вины как первопричины разлада, её содержание, происхождение и перспектива разрешения - ключевая проблема философии трагического. Именно здесь создаётся то самое неразрешимое противоречие и сходятся воедино свобода и необходимость в действии и сознании героя. Аристотелевский термин hamartia переводится М.Л.Гаспаровым как «ошибка»: первопричина коллизии в том, «человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки» (Аристотель, 1, 659). В наше время очевидна тенденция российского и зарубежного искусствознания к вымыванию морального акцента из определения первопричины страдания: «Современные комментаторы Аристотеля доказали, что термин «hamartia» означает не вину, а непреднамеренную, невольную ошибку, которая возникает при благом намерении» (В.П.Шестаков, 49, 102). Но понятие «вины» связано не только с сутью неправильного действия, но и с его переживанием и самооценкой. А.Ф.Лосев пользовался формулой «бессознательное преступление», чтобы подчеркнуть метафизическую универсальность трагического, включение этического долженствования в спектр первооснов мира. Без осознания ошибки как преступления, греха невозможно личное духовное участие в восстановлении нарушенной гармонии и, соответственно, переживание катарсиса. В «Поэтике» катарсис понимается как «очищение страстей посредством сострадания и страха» (Аристотель, 1, 651), но и в этой краткой формуле заложена модель, сочетающая открытие с узнаванием, познание истины с осознанием её извечности, непоколебимости, т.е. концепция времени-возвращения. Очищение не обязательно связано с восстановлением справедливости (как в «Медее» Еврипида), но признанием невозможности того, что случилось, т.е. в негативной форме утверждения непреложного, миропорядок укрепляется через остранение должного.
Индивидуальное мировосприятие, ориентированное на линейную концепцию времени, переживание времени как процесса, не может быть сосредоточено только на статическом чувстве вины и осуществляться в классической форме катарсиса. Преобладание духовного, а не нравственного конфликта (несогласие с миром, где зло торжествует над добром, протест против собственной конечности, обречённость на экзистенциальное одиночество, отчаяние от безобразия жизни, мука невыразимости и др.), когда трагедия - не завершается, но длится с перспективой, устремлённой в бесконечность, в продолженность непримиримости, преобразило поэтику. Переход от действия к состоянию изменили строй коллизии и ввели в круг элементов особый вектор преодоления безысходности при сохраняющейся неизбывности непримиримого конфликта. Трагическое становится не событием, но частью существования, аристотелевская идея завершённости превращается в идею нераздельности разнородного как модели мироустройства. Это не слишком напоминает гегелевскую диалектику, которая тоже видела трагическое как отражение мирового закона, воплощенного уже не во всевластии рока, а в осуществлении вечной справедливости, в том числе и в наказании за одностороннюю обособленность индивидуума, когда продолженность является как неизбывность.
Эстетика Гегеля зафиксировала переходный период от классической поэтики к романтическому искусству, она сохраняет идею завершённости, но тяготеет к продолженности. Великий диалектик особо подчёркивал духовную неразрешимость подлинно трагического конфликта, когда взаимоотрицанием равно правомерных позиций утверждается сама необходимость их осуществления, «и потому они в такой же мере оказываются виноватыми именно благодаря своей нравственности» (Гегель, 8, 576).
Эстетика пантрагизма: «искусство подражает смерти
И.Бродский принадлежит к тому ряду творцов русской культуры, для кого цель и ценность творчества состояли в том, чтобы «мысль разрешить». Его стихи, эссе, чрезвычайно ответственные высказывания в интервью и публичных выступлениях - всё это вместе есть явление в слове продуманной системы взглядов на бытие и творчество, включающей и сомнения и безусловные символы веры. Эта система сложилась в стремлении разрешить загадку смерти, т.е. обрести абсолютную свободу духа в обстоятельствах свободы относительной. Обретению экзистенциальной свободы - вопреки сознанию собственной конечности - служит разработанная философия творчества, понимание природы поэзии как особой духовной миссии, осуществляемой прежде всего в создании формы, содержательной во всех своих элементах. Основополагающий принцип философско-эстетической системы Бродского состоит в том, что искусство не несёт никаких обязательств перед действительностью, тем более перед обществом и государством - перед всем, что поэт называл «историей». Ни подражание (мимесис), ни озабоченность социальными проблемами (сфера идей), ни гуманистическое просвещение (сфера чувств) не могли стать содержанием творческой деятельности. Он отводил поэзии иное - временное - пространство бытия: «Обладающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности» (13, 8). Так постулируется имманентная свобода от детерминированности - материальной, исторической, социальной, нравственной, даже личностной, если речь идёт не о природе творчества, а о природе искусства вообще.
Достижение свободы, осуществление свободы - смысл и назначение художественной деятельности, не признание диктата действительности, не её оправдание, но противопоставление духовной правды всем остальным. Искусство есть несогласие с предопределённостью, не обязательно декларативное, демонстративное, но всегда -несмиренье духа, и в этом поэт расходился с доминирующей, в его понимании, национальной традицией миропонимания: «Русский человек привык расценивать экзистенцию как испытание, ниспосланное ему Провидением. Основная задача русской культуры и русской философской мысли сводится к одной простой формуле - оправдание своего существования. Охотнее на метафизическом, трансцендентном уровне» (53, 647). Можно не соглашаться с определением магистрального направления, но важно подчеркнуть, что свобода признания необходимости - даже высокоморальная свобода прозрения собственной вины в случае абсолютного произвола - была категорически неприемлема. Более того, поэт стремился к преодолению заведомых пределов и опирался на самых серьёзных предшественников, когда полагал, что художественное творчество есть движение к трансцендентальному: «Искусство - не про жизнь, хотя бы потому, что и жизнь - не про жизнь. Для Достоевского искусство, как и жизнь, - про то, зачем существует человек. Как библейские притчи, его романы - проводники, ведущие к ответу, а не самоцель» (9, 196). Свобода - в неуклонном духовном движении, исток которого - несогласие с произволом, в том числе с признанием власти трагических обстоятельств над собой, а искусство, творчество - осуществлённая свобода, вопреки всему, в том числе и вопреки трагедии. Очевидно, что с позиции сверхценности свободы и сама природа трагизма и поэтика представления отрицаемого трагического должны приобрести своё особое толкование.
Притягательная и отталкивающая
Понятие бесконечности имеет пространственный и временной аспекты: беспредельность мира и вечность бытия - то и другое сводят к абсолютной ничтожности бытие человека, что не может не вызвать сопротивления. Но самое беспокоящее качество бесконечности - это её умонепостижимость: аморфность, иррациональность и хаотичность в чередовании перемен. Именно об этом говорил «плачущий» Гераклит: «О чужеземец, я думаю, что жизнь человеческая несчастна и полна слёз, и нет в ней ничего неподвластного смерти; потому-то я вас жалею и плачу. И настоящее мне не кажется великим, а уж будущее и вовсе печально - я разумею мировые пожары и гибель Вселенной. Об этом я и плачу, а ещё о том, что нет ничего постоянного, но всё смешано как в болтанке (кикеоне) и одно и то же: удовольствие - неудовольствие, знание - незнание, большое -малое - (всё это) перемещается туда-сюда и чередуется в игре Вечности (Зона). - А что такое Вечность? - Дитя играющее, кости бросающее, то выигрывающее, то проигрывающее» (145, 180). Безмерность, неупорядоченность непосредственно связаны с чувством обречённости всего - человека и Вселенной, это переживание рождает в простых умах чувство страха и повергает в отчаяние мудрейших, но побуждает философов подчинить мир гармонии мысли, вплоть до упразднения образа хаотической бесконечности и замены её образом единого (М.Л.Гаспаров, 75, 156), мышлением о мире как о целостности. Парменид утверждал, что «Всё вечно, не возникло, шарообразно и одинаково, не имеет пространства внутри себя, неподвижно и конечно» (145, 278). Но неукротимость пытливого поиска, сомнений возбуждала ещё больший страх - перед «бесконечностью мысли» (М.Л.Гаспаров, 75, 212), за что Сократ и заплатил собственной жизнью. Очевидно, что проблема восприятия бесконечности - это проблема соразмерности человеческого духа необозримому, проблема, единственное решение которой - в способности мыслью охватить необъятное: представить силой воображения, заключить в формулу, отдаться чувственному переживанию - но в любом случае найти идеальное подобие и некий эквивалент, удовлетворяющий собственному видению. Если открывшаяся внезапно бесконечность ночного неба ввергает первобытный разум в безумие («Звёздный ужас» Н.Гумилёва), то И.Кант (напомним хрестоматийную фразу) решает проблему, уравнивая космос вселенский и нравственый в «Критике практического разума»: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне» (И.Кант, 92, 499). Так бесконечность лишается ореола зла: непостижимое равно онтологической очевидности, неизбывность, неистощимость уже не отпугивают, а напротив, свидетельствуют о равновеликости и равновесии микро- и макрокосмоса. Но - только потому, что само добро постулируется как безначальная и неистощимая потребность человеческой души. Сомнение в последней так же невозможно, как отрицание великолепия звёздного неба над головой, в то же время проблема личного бытия как бы растворяется между этими положительными безднами.
Но собственное решение Канта не отменяет проблему, Б.Паскаль, прежде него остро чувствуя не только присутствие, но и угрозу бесконечности, тоже искал возможность отождествления с безмерным - в любви к Богу. Человек сталкивается с зиянием двух необъятностей - мира и познания, человек ощущает свою ничтожность в сравнении с беспредельностью: «убедившись в невозможности познать когда-либо начало и конец вещей, он может остановиться только на наружном познании середины между тем и другим. Всё сущее, начинаясь в ничтожестве, простирается в бесконечность. Кто может проследить этот изумительный ход? Только Виновник этих чудес постигает их; никто другой понять их не может» (Б.Паскаль, 117, 65). Конечность человека - не только смертность, но ограниченность разума, который не может справиться с живой необъятностью. Но то, что ужасает философа, составляет поэзию существования для мыслителя-художника, Ф.Тютчев, подхватив паскалевский образ человека - «мыслящего тростника», который трепещет и ропщет на рубеже окружающей безмерности, слышит в ней призывный голос стихий: «Он нудит нас и просит... // Небесный свод, горящий славой звездной, // Таинственно глядит из глубины, - // И мы плывём, пылающею бездной // Со всех сторон окружены» («Сон»). Знаменательна форма и содержание этого диалога: это движение «я», распространяющееся сразу и в «мы», и в бесконечность, оно совершается в пограничном состоянии сна, но импульс движения исходит из самой Вселенной. Так снимается проблема конечности, исчезает всякое отчуждение - мировое и личное, преодолевается статика и замкнутость бытия. Состояние сна осознаётся как вневременное и вполне искупает то противоречие, которое терзало Паскаля при непосредственном восприятии времени: человек «носит в себе способность познавать истину и быть счастливым; но самой истины, постоянной и удовлетворяющей, в нём нет» (Б.Паскаль, 117, 79). По этой причине сон, даже мистический, не может увлечь мыслителя, для которого «жизнь - тот же сон, только менее непостоянный» (Б.Паскаль, 117, 97). Человек не может разрешить драму мыслью, ибо непереносима сама мысль: «Легче умереть, не думая о смерти, чем перенести мысль о смерти, не подвергаясь опасности» (Б.Паскаль, 117, 107). Интеллигибельное ничуть не меньше затрагивает жизненные интересы, чем реальная опасность, и, может быть, даже более - вследствие непреходящего, неразрешимого характера проблем, потому человек не может искать в себе развязку бытийного конфликта, в этом его трагедия: «бездонная пропасть должна быть наполнена только предметом бесконечным и неизменным, т.е. самим Богом» (Б.Паскаль, 117, 117). Замечательна эта потребность - не отождествление непостижимого с безмерностью, а её насыщение доступным пониманию - любовью.