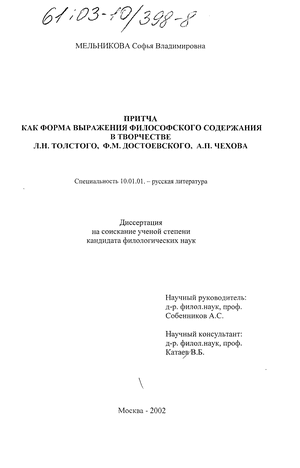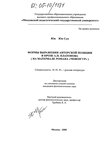Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Притча как способ выявления экзистенциальных отношений 18
Глава II. Притча и философский роман Ф.М. Достоевского 45
Глава III. Притча и дидактико-философская проза Л.Н. Толстого 80
Глава IV. А.П. Чехов. Притча: быт и экзистенция 113
Заключение 144
Библиография 148
- Притча как способ выявления экзистенциальных отношений
- Притча и философский роман Ф.М. Достоевского
- Притча и дидактико-философская проза Л.Н. Толстого
- А.П. Чехов. Притча: быт и экзистенция
Введение к работе
В литературоведческой науке и критике последних десятилетий наблюдается необыкновенный всплеск интереса к притче и притчевым формам. Как правило, исследователи сосредоточиваются на современной притче, видя в ней новый виток в развитии жанра, который связывают с движением притчи от дидактики в область философского и экзистенциального смысла. Притча воспринимается как одна из ведущих форм интеллектуальной литературы. К этому жанру относят произведения Ф.Кафки, Б.Брехта, У. Голдинга, К. Воннегута, Кабо Абе, Г.Г. Маркеса, Ч.Айтматова, В.Быкова и др. Можно выделить целый блок как отечественных, так и зарубежных работ, посвященных проблеме современной притчи: М. Эдельсон «Аллегория в английской литературе двадцатого столетия», Д. Рихтер «Конец басни», Р. Скоулз «Конструирование басен» и «Создатели басен», А.Г. Бочаров «Бесконечность поиска. Художественные поиски современной советской прозы», А.К. Ишанова «Жанр и функции притчи в советской прозе 70-х -начала 80-х годов», ЯЗ. Касемаа «О притче в современной советской прозе», а также ряд диссертационных сочинений, написанных по этой проблеме.3
1 Edelson М. Allegory in English Fiction of the Twentieth Century II Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literatura. Vol.15. Lonz, 1985. Richter D, Fable's End. Completeness and closure in rhetorical fiction. Chicago - London, 1974. Scholes R. Structural Fabulation. An Essay on fiction of the future. Notre-Dam-London, 1975. Scholes R. The Fabulators. New York, 1967.
Бочаров А.Г. Свойство, а не жупел / Бочаров А.Г. Бесконечность поиска. Художественные поиски современной советской прозы. М., 1982. С. 189-243. Ишанова А.К. Жанр и функции притчи в советской прозе 70-х - начала 80-х годов // Вестн. Моск.ун-та. Сер.9: Филол.1984..№6. С.27-31. Касемаа ЯЗ. О притче в современной советской прозе // Вестн. Ленингр. Ун-та. Сер. История. Язык. Лит-ра. 1977. вып. 2. С.71-75.
' Ишанова А.К. Функции притчи в советской прозе 1970-х - начала 80-х гг. Дис. . канд.филол. наук. Москва., 1984. Товстенко О.О. Идейно-художественные особенности современной притчи (на материале западно-европейской прозы). Дис. канд. филол. наук. Киев, 1989. .Магдиева С.С. Притчевость в современной многонациональной драматургии 60-80гг. Дис. канд. филол. наук. Ташкент, 1992. Климова Т.Ю. Притча в творчестве В.Маканина Дис. .канд. филол. наук. Иркутск, 1999. Колодий О.И. Притча и притчевость в украинской прозе 70-80-х годов XX столетия. Дис. канд. филол. наук. Киев, 2000. Цыбакова СБ. Классическая притча в современной художественной традиции. Минск, 2000.
4 Однако «открытие» экзистенциально-философского потенциала притчи происходит гораздо раньше - в литературе XIX века: в религиозно-философских трактатах С.Кьеркегора, романе «Моби Дик» Г.Мелвилла, а также в произведениях русских писателей второй половины века. Мимо притчи не проходит практически ни один заметный писатель того времени. Ее используют такие разные авторы, как И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.М. Гаршин, В.Г. Короленко. К притче обращаются и «три кита» русской литературы - Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов. Именно в их произведениях притча наиболее тесно связана с религиозной и философской проблематикой.
Вопрос о философской и экзистенциальной значимости феномена притчи у Достоевского и Толстого затрагивается в целом ряде исследований. Е.А. Акелькина в работах «Трансформация жанра притчи в «Дневнике писателя» Ф.М.Достоевского за 1876 год» и «Формирование философской прозы Ф.М. Достоевского («Дневник писателя». Повествовательный аспект)» рассматривает притчу в творчестве писателя как особую форму выражения философско-публицистического содержания. Роль притчи в выражении религиозных идей показана в статье В.Г.Одинокова «Религиозно-эстетические проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого», в которой автор большое внимание уделяет вопросу об использовании писателями притчевого слова. Проблему притчи как способа формирования и выражения отвлеченной философской идеи рассматривает в своей работе «О притчевой основе идей в романах Ф.М.Достоевского» А.Б.Криницын. С точки зрения исследователя, притча обеспечивает не логическое доказательство идеи, а «внутреннее, интуитивное постижение истинности или ложности какого-
Акелькина Е.А. Трансформация жанра притчи в «Дневнике писателя» Ф.М.Достоевского за 1876 год//Проблемы литературных жанров. Томск, 1983. С. 74-76. Она же. Формирование философской прозы Ф.М.Достоевского («Дневник писателя». Повествовательный аспект) // Творчество Достоевского: искусство синтеза. Екатеринбург, 1991.
" Одиноков В.Г. Религиозно-этические проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого // Русская литература и религия. Новосибирск, 1997. С.95-153.
5 либо утверждения». Особый интерес в этом контексте представляет творчество Чехова, сама философичность которого часто ставится под вопрос. Однако не так давно проблема притчи у Чехова как особой формы выражения философского содержания была заявлена в работах В.И.Тюпы «Художественность чеховского рассказа» и «Двуязычие чеховского рассказа: анекдот и притча».2 Исследователь утверждает, что специфическая философичность зрелого чеховского рассказа связана именно с притчей и создается за счет ее прорастания сквозь анекдот. Доля притчи в творчестве Чехова, по мнению В.И. Тюпы, особенно значительна, даже по сравнению с Толстым и Достоевским. С точки зрения автора настоящей работы, данная идея заслуживает внимания и дальнейшей разработки, как и в целом вопрос о роли причти в становящейся все более философичной русской литературе второй половины XIX века.
Очевидно, что вопрос о философском потенциале притчи, то есть о специфике притчевого содержания, должен решаться в контексте общей жанровой динамики. Специальных работ, посвященных притче как жанру в литературе того времени, немного. Среди них можно отметить ряд статей Е.В.Николаевой о притче у Толстого: «Жанр народного рассказа в творчестве Льва Толстого», «Притча в творчестве Л.Н.Толстого», «Сюжет о гордом царе в обработке Гаршина и Толстого» 3 и др.; диссертационное исследование Т.Соловьевой «Притчевая традиция в малых жанровых
См.: Криницын А.Б. О притчевой основе идей в романах Достоевского// Вестн. Моск. ун-та. Сер.9, Филология. 1993. №5. С.54-59.
2 Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. Он же. Двуязычие чеховского
рассказа: анекдоти притча. Новосибирск, 1989.
3 Николаева Е.В. Лев Толстой и древнерусская литература: (Проблема творческого освоения
древнерусского литературного наследия). Автореф. дис.канд.филол.наук. М., 1980. Она же.
Древнерусские литературные традиции в становлении жанра народных рассказов Л.Н.Толстого
// Литература Древней Руси. М., 1981. С. 127-139. Она же. Жанр народного рассказа в
творчестве Льва Толстого // Жанровое своеобразие произведений русских писателей XVII1-XIX
веков. М., 1980. С.67-68. Она же. Некоторые черты древнерусской литературы в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир» // Литература Древней Руси. М., 1978. Вып 2. С.96-1 13. Она же.
Притча в творчестве Л.Н.Толстого // Литература Древней Руси. М., 1988. С.114-127. Она же.
Сюжет о гордом царе в обработке Гаршина и Толстого. М., 1999.
формах повествовательной прозы последней трети XIX века», ' рассматривающее притчу в творчестве Толстого и Чехова; пособие Калениченко О.Н. «Малая проза Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и писателей рубежа веков: (новелла, святочный рассказ, притча)»; книгу В.Е. Ветловской «Поэтика «Братьев Карамазовых»,3 в которой значительное место уделяется вопросу о притче; работу В.И. Тюпы «Анекдот и притча у Чехова» , а также статью В.А. Михнюкевича «Притча», помещенную в недавно изданном под редакцией Г.К. Щенникова словаре «Достоевский: эстетика и поэтика».5 Отдельные замечания о своеобразии жанровой формы притчи у «позднего» Толстого содержатся в работах Е.Н.Купреяновой, М.Б. Храпченко, Е.А.Маймина б. Проблема притчи у Чехова затрагивается в работах Э.А.Полоцкой, М.Штерн.7
Однозначного понимания притчи не существовало никогда. Так, неоднородны библейские притчи. Непосредственно в тексте Священного Писания древнееврейским словом машал, которое традиционно переводится на русский язык как «притча», называют афоризмы царя Соломона в Книге Притчей Соломона, а также поучения, встречающиеся в
Книгах пророков и притчи Иисуса. Притчи Соломона - это нравственные или философские сентенции, как правило не содержащие иносказания или аллегории, близкие народным поговоркам. Евангельские притчи также
Соловьева Т. В. Притчевая традиция в малых жанровых формах повествовательной прозы последней трети 19 века. Дис канд. филол. наук. Днепропетровск, 1999
: Калениченко О.Н. Малая проза Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и писателей рубежа веков: (новелла, святочный рассказ, притча): Учеб. Пособие по спецкурсу. Волгоград, 1997. ' Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977 4 Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. С.13-23.
Михнюкевич В.А. Притча // Ф.М.Достоевский: эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1999.
'' Купреянова Е.Н.Эстетика Толстого. М.- Л., 1966. Маймин Е.А. Лев Толстой. Путь писателя. М., 1978. Храпченко М.Б. Перелом в мировоззрении Толстого, рассказы и повести 80-90 х. гг. // Храпченко М.Б. Толстой как художник. М., 1978. С.220-256.
7 Полоцкая Э.А. А.П.Чехов. Движение художественной мысли. М., 1979. С. 57. Штерн М.С. Философско-художественное своеобразие русской прозы XIX века. Омск, 1987. С. 76-83
Кроме того, в Библии встречается характерное главным образом для фольклора использование слова притча в значении «случай»: Я истреблю Израиля с лица земли, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов» (3-я Царств, 9:6-7)
7 могут иметь форму изречения, но чаще представляют собой краткие сюжетные рассказы. В отличие от притч Соломона, они обязательно содержат иносказание и нуждаются в толковании. Таким образом, само слово машал не было однозначным. Оно означало «всякое «хитрое» сочетание слов, для создания и восприятия которого требуется тонкая работа ума: «афоризм», «сентенция», «присказка», «игра слов», наконец, загадка и «иносказание». Если мы спустимся пониже, присказка может обернуться дразнилкой, как это имеет в виду вошедшее в русский язык библейское выражение «стать притчей во языцех».1 Очевидно, под влиянием семантики этого слова складывается понимание притчи и в дальнейшем.
Как утверждается в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, в Древней Руси под притчей понимали и пословицу, и просто меткое изречение, «название притча носило всякое аллегорическое объяснение какого бы то ни было предмета», притчу не отличали от басни (басни Эзопа называли притчами), в ходу было и такое словоупотребление, как «какое-либо несчастие или неожиданный случай («Эка притча приключилась»)». Но в то же время притча осознавалась и как род дидактической поэзии. В этом смысле притчами называли евангельские притчи, притчи из Прологов, а также ряда переводных повестей («Повесть о Варлааме и Иосафе», например). Но даже «с именем притчи из Св. Писания наш древнерусский грамотник не соединял определенного взгляда: всякое непонятное для него изречение из Св. Писания он называл притчей. С другой стороны, любя аллегорическую форму, он находил притчу в Св. Писании там, где по смыслу самого Писания ее не было» . Таким образом, аллегоричность, иносказательность, дидактизм, афористичность и просто замысловатость одинаково входили в понятие притчи. Но ни одно из этих качеств не могло быть ни определяющим, ни исключающим другие. Не было четких
1 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 159. " Энциклопедический словарь/ Брокгауз и Эфрон. СПб. Т.49. 1898. С.266.
8 критериев притчи и в формальном отношении: притчами называли и пословицы, и сентенции, и сюжетные рассказы, и даже драматические и поэтические произведения.
Недифференцированность понимания сохранялась и далее. Так, А. Сумароков и М. Ломоносов называли притчами свои басни. В произведениях романтиков притча существовала главным образом как аллегория, аполог (произведения В.Одоевского, например), часто принимала поэтические формы (притчи В. Кюхельбекера).
На сегодняшний день можно выделить два центральных определения притчи - как аналогии и как жанра. Первое больше характерно для западного литературоведения, второе - для отечественного, хотя, конечно, каких-то строгих ограничений в их использовании нет, очень часто эти определения накладываются и дополняют друг друга. В западной эстетике отправной точкой в изучении притчи становятся идеи Г.В.Ф.Гегеля, видящего главную особенность притчи в том, что она «берет события из сферы обычной жизни, но придает им высший и более всеобщий смысл, ставя своей целью сделать понятным и наглядным этот смысл с помощью повседневного случая, рассматриваемого сам по себе». В ряду родственных ей явлений (символа, аллегории, иносказания, басни) притча, по Гегелю, выделяется тем, что может раскрывать «высший и всеобщий смысл «обычной жизни». «Отношение между образом и смыслом» лишено в ней «двусмысленности символа» и имеет форму «сравнения».1 «Притча представляет свою индивидуальную историю как аналог, метафору тому миропорядку, который существует в широкой реальности», - продолжает мысли Гегеля современный зарубежный исследователь М.Уолтерс.2 «Притча (от греческого parabole, что значит «находящийся (помещенный) позади») предполагает некую транспозиционность, которая сравнивает и противопоставляет эту историю с той идеей... Притчи выстраивают
1 Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4-х т. М., 1969. Т.2. С. 100-104.
Цит. по Товстенко О.О. Идейно-художественные особенности современной притчи (на материале западно-европейской прозы). Дис. канд. филол. наук. Киев, 1989.С.20
9 аналогию между обыденными примерами (случаями) человеческого поведения и человеческим поведением в целом», - утверждается в энциклопедии «Британника».' В отечественной науке близок к этой позиции оказывается А.А. Потебня, называющий притчей форму параболы или сравнения, в которой общее представлено постоянно повторяющимся явлением, то есть всеобщим."
Однако в целом отечественное литературоведение оказывается сосредоточенным не на структурных основаниях, а на поэтике притчи. Направление такому пониманию задает статья С.С. Аверинцева «Притча», помещенная в ряде энциклопедических изданий. По С.С.Аверинцеву, поэтику притчи отличает «исключение описательности «художественной прозы» античного или новоевропейского типа: природа или вещи упоминаются лишь по необходимости, не становятся объектами самоцельной экфазы - действие происходит как бы без декораций, «в сукнах». Действующие лица притчи, как правило, не имеют не только внешних черт, но и «характера» в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед нами не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты эстетического выбора. Речь идет о подыскании ответа к заданной задаче». Подобное определение предполагает понимание притчи как жанра и, соответственно, выделение некоего жанрового эталона. Ориентиром для этого становится поэтика евангельских притч и в целом Библии («Поэтика Библии - это поэтика притчи») , а также поэтика средневековой дидактико-аллегорической притчи. «Для определенных эпох, особенно тяготеющих к дидактике и аллегоризму, притча была центром и эталоном для других жанров, например: «учительная» проза ближневосточного круга (Ветхий Завет, сирийские «Поучения Акихара», «машалим» Талмуда и др.),
1 Britannica.V.23. Р. ПО.
2 Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 483.
3 Аверницев С.С. Притча. // Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. К., 2001. С. 147-148.
4 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. 94.
10 раннехристианской и средневековой литературы»,1 - пишет С.С.Аверинцев. Данное определение, однако, не охватывает всего объема явления: оно описывает жанровый эталон, но не жанровый инвариант, не учитывает исторической динамики явления.
В науке последних десятилетий притча превращается в чрезвычайно
популярный термин, зачастую подменяющий многие другие. Характерной
чертой современного восприятия притчи можно назвать размывание
притчевых границ, стремление отнести к притче любые условные формы -
любое метафорическое, символическое и просто философски-обобщенное
пересоздание действительности. Эти тенденции в равной мере характерны
как для отечественного, так и для западного литературоведения. Так, в
работе Р. Скоулза «Сочинители притч», где в одном ряду
рассматриваются А. Мердок, К. Воннегут и Р. Барт, речь идет уже не столько о жанре притчи, сколько о своеобразном притчевом мировоззрении, притче как способе воссоздания действительности. То же можно сказать и о работе Д. Рихтера «Конец притчи. Завершенность риторической прозы», в которой исследователь предлагает список притчевых произведений, созданных в XX веке. И список этот весьма солиден. «Сочинителей притч в настоящее время легион, - пишет Д.Рихтер, - их имена - перекличка самых интересных писателей», многие притчевые произведения при этом он признает настоящими шедеврами.2
Однако необходимо отметить, что в англо-американской интерпретации притчи существует и прямо противоположная тенденция -тенденция к нивелированию притчи, подмене ее самой другими понятиями. Подобный подход прослеживается, например, в работах Э.Флетчера «Аллегория: теория символической формы» и М. Эдельсон «Аллегория в английской беллетристике XX века». Понятие притчи в этих работах оказывается в «страдательном залоге»: оно фактически не
1 Там же. С.94.
2 Richter D. Fable's End. Completeness and closure in rhetorical fiction. Chicago - London, 1974,
P.184.
выводится за рамки аллегории, по крайней мере, авторы не выделяют каких-либо черт, которые отделяли бы притчу от этого явления. Понятие «притча» становится своего рода дубликатом понятия «аллегория» и тем самым утрачивает самоценность'. Но, на наш взгляд, это не меняет существа вопроса о расширенном понимании притчи, поскольку сама аллегория «воспринимается не как фиксированный литературный жанр, а как некое измерение или модус намеренной косвенности, двойственность значений». При этом смешиваются не только притча и аллегория: аллегорическим называют любое произведение, основанное на мифологемах, символах, архетипах. «Развитие новеллистического направления аллегории протекает в зависимости от того, в какой степени прозаики привносят рок, необходимость, демонизм и космологию в свое повествование. Эмиль Золя использует теорию естественного отбора, Лев Толстой - веру в историческую судьбу, Федор Достоевский - фатальность сумасшествия и невроза....Даже такой сверх натуралист, как Антон Чехов, создает эмблемы вишневого сада и чайки в своих одноименных пьесах. ... Современная аллегория не ставит перед собой примеров или моделей, хотя сюрреализм и обеспечивает доминирующий стиль прерывистого фрагментарного изображения». В целом делается вывод, что дальнейшее направление использования аллегории, направление ее трансформаций неопределенно.
Если зарубежные исследования, посвященные притче, - это в основном специальные теоретические работы, содержащие заявку на системность, то специфика отечественного изучения притчи состоит в том, что данная проблема разворачивается, главным образом, в условиях журнальной полемики, что накладывает определенный отпечаток на саму постановку вопроса. В 70-е годы, время наиболее пристального внимания к притчевым формам, притча рассматривается в рамках дискуссии,
1 См. об этом: Товстенко О.О. Идейно-художественные особенности современной притчи (на материале западно-европейской прозы). Дис. канд. филол. наук. Киев, 1989. С.8-10. : Bntannica.V.23. Р. 114.
12 посвященной более широкому вопросу - вопросу об условности в литературе. Эту дискуссию разворачивают журналы «Вопросы литературы» и «Литературное обозрение», а также «Литературная газета».1 Центральной темой, по существу, становится не специфика жанра, а право условных форм на существование в литературе социалистического реализма.
Определение притчи осложняется тем, что на настоящем этапе притча становится объектом не только литературоведческих, но и философских и культурологических исследований. В них она рассматривается не как литературоведческая категория, а как явление семиотики и феномен культуры. Особого внимания в этом ряду заслуживают работы Т.В. Даниловой, Ю.И. Левина, М.А. Собуцкого и особенно статья Н.Л. Мусхелишвили и Ю.А. Шрейдера «Притча как средство инициации живого знания»." В этой статье формулируется новое понимание притчи как особого типа коммуникации -экзистенциально-символического феномена. Рассмотрение притчи с философской и культурологической точки зрения одновременно как открывает новые горизонты в ее изучении, так и создает дополнительные трудности. С одной стороны, это позволяет раскрыть значимость притчи как особого типа коммуникации и найти ее отличия от близких ей форм (басни, идеологемы, анекдота) на дискурсивном уровне.
' Дискуссия «Современный литературный процесс и фольклор». Вопр. Лит-ры: 1976 - №8, 1977- №1,6. 1978 - № 3,5,11; «Факт и вымысел в литературе» - «Лит. обозрение»: 1978 - № 2,6.7, 1979 - №3,5,7; «Реализм и условность» - «Лит.газета»: 1978 - 4 марта, 5 апр., 12 апр., 17 мая. 24 мая, 7 июня и др. В обсуждениях принимали участие Л.Аннинский, П.Ульянов, Ч.Айтматов, А.Адамович, А.Кондратович, А.Бочаров, В.Кожинов, В.Левченко, М.Храпченко и др.
" Данилова Т.В. Архетипические корни притчи// Рациональность и семиотика дискурса. Киев, 1994. С.60-72. Левин Ю.И. Логическая структура притчи// Типология культуры. Взаимное воздействие культур: Труды по знаковым системам. Тарту, 1982. Вып.15. С.49-57. Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Притча как средство инициации живого знания // Филос. Науки. 1989. №9. С.101-104. Собуцкий М.А. Средневековые притчеобразные нарративы: общечеловеческое знание о структурах возможных событий // Рациональность и семиотика дискурса. Киев, 1994. С.72-86.
13 Весьма продуктивен, на наш взгляд, философский подход и в выявлении аксиологических и онтологических оснований данного явления. В его русле также лежит вопрос о роли притчи в построении философского дискурса. Но, с другой стороны, при рассмотрении притчи с философской точки зрения происходит подмена литературоведческой категории философской - и литературоведческий анализ лишается методологических оснований
Следствием подобного расширенного понимания притчи становится возникновение новых понятий, как-то: роман-притча, драма-притча, мифопритчевая проза,/притчевость (тот текст, который уже нельзя назвать притчей, опираясь на ее традиционное понимание, но в котором связь с притчей (больше идейно-эмоциональная) еще ощущается, называют притчевым, или притчеобразным). Все эти понятия, особенно притчевость, несмотря на высокую частотность своего употребления, отличаются расплывчатостью и нуждаются в дополнительном определении.
Как развести представление о притче как аналогии и сравнении и о жанре, возможно ли найти какой-то компромисс между представлением о притче как о роде дидактической поэзии - форме, находящейся на периферии литературного творчества, - и как о всеобъемлющем ментальном принципе, интеллектуальной конструкции, проникающей в различные сферы культуры? В каких отношениях притча находится с мифом, символом и аллегорией? Что такое притчевость и насколько оправдано введение этого понятия? Практически все эти вопросы на сегодняшний момент остаются открытыми, и каждый исследователь, обращаясь к притче, сталкивается с необходимостью поиска ее «рабочего» определения.
Достижение цели настоящего исследования также невозможно без решения такой задачи, как определение границ притчи, что подразумевает выявление ее формального, эмоционального и идейно-философского потенциала, отграничение от других родственных ей форм - символа,
14 аллегории, мифа, а также разведения понятий притча и притчевость. Эта задача является самостоятельной исследовательской проблемой. Но только преодолев ее, можно приступить к решению следующих задач:
анализу форм присутствия притчи в произведениях писателей; выявлению сущности притчевых трансформаций в их творчестве;
установлению зависимости использования разных видов притчи от специфики философских идей писателей;
сопоставлению творчества писателей в данном аспекте. Отличительной особенностью темы диссертации является сочетание
в ней теоретического и историко-культурного аспектов, и поэтому работа имеет двойной предмет исследования. С одной стороны, это явление притчи как литературоведческой категории, с другой - конкретные случаи использования притчевых форм в произведениях избранных писателей во взаимосвязи с их философскими исканиями.
Методы исследования и источники. В исследовании сочетаются метод структурно-семантического анализа и сравнительно-исторические принципы изучения художественного текста.
Особую роль для работы сыграли идеи М.М.Бахтина о «жанровой сущности» и об эволюции жаровых форм, что позволило выявить динамику притчевых форм и определить притчу через специфику выражаемого ею отношения человека и мира, то есть выявить онтологическую основу явления.
Поскольку наиболее разработанным является представление о
притче применительно к средневековой литературе, то в настоящей работе
используются изыскания в этой области ученых-медиевистов (Ст.
Добротворского, В.П. Адриановой-Перетц, Н.И.Прокофьева,
Л.И.Алехиной, Е.К Ромодановской, Д.С.Лихачева и др.)'
Добротворский С. Притча в древнерусской духовной письменности // Православный собеседник. Казань, 1894. № 4. С. 375-415. Адрианова-Перетц В.П. 1) Афоризмы изборника Святослава 1076г. и русские пословицы. ТОДРЛ. М.- Л.,1970. Т.25. С.3-19. 2) Библейские афоризмы и русские пословицы. ТОДРЛ. Л., 1971.Т.26. С.8-12. 3) Человек в учительной
Материалом исследования в теоретической части работы становятся библейские притчи, так как представление о притче в европейской культурной традиции связано главным образом именно с ними. Также привлекаются древнерусские притчевые тексты. Эти тексты основываются на библейских образцах, но демонстрируют использование притчевых форм уже непосредственно в художественном произведении. Восточные притчи практически не учитываются, поскольку на них опирается, в основном, современная литература, но не русская классическая литература, ориентированная на библейскую традицию. \ В работе рассматриваются проявления притчи не только в литературе, как современной, так и древней, но и в религиозных текстах, а также произведениях философов, прежде всего философов-экзистенциалистов, с творчеством которых связывают возрождение интереса к притче в современной европейской культуре. Подобный подход позволяет проанализировать явление в совокупности его взаимосвязей - не только как фиксированную художественную форму, но как целостный феномен культуры
Исследование опирается на обширный теоретический и историко-культурный материал. Библиография насчитывает 257 наименований, из которых 17- работы на иностранном языке.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования определяется тем, что впервые притча в творчестве избранных авторов рассматривается не как фиксированный дидактико-аллегорический жанр,
литературе древней Руси. ТОДРЛ. Л., 1972. 1.21. С.3-68. Древнерусская притча/ Сост. Н.И. Прокофьева, Л.И.Алехиной. Коммент. Л.И.Алехиной М., 1991. (Сокровища древнерусской литературы). Прокофьев Н.И. Древнерусские притчи и их место в жанровой системе русского средневековья // Лит-ра Др.Руси. М., 1988. С.3-16. Ромодановская Е.К. От цитаты к сюжету. Роль повести-притчи в становлении новой русской литературы// Евангельский текст в рус. литре XVII-XX веков. Петрозаводск, 1994. Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII-XIX вв. Новосибирск, 1985. Ромодановская Е.К. Русская литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. Тарковский Р.Б. Басня в России XVII - нач. XVIII в.// Филол. науки. 1966. .№3. С.91-109.
но в аспекте жанровых трансформаций. При этом предлагается несколько отличающееся от традиционного понимание самого жанра притчи. Изучение современного состояния проблемы, изменений в понимании явления заставляет сделать вывод о том, что представление о притче все больше смещается на содержательный, сущностный уровень, в область специфических «притчевых» значений. Универсальное определение притчи, очевидно, возможно только с точки зрения ее онтологической сущности (а не поэтических признаков, которые могут варьироваться). В настоящей работе предлагается интерпретировать притчу через специфику выражаемого ею типа соотношения человека и ( мира - как способ выявления экзистенциального содержания явлений. Такое понимание, по мнению автора, помогает вскрыть глубинную экзистенциальную сущность притчи, что, в свою очередь, позволяет по-новому взглянуть на использование притчи в творчестве избранных нами писателей, установить взаимосвязь использования притчевых форм с их философско-эстетическими исканиями, с самим типом философствования.
Практическая значимость исследования. Основные выводы диссертации могут быть использованы для подготовки лекций как по истории русской литературы, так и по теории литературы, а также при руководстве курсовыми и дипломными работами. Материалы диссертации могут быть включены в различные спецкурсы (например, «Вторичная условность в литературе» или «Эволюция канонических жанров», а также спецкурсы, посвященные творчеству анализируемых авторов).
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации изложены в докладах и сообщениях на ежегодных научно-практических конференциях «Студент и научно-технический прогресс» (Иркутск, 1998, 1999, 2000, 2001); Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 1999); Региональный филологической конференции молодых ученых (Томск, 2000); Региональной конференции учителей «Рождественские
17 чтения» (Иркутск, 2000); Региональной научно-практической конференции «Методика преподавания литературы» (Улан-Удэ, 2001); Международной научной конференции «Молодые исследователи Чехова» (Москва, 2001).
Цели и задачи исследования предопределяют структуру работы, которая состоит из 2-х частей - теоретической, посвященной определению притчи, и историко-литературной, рассматривающей функционирование притчи в творчестве избранных писателей.
Притча как способ выявления экзистенциальных отношений
Изучение современного состояния проблемы, изменений в понимании явления заставляет сделать вывод о том, что представление о притче все больше смещается на содержательный, сущностный уровень, в область специфических притчевых значений. Основным источником противоречий и размытости в определении притчи становится противоречие между тем «типично притчевым» содержанием, которое ощущается во многих произведениях, и их формой, которая часто не содержит никаких «типичных» черт притчевой поэтики (иносказания, аллегории, условности).
Пытаясь вывести определение притчи, очевидно, следует исходить из принципа разграничения формального и содержательного аспектов жанра. Так, еще Г.В.Ф. Гегелем жанры связывались прежде всего с типом осмысления «общего состояния мира» и типом конфликта. А.Н. Веселовский соотносил жанровые формы со стадиями взаимоотношений личности и общества. М.М. Бахтин ввел понятие «жанровой сущности», под которой подразумевал, как можно заключить из его работ, самые общие принципы освоения человека и его связей с миром. Г.Н. Поспелов, обобщая идеи своих предшественников, разграничивал все жанровые формы на «внешние» («замкнутое композиционно-стилистическое целое») и «внутренние» («специфическое жанровое содержание» как принцип «образного мышления» и «познавательной трактовки характеров»). На наш взгляд, притча относится к «внутренним» жанрам, и потому ее универсальное определение возможно только с точки зрения жанровой сущности - через выявление глубинных онтологических оснований явления и его коммуникативной природы. Онтологическая сущность притчи полнее всего может быть прояснена на примере библейских притч, по праву считающихся непревзойденными, вершинными образцами притчевого слова. Часто в библейской притче видят только дидактическое средство, способ адаптации идей для «непосвященных». Действительно, притча в составе Писания выполняет отчасти именно такую функцию: «...для чего притчами говоришь им? ... для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано...» (Мф.13: 10,11.). Но в то же время именно притчи вмещают в себя практически все учение Христа: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им ...» (Мф.: 13-34), «Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Мф.: 13-35). Притчам доверяется передача самого сокровенного знания. Цель евангельских притч не детерминация поведения человека, определение правил и законов, но передача «символов мироустройства». Они не задают ту или иную поведенческую модель, но стремятся прояснить законы, управляющие мирозданием, обнажить основные силовые линии бытия, помочь ориентированию человека в нем. Все содержание притч Иисуса -это проповедь о Царствии Божием. Условно эти притчи подразделяются на три группы: период подготовки Царствия, его распространения на земле, условия осуществления Царствия. Первые две группы поясняют структуру самого Царствия («Царствие Небесное подобно...»), третья -пути вхождения в него. Их смысл экзистенциален, а не идеологичен.
Один из самых знаменитых экзегетов древности Ориген главный принцип библейского повествования видел в передаче духовного и небесного посредством чувственного и земного. Сам же принцип соотношения чувственного и духовного, видимого и невидимого, явленного и сущностного у Оригена выражался именно через понятие притчи. Это понятие занимало одно из центральных мест в его экзегетике.1
Эту сущность притчи тонко улавливает Борис Пастернак, воспринимая притчу как образное, осязаемое воплощение одной из важнейших доминант христианского мироощущения - простоты формы и возвышенности содержания, сведения воедино «житейского» и вечного, мифа и истории. «До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии -нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна», - говорит один из героев романа «Доктор Живаго», романа, который сам во многом строится по законам притчи.2 Олицетворением этого принципа можно назвать самого Христа, «воплотившегося Бога -Слово.... и вместе с тем родившегося при Тиверии и пострадавшего при Понтии Пилате человека Иисуса».3 Итак, в Библии притча - это не просто отдельная повествовательная форма, это, скорее, один из основополагающих принципов мышления и изображения, в основе которого лежит представление о единосущности бытия.
Притча возникает только тогда, когда некая ситуация сопоставляется с чем-то, в самом процессе этого сопоставления. Например, евангельская притча о зерне: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). Изначально - это обычное житейское, «сельскохозяйственное» наблюдение. Но оно может стать притчей потому, что скрывает в себе некий архетип ситуации, некий общий закон существования: то, что применимо к зерну, применимо и к человеку. И только когда этот закон вскрывается благодаря сопоставлению с ситуацией в человеческой жизни, происходит осознание сказанного о зерне как притчи.
Притча создает неравновесную ситуацию, требующую для своего разрешения сопоставления двух фактов экзистенции. В процессе этого сопоставления вскрывается глубинное экзистенциальное отношение, некий предельный онтологический смысл, который никаким другим способом не может быть вскрыт. Это отношение и составляет суть притчи. Сущность притчи можно определить как установление связи частного события или явления с неким универсальным бытийным законом, выявление в этом событии или явлении глубинного экзистенциального смысла.
Притча и философский роман Ф.М. Достоевского
Романы Ф.М. Достоевского часто называют философскими. Однако произведения русского писателя значительно отличаются от классических образцов этого жанра, идущего еще от Вольтера. Как справедливо замечает С.С. Аверинцев, «обычно же Достоевский, которого можно представить центром русской философии, не выражает себя открыто в собственном говорении даже в той мере, которую предполагает для автора форма обычного романа, не говоря уже о так называемом романе «философском» в принятом смысле этого термина, т.е. в форме инсценированных диалогов и чисто иллюстративных эпизодов, притч, преобразованных в моралите, которыми обличены дидактические идеи...».1
Однако все эти элементы классического жанра не уходят из романа Достоевского, но переосмысляются в нем на новом уровне. Так, на месте искусственного, «инсценированного» диалога вырастает то, что М.М. Бахтин определит как «диалогизм» (однако «на месте» не значит «из», так как диалог в романах Вольтера - это лишь композиционный прием, в то время как диалогизм Достоевского - важнейшая мировоззренческая доминанта его художественного мира). Точно так же и притчи как иллюстративного элемента нет в романах писателя, но притча присутствует в них как универсальная бытийная парадигма, скрытая в сюжете всего произведения и, наряду с символом, дающая возможность косвенного, синтетического выражения сложнейших философских идей._)
Философия Достоевского, как и центральная часть русской философии конца XIX века в целом, - это религиозная философия. О связи произведений писателя с Библией и религиозным мышлением существует огромная литература. Уже давно выделены и описаны все евангельские мотивы, реминисценции, образы, цитаты, встречающиеся в его текстах. Так, установлено, что практически в основе всех романов «пятикнижия» (метафора говорит сама за себя) лежат библейские, главным образом евангельские сюжеты: легенда о воскресении Лазаря в «Преступлении и наказании» и о гадаринском бесноватом в «Бесах», история страстей Христовых в «Идиоте», евангельская притча о зерне, а также история Иосифа и его братьев в «Братьях Карамазовых». Эти тексты не являются притчевыми собственно в Евангелии (за исключением притчи зерне). Но многие библейские сюжеты, будучи составными частями религиозного мифа, вехами Священной истории, должны восприниматься не буквально, но как образы непреходящей истины, «боговдохновенные мифологемы, заключающие в себе истины Откровения»1, то есть образы неких идей, которые столь грандиозны, что могут быть выражены только прикровенно. Эти сюжеты несут в себе концентрированный, «матричный» смысл, являются сгустком общечеловеческого духовного опыта, и потому в последующей литературе они неизменно приобретают притчевое значение - в проекции на судьбы героев, относительно которых они выполняют парадигматическую роль.
Часто функцию библейских сюжетов в романах Достоевского определяют как символическую, а не притчевую . Но символ - это фиксированный образ, а здесь мы имеем дело с целыми сюжетами, ситуациями, в свете которых могут быть переосмыслены собственно романные сюжеты. История Раскольникова, например, прочитанная через притчу о Лазаре, не просто символизируется, углубляется, но переосмысляется. Все события романа начинают восприниматься как своего рода иносказание о духовной смерти и воскресении.
В романе четко прорисовываются два плана: внешний - собственно событийный план, управляемый логикой объективных обстоятельств и психологией главного героя, и внутренний - идейный, центральным событием которого становится «воскресение» героя. При этом сюжетный и идейный пласты связаны не так, как в обычном романе, где идейный вырастает непосредственно из сюжетного. «Воскресение», описанное «вдруг» в эпилоге романа, не вытекает из объективной логики повествования, в данном случае из психологии главного героя, который до самого последнего момента «не раскаивался в преступлении..., в чем одном он признавал свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною».(6, 416) Нравственное пробуждение описывается здесь как чудо, как нечто необъяснимое. Но в то же время оно давно ожидаемо с позиций иной логики - логики легенды о Лазаре, по которой «эта болезнь не к смерти, но к славе Божией...» (Ин. 11:4). «Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною?...Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь» (6, 416). То, что непонятно Раскольникову, изначально было ясно Соне («...и что настала же, наконец, эта минута» (6, 421)), поскольку единственной возможной для нее «логикой», единственной правдой как раз и была библейская история, и эта история не могла не повториться. Как отмечает В.Г.Одиноков, «тема воскресения проходит лейтмотивом через все произведение и обыгрывается автором в узловых моментах развития сюжета: в сцене беседы с Порфирием, в эпизоде встречи героя с Соней Мармеладовой накануне признания и в эпилоге романа» Каждый из эпизодов, таким образом, получает двойной, скрытый смысл.
Для реалистического романа логикой художественного завершения, то есть принципом взаимосвязи всех компонентов произведения, отражающим представление художника о взаимосвязи вещей в действительности, является логика самой действительности, понимаемая как логика причинно-следственных связей. Подобная логика способна целиком выразить себя в пространстве сюжета - в объективной взаимосвязи событий и субъективной реакции персонажей на эти события. Сюжет в этом случае выполняет завершающую функцию. Но у Достоевского, по мнению многих исследователей, сюжет такой функцией не обладает. Так, В. Комарович, анализируя «Подростка», обнаруживает в нем пять сюжетов, которые связаны между собой весьма поверхностно, что заставляет предположить наличие какой-то иной связи, помимо причинно-следственной связи сюжетных обстоятельств. Соглашаясь с наблюдениями В.Комаровича, М.М.Бахтин развивает эту мысль: «Сюжет у Достоевского совершенно лишен каких бы то ни было завершающих функций. Его цель - ставить человека в различные положения, раскрывающие и провоцирующие его, сводить и сталкивать людей между собой, но так, что в рамках этого сюжетного соприкосновения они не остаются и выходят за их пределы. Подлинные связи начинаются там, где сюжет кончается, выполнив свою служебную функцию... В сущности, все герои Достоевского сходятся вне времени и пространства, как два существа в беспредельности».1
Притча и дидактико-философская проза Л.Н. Толстого
Обычно о притче говорят в отношении только позднего толстовского творчества - периода так называемого «мировоззренческого перелома», объясняя интерес к этой форме ориентацией на народную литературу и народного читателя. В результате притча рассматривается главным образом в контексте малых жанровых форм. Но, на наш взгляд, к притче Толстой обращается гораздо раньше, причем, как и Достоевский, в большой повествовательной форме, а именно - в романе «Анна Каренина». Однако использование притчи у Толстого значительно отличается от опыта в этой области Достоевского и имеет иные эстетические и мировоззренческие основания.
«Анна Каренина» - роман переходного типа: его фабульная основа семейно-бытовая и социальная, но в аспекте сюжетно-композиционной целостности и проявленной в ней авторской оценки уже намечается та метафоричность, которая будет свойственна «позднему» Толстому. В «Анне Карениной», как замечает Э.Г. Бабаев, «от «современного романа» и «злобы дня» Толстой переходит к «вечным категориям морали». Этот переход предопределяет целая совокупность разнородных элементов. Самый мощный из них - это, пожалуй, евангельский эпиграф к роману. С ним связывается назидательный смысл произведения - законная кара, которая будет ниспослана «бесовскому наваждению», преступной страсти Анны. Но в то же время эпиграф отрицает возможность людского суда над происходящим, тем самым задавая всему повествованию особую высокую тональность, вводя его в контекст важнейшей богословской проблемы - проблемы воздаяния и милосердия. На поиски скрытого смысла наталкивает и антитетичность композиции романа, объединение в нем двух повествовательных линий - Анны и Левина (не случайно первоначально роман назывался «Два брака»), что само по себе подводит читателя к сопоставлению, а также все присутствующие в произведении символы. Кроме этих, в принципе, достаточно традиционных средств метафоризации сюжета, встречающихся и у других авторов, в том числе и у Достоевского (символы, евангельские цитаты), Толстой в «Анне Карениной» использует и совершенно особый прием. Часто описание действий или мыслей персонажей сопровождается развернутыми комментариями, подобными следующим:
«И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост был разобран и что там пучина. Пучина эта была - сама жизнь, мост - та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович». (18, 151)
Об ощущении Анны Карениным: «Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», -думал Алексей Александрович» (18, 154)
Вронский и Анна после сближения: «Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви...И с озлоблением, будто со страстью, бросается убийца на это тело и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи....» (18, 157-158)
«Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его больше и больше от должного направления и что признаться себе в отступлении - все равно, что признаться в погибели.
Ребенок этот со своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать» (18, 196).
«Левин, как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся его молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом хозяйстве он примется теперь» (18, 162).
«Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший человек, оторвавший вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях» (19, 30).
«Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что она была он сам. Он испытал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утишить боль» (19, 50).
«Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если бы этот человек с куклой пришел в сад и сел перед влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского: ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно» (19, 47).
А.П. Чехов. Притча: быт и экзистенция
Причта связана с учительным словом и проповедью, а также с выражением определенных философских идей и концепций. И то и другое, на первый взгляд, чуждо творчеству Чехова, которого никогда не причисляли ни к учителям, ни к философам. Типичная позиция чеховского героя - «меня никто не может ничему научить», а сам автор утверждает, что «ничего не разберешь на этом свете!» И потому притча в контексте его художественной системы кажется невозможной. Для большинства своих современников Чехов действительно был лишь бытоописателем, ему отказывали не только в наличии философских идей, но и вообще каких-либо идей и определенных мыслей (В.Дедлов, А.Скабичевский, Н.Михайловский). Однако сами философы (В.Розанов, Н.Бердяев, С.Булгаков, Л.Шестов)1 всегда видели в Чехове мыслителя, способного на глубокие философские прозрения. В настоящее время скрытая философичность чеховского творчества представляется практически несомненной, никто не назовет поздние чеховские рассказы и пьесы просто бытоописательными. Возражение может вызывать попытка найти у Чехова дидактические, проповеднические тенденции. Но если мы просмотрим переписку писателя, главным образом раннюю, то заметим там и отчетливые учительные интонации в письмах к братьям, например, и что особенно важно, определенно сформулированный (по пунктам!) нравственный идеал.1 В контексте поисков этого идеала, на наш взгляд, весьма значимым оказывается чеховский интерес к фигуре Соломона, которого он по традиции считал автором «Екклесиаста» и «Книги притчей». И хотя в его творчестве нет прямого обращения к
Притчам, а только упоминания, 2 нравственный идеал Книги Притчей -«прославление воли человека, собранности его духа, бодрственности его разума, непрестанного, ежедневного, ежечасного труда души»3 -оказывается близок и Чехову. Конечно, теоретические соображения художника, а тем более его частные письма и высказывания, могут иногда очень существенно расходиться с художественной практикой. Что и происходит у Чехова. Но сам факт подобного расхождения представляется весьма значимым и требующим своего осмысления. По всей видимости, проблема права на существование в литературе и жизни истинностного, -учительного слова немало занимала Чехова, и ее решение было далеко не однозначным.
В этой связи особое внимание Чехова привлекала фигура Толстого. Весьма вероятно, что опыт совмещения художественных и дидактических целей (и использование таких дидактических форм, как притча и близкая ей проповедь), ассоциируются у Чехова прежде всего с толстовским творчеством. О влиянии Толстого на мировоззрение и творчество Чехова в 80-е годы говорилось уже неоднократно, литература по вопросу «Толстой и Чехов» довольно обширна. Известно, что отношение Чехова к Толстому было очень противоречивым и неровным: от преклонения в ранние годы, через резкое неприятие его взглядов (реакция на послесловие к «Крейцеровой сонате»), к объективной и трезвой, хотя и неоднозначной, оценке роли «великого старца» в русской культуре в период 900-х годов.1
Выделяется целый ряд так называемых «толстовских» рассказов Чехова: «Хорошие люди», «Нищий», «Встреча», «Казак». При этом привычной становится оппозиция: «толстовские» рассказы - рассказы и повести, написанные в полемике с Толстым. К последним относят «Мою жизнь», «Палату № 6», а также «маленькую трилогию» Чехова, прежде всего рассказ «Крыжовник»." Иногда к ним причисляют и «Без заглавия», «Пари», «Сапожник и нечистая сила», хотя по поводу этих рассказов среди исследователей нет однозначного мнения.3
Как признавался сам Чехов, «толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6-7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода» (П.5, 283). Одной из самых полных характеристик этой «манеры выражаться» можно назвать ее притчевость. Притча была чрезвычайно значима в позднем толстовском творчестве, и Чехов, увлеченный в 80-е годы Толстым, естественно, не мог не почувствовать этой особенности его художественного слова и не откликнуться на нее. Это подтверждает уже тот факт, что в круг произведений, так или иначе связанных с Толстым, попадают все чеховские тексты, которые исследователи склонны определять как притчи: «Без заглавия», «Пари», «Сапожник и нечистая сила», «Рассказ старшего садовника»1.
Основанием для определения этих рассказов как притч становится, прежде всего, специфика их поэтики: они разительно отличаются от типичного для Чехова реально-бытового повествования. Условность персонажей, времени и пространства, композиции, имеющая место в этих рассказах, традиционно воспринимается как притчевая. Так, в «Без заглавия» можно говорить об условности хронотопа, который приобретает, как отмечает М.С.Штерн, онтологическую нагрузку: монастырь как мир Добра - город как мир Зла; намеренно подчеркнутый характерный для притчи принцип соотнесения вечного и временного («В пятом веке, как и теперь...») (С.6,455). В «Пари» фигурируют условные персонажи Банкир и Юрист, а сама ситуация - своего рода нравственный эксперимент. Но главное, что позволяет отнести эти рассказы к притчам, -это специфика их содержания: сложные нравственные вопросы, которые пытаются решать герои.