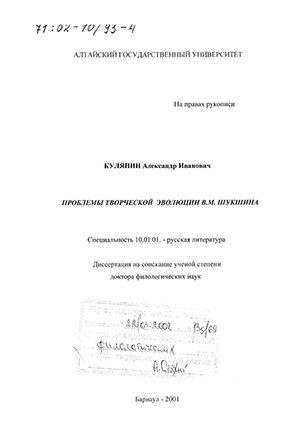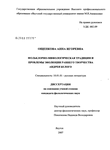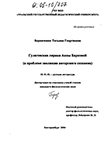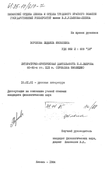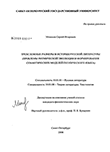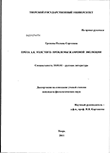Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. "Двух станов не боец, а только гость случайный" (от "Октября" к "Нашему современнику") 19
1. Шукшин в "Октябре" 19
2. "О дивный "Новый мир" 34
3. "Один борюсь" 51
Глава вторая. "Вырисовывается теорийка" (от соцреализма к постмодернизму) 75
1. "Смещение акцентов" 75
2. "Работать под наив" 99
3. "Сложное - просто" 113
Глава третья. "Чуждо явного значенья" (от мимезиса к семиозису) 144
1. "Внутреннее содержание" 144
2. "Магия слова" 154
3. "От символа к мифу" 184
Глава четвертая. "В поисках нехоженых троп" (интертекст и транстекстуальность) 217
1. Точки зрения 217
2. "Поэзия и правда" 238
3. "Комедия правдивости" 253
4. "Новые узоры по старой канве" 262
Заключение 299
Список литературы 312
"О дивный "Новый мир"
Первая книга Шукшина - сборник "Сельские жители" - вызвала довольно широкий резонанс среди читателей и получила в целом высокую оценку со стороны критиков. Положительные отклики на "Сельских жителей" появились во многих ведущих изданиях того времени ("Знамя", "Молодая гвардия", "Москва", "Октябрь", "Юность", "Литературная газета", "Комсомольская правда"). На фоне всеобщих похвал наиболее сдержанным оказался рецензент "Нового мира" журнала, в котором Шукшин пытается в это время стать "своим". Этот факт - наглядное свидетельство непростых взаимоотношений молодого писателя с журналом Твардовского.
В перечислении достоинств шукшинской прозы рецензент "Нового мира" неоригинален. Подчеркнута невыдуманность, правдивость и объективность лучших рассказов сборника "Сельские жители": "Писатель словно растворен в своих героях, смотрит их глазами"; "В этих словах что-то чуть наивное, домашнее, такое свое, что нельзя не поверить: эти слова, эта женщина - живые, не выдуманные"; "Сам автор редко пускается в рассуждения. Он справедливо предоставляет дальнейшую работу читателю" [23, с. 244, 245, 246].
Наиболее интересная часть рецензии посвящена рассмотрению недостатков шукшинского сборника. Выбор рассказов, подвергнутых критическому анализу, со всей недвусмысленностью демонстрирует, что творчество Шукшина первой половины 60-х годов стало "полем" межпартийной борьбы, ведь Э. Кузьмина останавливается почти исключительно на произведениях, опубликованных в журнале Кочетова, "Экзамен", "Леля Селезнева с факультета журналистики", "Коленчатые валы", "Правда".
Недостатки Шукшина, по мнению рецензента, - прямое следствие его попыток подладиться к программным требованиям "Октября". "Иногда причина неудачи кроется в прямолинейности, заданности типов и ситуаций, - пишет Э. Кузьмина. - По очень избитой схеме строится рассказ "Леля Селезнева с факультета журналистики". Который раз преподносится нам пресловутый корреспондент, весь прошаблоненный и бездумно бодрый, и его столкновение с простыми людьми, делающими будничное дело. Ошибки Лели так наивны, а перестраивается она так быстро, что все это никак не принимаешь всерьез. Есть у Шукшина и "типовой" отрицательный герой ("Коленчатые валы"). Тут зло снабжено всеми ходовыми атрибутами: золотой зуб, лысина, бабье лицо, большой портфель... И, конечно же, он спасается от алиментов, и выпить норовит на чужой счет, и еще много-много за ним других грехов. Его антиподом может служить невыносимо положительный директор совхоза (рассказ "Правда"): и глаза-то у него чистые, и правду он при первом же знакомстве режет, и все-то он невесть откуда знает, и уж, конечно, ни капли не пьет" [23, с. 246].
За критикой отдельных рассказов просматривается общее неприятие схем соцреализма. Э. Кузьмина отвергает заданность сюжета и конфликта, шаблонность положительного и отрицательного героев, мотив внезапной "перековки" центрального персонажа. В контексте полемики "Октября" и "Нового мира" критические выпады в отношении "соцреалистических" рассказов Шукшина были, конечно, вполне прогнозируемы. Но оказалось, что есть проблема, в решении которой непримиримые, казалось бы, антагонисты солидаризируются.
Критик "Нового мира" упрекает Шукшина в отсутствии ясной общественно-политической тенденции, безыдейной фиксации быта: "Инерция "частного случая" порой увлекает Шукшина к поверхностным зарисовкам ("Воскресная тоска", "Экзамен"). Тут из частного случая ничего не вытекает, и мы можем лишь спросить с досадой: "Ну и что?" Ну, не растрогался профессор, что студент был в плену, и поставил ему все же заслуженную двойку. Да, конечно, "Слово о полку" надо прочесть и храброму солдату. Но неужели ради этой небогатой мысли написан рассказ? На вид здесь все так же, как и в лучших рассказах сборника. Но если там мысль была скрыта в самой плоти, ткани повествования, то здесь - плоская декорация, за которой - пусто" [23, с. 246].
Для "Нового мира", ориентированного на продолжение революционно-демократических традиций XIX века [24], высокая идейность творчества - качество совершенно необходимое для каждого писателя. В программной статье "По случаю юбилея" А. Твардовский даже счел необходимым подчеркнуть особую роль в журнале общественно-политического раздела: "Общеизвестно, что в соотношении первой, "литературно-художественной", и второй, "общественно-политической", частей "толстого" журнала эта вторая и, как правило, меньшая по объему часть не может быть второстепенной без ущерба для целостного воздействия на читателей такого типа издания. Более того, в иные времена эта вторая часть приобретает первостепенное и ведущее значение" [19, с. 5].
С этой точки зрения аполитичная позиция Шукшина, конечно, могла выглядеть как недостаточно гражданственная. Но ведь и рецензент "Октября" требовал от писателя, как мы помним, "четкой, ясной общественной тенденциозности", "зрелой общественной мысли" [16, с. 183]. Так, в момент почти триумфального вступления Шукшина в большую литературу выявилась невозможность органичного слияния его творческих устремлений с программами основных "литературных партий" того времени.
Уже после смерти Шукшина на страницах "Нашего современника" и "Нового мира", журналов, сыгравших ключевую роль в его писательской судьбе, прозвучала одинаковая мысль о невозможности адекватного понимания шукшинского творчества исходя из контекста литературы 60-х - 70-х годов. "Шукшин при своем вступлении в литературу ... застал в ней определенную ситуацию, - пишет Л. Емельянов. - И то, с чем он пришел, разумеется, тоже до известной степени с нею соотносилось. Однако именно лишь до известной степени. По сути же своей, по истокам и по своей основной направленности проблематика уже самых первых шукшинских рассказов только с большими натяжками могла быть "совмещена" с кругом вопросов, обсуждавшихся тогдашней (начало 60-х годов) критикой" [25, с. 163-164]. "Его литературные манеры слишком расходились с устоявшимся этикетом писательского поведения, -считает В. Сердюченко. - Попытки вывести Шукшина из веяний и закономерностей только литературного процесса 60 - 70-х гг. не привели к особым успехам" [26, с. 237].
После публикации в "Новом мире" двух циклов рассказов ("Они с Катуни" - 1963, №2 и "Рассказы" - 1964 №11) писатель не печатается на страницах этого журнала в течение двух с лишним лет. 1965 - 1966 гг. -это вообще период заметного охлаждения отношений Шукшина со столичными изданиями. Отвергнутый "Новым миром" роман "Любавины" он публикует в журнале "Сибирские огни" (№6-9 за 1965 год), там же в 1966 году появляется цикл "Три рассказа". И только в начале 1967 года начинается этап длительного сотрудничества Шукшина в "Новом мире".
Вторая попытка писателя войти в число основных и постоянных авторов журнала оказалась более успешной, поскольку ей предшествовала серьезная подготовка. Безусловно, к более прочному союзу с "Новым миром" Шукшина во многом подтолкнула и полемика с критиками "ортодоксально-советского" направления (Л. Крячко и др.). Если раньше писатель старался обойти злободневные идеологические коллизии или решал их в русле официальной доктрины, то теперь в его выступлениях появляется устойчивый налет оппозиционности. Определяя в статье "Монолог на лестнице" понятие "интеллигентный человек", Шукшин, конечно, не случайно как одно из важнейших качеств выделил "полное отсутствие голоса, когда требуется - для созвучия - "подпеть" могучему басу сильного мира сего" [V, с. 380].
Как справедливо заметила Т.А. Снигирева: "Регулярно печататься на страницах "Нового мира" в шестидесятые годы означало, во-первых, открыто заявить о своей определенной оппозиционности режиму, о принадлежности либерально-демократическому направлению в общественно-литературной борьбе, во-вторых, публикация в самом популярном среди читающей России журнале создавала писателю имя, приносила безусловную известность и авторитет" [27, с. 31].
Смысл работы художника видится Шукшину "новомировского" этапа в "подвижнической" "борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа" [V, с. 391]. "Мне нравятся актеры смелые в гражданском смысле этого слова, мужественные, правдивые", - заявит он в статье "Как нам лучше сделать дело" [15, с. 127]. Примечательны здесь не только формулировка мысли о "гражданской смелости" художника, но и название статьи, скроенное по образцам русской революционно-демократической литературы.
"Работать под наив"
Важнейшей критической работой переходного периода шукшинского творчества стала статья "Нравственность есть Правда", написанная в 1968 году для сборника "Искусство нравственное и безнравственное" (составитель В. Толстых М., "Искусство", 1969). Это публицистическое выступление можно рассматривать в качестве своеобразного "предисловия" к новому этапу хотя бы на том основании, что Шукшин подвергает здесь суровой критике свой фильм "Живет такой парень" и замысел сценария "Враг мой".
Все свои прежние заявления о стремлении "насытить" фильм "Живет такой парень" "правдой жизни", о попытке создать героя "живого, а не киношного" Шукшин невольно дезавуирует, поскольку теперь он прекрасно осознает, что Пашка Колокольников пришел в его картину не из реальной действительности, а из других текстов. "Нет, мне надо было подмахнуть парню "геройский поступок" - он отвел и бросил с обрыва горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на бензохранилище, спас народное добро. Сработала проклятая, въедливая привычка: много видел подобных "поступков" у других авторов и сам "поступил" так же. ... Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет своего дитятку за руку и уводит со двора - чтобы "уличные" мальчишки не подействовали на него дурно: дитятко исключительное, на "фортепьянах" учится. Мое дитятко тоже оказалось исключительным: я сам себя высек. Почаще надо останавливать руку, а то она нарабатывает нехорошую инерцию" [V, с. 409].
Почти законченный сценарий фильма "Враг мой" Шукшин критикует за то же следование "удобным схемам". "По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден - "за боль годов". Теперь схема иная: герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него: смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек, и не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить! Так я и сделал" [Y, с. 412].
Шукшину не столь уж важна генеалогия того или иного общеупотребительного литературного приема. Он одинаково негативно оценивает штампы как соцреализма, так и модернизма. В числе устойчивых особенностей последнего - усложненная композиция. События редко развиваются, подчиняясь хронологической или причинно-следственной логике. Доминируют ассоциативные связи. Шукшин откровенничает: в сценарии он "сталкивал героев", "слегка подчеркнуть, что автор уверенно овладел всем техническим арсеналом новейшего искусства, но сознательно отказывается от ставшего уже банальным решения.
Критика авангарда и модернизма была в советскую эпоху одним из факторов идеологической войны с Западом. Шукшин же обходит идейно-политическую составляющую, сополагая шаблоны соцреализма и модернизма с просто избитыми общелитературными клише. Задуманный фильм для него "непоправимо плох" уже тем, что должен начаться сценой возвращения героя в родное село. "Как читатель и зритель сам не перевариваю, когда действие повести или фильма начинается с чьего-нибудь приезда. Сколько можно!.. Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов - столько приезжают, что скулы воротит" [V, с. 412].
«Вход (въезд) героя в место, которое ему предстоит "завоевать", -популярный зачин», - отмечает Ю.К. Щеглов и перечисляет только некоторые литературные произведения, начинающиеся так: "Дама-невидимка" Кальдерона, "Живой портрет" Морето, "Каменный гость" Пушкина, "Господин де Пурсоньяк" Мольера, "Турандот" Гоцци, "Комический роман" Скаррона, "Отверженные" Гюго, "Мистерии" Гамсуна, "Послы" Г. Джеймса, "Мертвые души" Гоголя, "Идиот" Достоевского, "Золотой теленок" Ильфа и Петрова и многие другие [22, с. 453]. Список этот можно было бы увеличить и за счет целого ряда ранних произведений Шукшина ("Классный водитель", "Светлые души", "Игнаха приехал", "Лида приехала" и др.). Так что неприятие популярной разновидности зачина косвенно связано с пересмотром собственных художественных принципов.
Нельзя не заметить, что в шукшинских произведениях 70-х годов мотив приезда того или иного героя вновь займет почетное место ("Срезал", "Чередниченко и цирк", "Штрихи к портрету", "Вечно недовольный Яковлев" и др.). На этом этапе творчества ощущение литературности завязки действия лишний раз подчеркивает ту меру условности, которая необходима для адекватного прочтения названных рассказов, и уже не вызывает нареканий.
Как отказ от своего кредо середины 60-х годов выглядит фрагмент статьи "Нравственность есть Правда", в котором Шукшин моделирует свою предполагаемую реакцию на критику сценария (или фильма) "Враг мой". "Если бы меня кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм (критик), а не я сам себя, я бы, наверно, ощетинился: "А что, так не бывает в жизни?" Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве" [V, с. 413]. Жизнеподобие перестает быть для Шукшина главным и единственным мерилом эстетической ценности произведения искусства.
В свете этого тезиса принципиально важна та классификация "носителей правды времени", которую Шукшин предлагает в начале статьи. Первым им назван "человек трезвый, разумный", "везде, всегда до конца" понимающий свое время, но "если обстоятельства таковы, что лучше о ней, правде, пока помолчать, он молчит". Ко второй категории отнесен "человек умный и талантливый", который "как-нибудь, да найдет способ выявить правду", "хоть намеком, хоть полусловом". Далее следует гений, "обрушивающий" "всю правду с блеском и грохотом на головы и души людские". Особый разряд представляет "человек просто талантливый" - "этот совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе)". И, наконец, "еще один тип человека, в котором время, правда времени, вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как и в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном,.. Человек этот -дурачок" [V, с. 403].
Столь запутанная и противоречивая классификация может представлять интерес, пожалуй, только в том случае, если усмотреть в ней элементы шукшинского "автопортрета". Наиболее явно писатель соотносит себя с типом "дурачка" ("юродивого") [20]. Об этом свидетельствует демонстративное использование в этом эпизоде собственного имени: "Был у нас в селе (в тридцатые годы) Вася-дурачок..."; "Народ ласково называет их (дурачков. - А.К.) - Поля, Вася, Ваня..." [V, с. 403, 404].
"Работать под наив" и "ломать дурака" - излюбленные средства психологической защиты многих шукшинских героев. Еще Пашка Колокольников ("Живет такой парень") предлагал Кондрату: "А ты посмеивайся надо мной. ... Вроде бы я - дурачок. А с дурачка взятки гладки" [I, с. 32]. Позже Иван Расторгуев ("Печки-лавочки") для объяснения сущности этой модели бытового поведения обратится к вековой народной мудрости: "Меня еще дед мой учил: как где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком. С дурачка спрос невелик" [I, с. 200].
Сам Шукшин тоже нередко прибегал к подобной маске [24], причем постепенно она настолько "приросла к лицу", что стала оказывать решающее влияние не только на формирование шукшинского "биографического мифа", но и на выбор сюжетов ("До третьих петухов"), и даже на поэтику его творчества. С последним обстоятельством связаны тенденции к возрастанию условности шукшинской прозы, увеличению в ней элементов иносказательности и повышению роли литературных аллюзий. Все это постепенно уводит Шукшина от прежнего предельно упрощенного понимания литературного произведения как воссоздания "житейски правдивого явления".
Позиция "наивного реалиста" приписана в статье "Нравственность есть правда" "человеку просто талантливому", которому недвусмысленно противопоставлен "человек умный и талантливый". Разница между ними только в формах выявления "правды времени". Вместо "совершенно точного отражения времени", "человек умный и талантливый" "находит способ выявить правду, хоть намеком, хоть полусловом", то есть уже не средствами мимезиса, а с помощью иносказания, подтекста, аллюзий.
Судя по всему, в 1968 году писатель был склонен идентифицировать себя не только с "человеком просто талантливым", но и с "умным и талантливым". Первый наделен Шукшиным чертами некоторой "стихийности", акцентирована бессознательная природа его творчества: " ... быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным" [V, с. 403]. В конце статьи тот же, по сути, тезис прозвучит уже в качестве авторского императива: "Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь - так легче остаться непредвзятым" [V, с. 413].
"Магия слова"
С огнем теснейшим образом связаны такие оппозиции, как "тепло / холод", "свет / тьма". Шукшин использует не только их прямое значение, но и учитывает богатейшие символические коннотации. Через образ огня в тексты Шукшина вводится еще одно очень важное противопоставление "сакральное / инфернальное". В рассказе "Гена Пройдисвет" в качестве "знамения", "чуда" упомянут "крест огненный" [IV, с. 358]. Противоположный полюс смысла представлен рассказом "Генерал Малафейкин". "Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь - обожаю, между прочим, на огонь смотреть, - а из огня на тебя какое-нибудь мурло смотрит. "Господи, - думаешь, - да отстанете вы от меня когда-нибудь!" [IV, с. 252]. Фантазия героя ясно демонстрирует причастность его к инфернальной сфере.
Первые опыты Шукшина по налаживанию символического подтекста не отличались особой утонченностью. В произведениях середины 60-х годов он прибегает порой даже не к символам, а к намеренно упрощенным аллегориям. К таковым можно отнести одну из финальных сцен второй книги романа "Любавины", почти в неизменном виде повторенную в повести "Там, вдали..." [21]. Герой романа, мучительно переживающий измену жены, пьет из бадьи колодезную воду: "Ивлев еще раз приложился, долго пил... Потом наклонил бадью и вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на землю, в грязь чистая вода. "Вот так и с любовью, - думал Кузьма Николаевич, - черпает иной человек целую бадейку, глотнет пару раз, остальное в грязь. А ее бы на всю жизнь с избытком хватило" [II, с. 136]. Налицо явно аллегорическое осмысление образов воды и колодца: измена Марии Родионовой мужу уподобляется "изливанию" чистой, "прозрачной" воды на "грязную, затоптанную землю" [22].
"Повесть "Там, вдали..." надо, думается, рассматривать как произведение в некотором смысле ключевое в творчестве Василия
Шукшина", - считает Л. Емельянов [3, с. 96]. С критиком можно согласиться, если внимательно присмотреться к необычному для Шукшина стремлению на первый план выдвинуть здесь знаковый аспект образа.
В поздней шукшинской прозе любовная тема почти постоянно сопрягается с религиозно-мифологическими и сказочными мотивами искушения, испытания, наваждения, одержимости. У истоков этого концептуального сочетания повесть "Там, вдали...". Описать историю взаимоотношений Петра Ивлева с Ольгой Фонякиной в социально-психологических категориях практически невозможно. Более адекватен мифопоэтический подход.
Петра "пугала красота женщины. И удивляла", - сообщает автор [I, с. 278]. После первой же встречи с Ольгой герой перестает контролировать собственные поступки, оказавшись во власти неведомых сил: "Что я делаю?"; "Я сам не знаю, что со мной творится"; "Это было выше сил" [I, с. 282]. Ольгу на протяжении повести окружают персонажи демонического толка: выросший "как из-под земли" "чернявый парень, броско красивый тонкой южной красотой" [I, с. 279], "кряжистый дядя" "Шкура"-Шкурупий (про которого Петр думает: "Крепкий, черт" [I, с. 295]) и др. Сама Ольга в сцене купания прозрачно соотнесена с русалкой: "Молочно-белое, гладкое, крепкое тело ее все было в мелких светлых капельках и блестело под солнцем, как чешуйчатое" [I, с. 320]. Страх Юрия ("Еще судорога, на грех, сведет" [I, с. 320]) в этом контексте вполне закономерен [23].
Сознательность авторской установки на миф выдает предваряющая любовную коллизию необычная оппозиция бог - женщина . Как раз накануне встречи с Ольгой Петр Ивлев уходит на край деревни любоваться заброшенной церквушкой. «Оттого ли, что церковка отражалась в синей воде особенно чисто - как в сказке, оттого ли, что горела она в то утро каким-то особенным - горячим рубиновым светом и было удивительно тихо вокруг, - вдруг защемило сердце. Петр лег на землю, лицом вниз, вцепился пальцами в траву, заскрипел зубами... И -церковь, что ли, навеяла такую мысль - подумалось о боге, но странным образом: что женщина лучше бога. Тот где-то далеко, а эти рядом ходят ...» [I, с. 278].
Кощунственная мысль героя сопровождается столь же кощунственным с христианской точки зрения жестом. "Магическое совокупление с землей" имеет "несомненно, языческое происхождение; именно так иногда объясняют ритуальное катание по земле в сельскохозяйственных обрядах, - пишет Б.А. Успенский, - в одном древнерусском епитимейнике читаем: "Аще ли отцю или матери лаял или бил или, на земле лежа ниць, как на жене играл, 15 дни [епитимий]" ... ; отсюда вообще запрещалось лежать на земле ничком" [24, с. 70]. Религиозно-мифологический контекст позволяет в корне изменить интерпретацию повести.
Примеры, аналогичные приведенным выше, позволяют усомниться в правильности концепции тех литературоведов и критиков, которые считают, что "у Шукшина нет ни символов, ни аллегорий, этих условных средств - показателей философичности" [25, с. 78]. Гораздо более глубоко раскрывает сущность творческих принципов Шукшина Н.Л. Лейдерман, отметивший: " ... на самом дальнем окоеме художественного мира шукшинского рассказа мерцают образы времен года, дня и ночи, утра и вечера, огня и воды - эти традиционные символы вечности, материализованные образы законов природы. В этот величавый простор вписана жизнь человеческая. Именно вписана, совершенно четко обозначена в своих пределах. В художественном мире Шукшина не случайны такие "образные пары": старик и ребенок, бабка и внук; паромщик Тюрин на один берег перевозит свадьбу, а на другой - похоронную процессию. Эти пары и есть образы пределов" [26, с. 62].
В творчестве второй половины 60-х годов Шукшин все еще пытается не слишком уклоняться от принципа отражения реальности, но уже внимательно присматривается к опыту тех художников, которые отдают предпочтение искусству интеллектуальному, условному [27]. Стремление соединить правду времени с философским осмыслением универсальных категорий бытия приводит его порой к интересным решениям.
Рассказ "Даешь сердце!" написан в 1967 году, вероятно, под свежим впечатлением от сенсационной новости. 3 декабря этого года в больнице города Кейптауна профессор Кристиан Бернард впервые произвел пересадку человеческого сердца. Главный герой рассказа ветфельдшер Козулин во время объяснения в сельсовете прямо ссылается на это событие: "Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце" [III, с. 315].
Процесс трансформации реальности начинается с изменения даты. У Шукшина история разворачивается "дня за три до Нового года" [III, с. 313], что существенно влияет на интерпретацию самого факта пересадки сердца. По мнению В.В. Десятова, "приурочивая операцию к Рождеству", писатель "подчеркивает ее значимость для человечества" [18, с. 260]. Символическую значимость - добавим мы. "Для ветфельдшера Козулина сердце - не просто орган человеческого тела, операция по пересадке сердца приобретает для него сакральный оттенок", - пишет О.В. Тевс [18, с. 190]. Никак не может понять причину экзальтации Козулина председатель сельсовета, с его точки зрения пересадка сердца - событие обыденное: "Ну, это бывает, бывает, ... пересаживают отдельные органы. Почки... и другие" [III, с. 315]. В таком контексте своего рода "пересаженным органом" становится и свисающая из рукава председательской гимнастерки "аккуратная лакированная ладонь протеза" [III, с. 315]. Только протез - это, конечно, присоединение мертвого к живому. Другой представитель власти -участковый милиционер - слишком буквально понимает реплику Козулина о пересадке живому человеку сердца мертвого, "трупа": "Что, взяли выкопали труп и..." [III, с. 315]. Если ветфельдшер Козулин воодушевлен открывающейся перед человечеством возможностью победы над смертью, идеей Воскресения (рождественские мотивы), то его оппоненты ("живые трупы") абсолютно глухи к призыву "души растревоженной". В странном, почти абсурдном диалоге шукшинских героев главный предмет спора (операция по пересадке сердца) никак не рассматривается в связи с конкретно-историческим контекстом эпохи, но перемещается в сферу условно-символического и, соответственно, интерпретируется иносказательно.
"Даешь сердце!" - не единственный пример философского осмысления писателем конкретного исторического события. Так, в рассказе "Срезал" полет на Луну американских астронавтов обыгрывается примерно в том же ключе, что операция по пересадке сердца в проанализированном выше тексте. И все же главное место в произведениях Шукшина занимают символы традиционные, устойчивые и общеупотребительные. К числу таковых можно отнести образы архитектурные. Это связано, в первую очередь, со значимостью для писателя таких понятий, как дом и церковь.
"Комедия правдивости"
Первые признаки отхода Шукшина от установки на "воссоздание житейски правдивого явления" появляются в середине 60-х годов. Это время создания такой откровенно экспериментальной повести, как "Точка зрения". А.О. Болынев убедительно продемонстрировал, что это произведение является своеобразным откликом на дискуссию о современном рассказе, развернутую на страницах "Литературной России" [53, с. 40]. К статье Г. Митина "Любви порывы", открывшей дискуссию, по мнению исследователя, восходит ситуация неудавшейся женитьбы, которая в "Точке зрения" использована в качестве сюжетной канвы. "Дело в том, что Митин подробно рассмотрел рассказ Шукшина "Степкина любовь", а также рассказы Б. Евгеньева и Г. Горышина, которые варьируют ситуацию неудавшейся женитьбы. Во всех рассказах речь идет о сватовстве, которое либо расстраивается совсем, либо парадоксально заканчивается женитьбой постороннего человека". "Вместе с тем, - продолжает А.О. Болынев, - в контексте "Точки зрения" явно наличествуют элементы литературной пародии. Объектом пародирования оказывается, на наш взгляд, "молодежно-исповедальная проза" 50-60-х годов - причем не какой-то конкретный текст, не приемы или стилевые особенности, а сам метод "исповедальшиков", их мироощущение" [53, с. 41]. Если к сказанному добавить, что в повести прямо названы имена Толстого, Ремарка, Хемингуэя, Уайльда и, кроме того, использованы многочисленные реминисценции из русской и зарубежной литературы, а также многочисленные автореминисценции, картина будет достаточно полной.
Шукшинский эксперимент с характерной для модернизма "цитатной техникой" хорошо иллюстрирует такой фрагмент текста повести-сказки: "А я этта иду вчера по улице, - заговорил Отец Жениха, - гляжу: муж колотит жену со всех сил. А у самого кулак - с детскую головку. Я ему говорю: "Что ж ты делаешь? Ты же можешь ей ребра сломать". А он мне отвечает: "Чем, - говорит, - меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей". Доцент какой-нибудь..." [I, с. 335]. Гоголевская деталь - "кулак с детскую головку" (ср. "кулак величиною в чиновничью голову" [47, с. 134]) соседствует здесь с искаженной цитатой из IV главы "Евгения Онегина": "Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей" [54, с. 68].
Конечно, воскресший в отечественной литературе 60-х годов модернизм в "Точке зрения" пародируется, но через пародию Шукшин осваивает отдельные модернистские приемы. Модернистский плюрализм точек зрения в финале повести отвергнут автором ради "точки зрения нормальных людей", для него по-прежнему главное - не изощренность построения текста, а то "как это бывает на самом деле" [I, с. 368].
И все же "модернистский яд" в данном случае оказался сильнее предложенного противоядия. Показательно отсутствие развернутой картины сватовства "с точки зрения нормальных людей", в варианте максимально приближенном к реальности. Открытый финал повести -это, конечно, знак принципиального размывания границы между текстом и действительностью. Но, с другой стороны, текст оказывается в этом случае вообще излишним, поскольку он всего лишь дублирует реальность. Выход из этого тупика, судя по всему, видится Шукшину в создании произведений более условных и откровенно литературных.
История публикации повести-сказки косвенно подтверждает такое предположение. "Многие исследователи, - пишет В. Коробов, -склонны относить эту повесть к позднейшим и "странным", во многом неожиданным произведениям Шукшина. Формально это так: "Точка зрения" увидела свет в седьмом номере "Звезды" за 1974 год и нигде больше не печаталась. Но мы все же с уверенностью можем утверждать, что это произведение появилось гораздо раньше: в конце 1964 года или, в крайнем случае, в начале 1965-го" [2, с. 153]. Ошибку критиков, о которой упоминает В. Коробов, легко понять, так как "Точка зрения" гораздо естественнее вписывается в контекст "Энергичных людей", "До третьих петухов", "А поутру они проснулись" нежели повести "Там, вдали...". И следовательно, на первый план для читателей повести-сказки выдвигается не пафос "высокого утверждения Правды" [2, с. 162], а виртуозное владение модернистской "техникой прозы", "эстетическая игра" с классикой, автореминисцентность.
Интертекстуальный аспект в своих произведениях второй половины 60-х годов Шукшин старается не слишком выпячивать. Первая редакция рассказа «Капроновая елочка» имела название «В ночь под Новый год», т.е. содержала прямую отсылку к «Ночи перед Рождеством» Гоголя. В окончательном варианте текста гоголевский сюжет разгула бесовских сил актуализируется косвенно. Через разговорную лексику: «ну ее к черту все», «черт возьми совсем», «ни черта не видно», «черти вы такие» [III, с. 244, 246, 251, 252]. Через портретные характеристики: отдельные инфернальные приметы рассеяны в облике спутников, отправившихся под Новый год из города в родное село Буланово пешком. Один из героев хромает, другой -городской ухажер - одет в козлиную доху [55]. Для довершения перечня возможных перекличек между персонажами Гоголя и Шукшина укажем и на такое совпадение: третий герой по имени Федор - кузнец (кузнецом является Вакула и «Ночи перед Рождеством»). Но все эти детали неявно гоголевские и однозначной интерпретации, конечно, не поддаются [56].
Показательным для понимания эволюции Шукшина может оказаться сравнение рассказов «Горе» (1967) и «Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту» (1973), включающих один и тот же редкий мотив. В кошмарном сне деда Нечая его жена Парасковья (умершая три дня назад) поедает живых цыплят. Герой более позднего рассказа Носатый способен совершить нечто подобное в реальности: "Трихопол?! - кричит Носатый в столовой. - Это - для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! - И - таков дар у этого человека -я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном желудке" [IV, с. 482].
Инвариантный смысл образа установить нетрудно. Главный вопрос обоих рассказов: какова предельно допустимая цена в борьбе за жизнь? В.К. Сигов правильно замечает, что "народные представления о смерти различают порядок и беспорядок, норму и аномалию. С этой точки зрения, излишнее, "сумасшедшее" горевание по ушедшему в свой срок - грех" [57, с. 61]. В "Горе" старик Нечай явно переступает границу дозволенного и его сон - грозное тому напоминание. Народный взгляд на проблему кратко формулирует другой герой рассказа, троекратно призывающий Нечая: "Терпи" [IV, с. 6]. Агрессивности Носатого ("Как мужик переправлял...") противопоставлена аналогичная исконно русская концепция "векового" терпения, воплощенная в Лобастом. Вероятный источник шукшинского мотива поедания живых птенцов - рассказ "Любовь к жизни". Персонаж Джека Лондона натыкается на гнездо куропатки: "Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа" [19, с. 592].
Ирония в том, что именно американец с "нежным желудком" не останавливается ни перед чем ради спасения своей жизни, русскому такая позиция чужда. Не оставляет сомнений в близости Носатого к герою американского писателя и еще раз подчеркивает его "хищную" природу скрытое сравнение с волком, который "аккуратно" съест козу и "косточками похрустит" [IV, с. 482].
Разница между рассказами 1967 и 1973 года в реализации одного и того же мотива очевидна. В отношении первого предложенное нами интертекстуальное прочтение - лишь потенциальная возможность, в отношении же второго - это явленная в тексте реальность.
К концу 60-х годов противоречия в эстетике автора "Точки зрения" становятся все более очевидными. Свидетельством творческого кризиса Шукшина в этот период становится прежде всего фильм "Странные люди" (1969). По верному замечанию Ю. Тюрина, "в Шукшине писатель опережал кинорежиссера" [58, с. 145], поэтому именно полемика вокруг фильма наглядно продемонстрировала конфликт двух Шукшиных - "старого" и "нового".