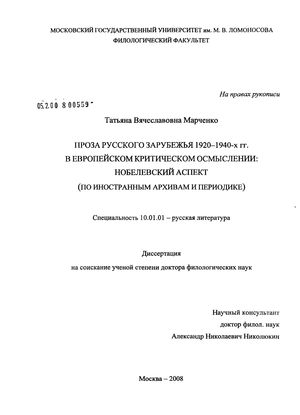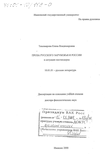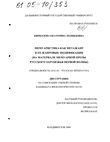Содержание к диссертации
Введение
ЧАСТЬ I. И. А. Бунин - первый русский лауреат нобелевской премии по литературе
Глава 1. Нобелевская премия и ее место в источниковедении по истории русской литературы XX века
1.1.1. Нобелевский комитет по литературе: премиальный институт и «стремление к идеалу» 46
1.1.2. Путь к принятию решений: арбитры и эксперты Шведской академии 53
1.1.3. Антон Карлгрен (1882-1973) и его экспертные отзывы 61
1.1.4. Материалы архива Шведской академии, их состав и значение
как источника по истории русской литературы и ее восприятию на Западе 64
Глава 2. Первое выдвижение Бунина на Нобелевскую премию (1923 г.): установление контактов русской эмиграции и западноевропейских литературных и научно-гуманитарных кругов
1.2.1. Предыстория первого выдвижения на Нобелевскую премию 67
1.2.2. Номинация Ромена Роллана и поддержка эмигрантских кругов 71
1.2.3. Начало критической рецепции творчества Бунина в Швеции: первый экспертный отзыв А. Карлгрена 74
1.2.4. Заключение Нобелевского комитета 1923 г. по бунинской кандидатуре 87
1.2.5. Шведская славистика в борьбе за первого русского лауреата литературной Нобелевской премии 89
1.2.6. Бунин в переводах на шведский язык 93
Глава 3. Кампания за присуждение Нобелевской премии русскому писателю: консолидация русской эмиграции и западных славистических кругов вокруг кандидатуры Бунина
1.3.1. Возобновление борьбы за Нобелевскую премию: 1930 г. Номинация С. Агрелля 101
1.3.2. Поддержка бунинской кандидатуры нобелевским экспертом 103
1.3.3. Заключение Нобелевского комитета 1930 г 109
1.3.4. Бунин - главная кандидатура русского зарубежья: к характеристике интеллектуально-духовной и общественной жизни русской эмиграции 110
1.3.5. Борьба за бунинскую кандидатуру: общее дело русской эмиграции и европейской славистики 117
Глава 4. На пути к историческому решению (1931-1933 годы)
1.4.1. Монографические очерки А. Карлгрена и их значение для буниноведения 132
1.4.2. Заключение Нобелевского комитета 1931 г 140
1.4.3. Критико-публицистическое выступление в печати В. Ф. Ходасевича как отражение общеэмигрантских настроений 144
1.4.4. Поддержка бунинской кандидатуры: совместные действия эмиграции и западноевропейской славистики 146
1.4.5. Заключение Нобелевского комитета 1932 г 151
1.4.6. Перед принятием исторического решения: поиск наградной формулы 153
1.4.7. Историческое решение Шведской академии. И. А. Бунин - первый русский писатель, удостоенный Нобелевской премии (1933 г.) 161
Глава 5. Чествование И. А. Бунина -общенациональный праздник русской эмиграции
1.5.1. «Оправдание» эмиграции: по материалам архива И. А. и В. Н. Буниных в университетской библиотеке г. Лидс (Великобритания) 170
1.5.2. Реакция литературных кругов на присуждение Нобелевской премии Бунину 185
Глава 6. «Нобелевские дни» Бунина в Швеции
1.6.1. Шведская пресса о присуждении Нобелевской премии русскому писателю 195
1.6.2. Образ Бунина в интервью шведским газетам (ноябрь 1933 г.) 203
1.6.3. Визит Бунинав Швецию в декабре 1933 г.: контакт культур 207
1.6.4. Вручение премии (10 декабря 1933 г.): значение шведского эпизода в истории русской литературы и бунинской биографии 212
1.6.5. «Бывший лауреат»: Бунин и Шведская академия в годы войны 218
1.6.6. Заключение. На пути к академическому Бунину 225
ЧАСТЬ II. Искания русской прозы и судьбы писателей после октября 1917 г. в нобелевском преломлении: к истории русской литературы xx века
Глава 1. Эволюция критического восприятия Д. С. Мережковского на Западе: к феноменологии творческой личности писателя
II. 1.1. «Образованный и развивающийся восточный славянин...»: дореволюционные номинации 229
II. 1.2. «В мантии пророка»: эмиграция и Нобелевская премия 255
II. 1.3. «В конце концов будем надеяться»: последние годы 282
Глава 2. Духовные и творческие метаморфозы И. С. Шмелева в критическом восприятии западной интеллигенции
II.2.1. Русский писатель в историко-литературном контексте: личные притязания, дружеское участие и мнение европейских знаменитостей 296
П.2.2. Невостребованный автор: фиаско с изданиями Шмелева в Швеции 310
П.2.3. Нобелевский вердикт: экспертный отзыв А. Карлгрена и решение шведских академиков 317
Глава 3. А. М. Горький в скрещении мнений: спор о свободе и ангажированности творчества
3.1. Литература и политика: нобелевский эпизод в столетнем споре о Максиме Горьком 329
П.3.2. На стыке эпох: дореволюционное творчество Горького в оценке нобелевского жюри 332
П.З.З. Горький и послереволюционный раскол русской литературы. Номинация Ромена Роллана (1923 г.) 343
П.3.4. Экспертные заключения А. Карлгрена: к проблеме представлений о России и русском народе на Западе 349
И.3.5. Почему Максиму Горькому не дали Нобелевскую премию? , 365
Глава 4. Историческая романистика русского зарубежья: образы русской революции в оценке нобелевского жюри
II.4.1 .Монархическая идея и православные ценности: творчество генерала П.Н.Краснова 378
П.4.2. Либеральные идеи и философия скептицизма: творчество М. А. Алданова 393
Заключение 418
Библиография
Условные сокращения книг и статей 432
Использованная литература 436
- Нобелевский комитет по литературе: премиальный институт и «стремление к идеалу»
- Предыстория первого выдвижения на Нобелевскую премию
- Возобновление борьбы за Нобелевскую премию: 1930 г. Номинация С. Агрелля
- Эволюция критического восприятия Д. С. Мережковского на Западе: к феноменологии творческой личности писателя
Введение к работе
0.1. Литература русского зарубежья как историко-культурный феномен: проблемы, основные направления и перспективы изучения
Русская литература XX века всё еще кажется terra incognita, несмотря на интенсивность ее изучения в России и за рубежом. Генезис реалистического метода в изображении действительности и своеобразие модернизма, литературные течения, изменение и эволюция художественного стиля, соотношение художественных исканий на родине и в зарубежье - целый ряд проблем внутри этих достаточно широко и схематично обозначенных тем был либо не поставлен вовсе, либо решался, в силу известных идеологических причин, прямолинейно; многие тексты были преданы забвению, замалчивались крупнейшие фигуры - участники литературного процесса; на долгие годы оказалась вычеркнута из рассмотрения литература эмиграции. Тем самым было нарушено или искажено понимание последовательности и закономерности развития литературы, ее движения, художественно-идеологической борьбы, места того или иного писателя в литературном процессе его времени и в широкой историко-культурной перспективе. Русская литература XX века пока не осмыслена в своей целостности - именно как единая terra, как материк, а не как отдельные острова и архипелаги.
Русская литература и после Октября 1917 года оставалась целостным явлением, объединенная языком, историей, традициями, национальным мировосприятием1. Однако монолитной русская литература не была никогда2, а в XX веке раскол и мировоззренческий, и формально-эстетический определил резкое размежевание литературных сил. Так, выступившие на литературном поприще в конце XIX века Бунин и
Приглашением к разговору на тему «Одна или две русских литературы?» принято считать материалы именно так и названного Международного симпозиума (Женева, 1978). Дискуссионность проблемы отражает характерная вопросительная, а не утвердительная интонация в названии конференций и сборников, посвященных целостности русской литературы XX века, ср.: «Литературное зарубежье: Национальная литература- две или одна?» (Вып. I, II / Отв. ред. Ю. Я. Барабаш. М., 2000; 2002). Между тем, указывает Л. Н. Николюкин, «впервые о целостности русской литературы в России и за рубежом заговорили писатели эмиграции (журнал "Версты". Париж, 1926-1928)» (см.: Николюкин А. Н. О русской литературе. Теория и история. М., 2003. С. 251).
2 См., например, постановку «животрепещущей и для эмиграции» темы противостояния нации и народа, начал государственно-культурного и этнического, «России» и «Руси», «двух литературных языков» в статье С. Р. Федякина «Кризис художественного сознания и его отражение в критике русского зарубежья» (Классика и современность в литературной критике русского зарубежья 1920-1930-х гг. Ч. I. Сб. научн. трудов. М., 2005. С. 12-13). Вслед за П. Бицилли, П. Муратовым, Г. Адамовичем современный исследователь видит истоки раскола целостной русской литературы в петровских преобразованиях, тогда как история коренится еще глубже и связана с самим принятием христианства и переводом богослужебных и иных книг религиозного содержания. Уже в древнерусский период трудно было примирить письменность и фольклор, выработать «метафизический», отвлеченно-понятийный язык, найти компромисс между высоким, духовным и низменным, чувственным, плотским; эти проблемы только углублялись и принимали новые художественные формы в разные периоды русской истории.
Горький показались своим современникам - один архаистом, другой новатором, и в области содержания, и в области формы. Но их творчество являет ярчайший пример противоречивости развития писательской личности, от чуткого следования эпохальным тенденциям и, через их отвержение, к утверждению собственного стиля. Не говорим уже о том, как изменились за целый век и за последние два десятилетия общекультурные взгляды и углубились мировоззренческие различия, так что консерватизм и революционность приобрели новые оценочные значения; между тем для самих писателей - не просто участников историко-литературного, политического и иных «процессов», но самобытных творческих личностей, просто людей из плоти и крови - их внутренняя творческая близость, художественный «диалог» не прекращались никогда, несмотря на все разногласия, расхождения, вражду. «Жизнь Арсеньева» и «Жизнь Клима Самгина», еще не изученные сопоставительно (и в противопоставлении) — ярчайший пример такого диалога.
Изучение русской литературы, созданной в XX веке за пределами России, было начато за рубежом, представителями самой эмиграции (Н. Полторацкий, М. Раев, Г. Струве); в России почти два последних десятилетия эта сравнительно новая отрасль истории русской литературы развивалась стремительно и импульсивно. К началу третьего тысячелетия исследователи перешли от спорадической публикации клочков литературного наследия русской эмиграции первой волны в самых разномастных изданиях к тщательному научному изданию и комментированию вводимых в научный оборот текстов; статей и монографий об этом периоде в русской литературе появились даже не сотни, но тысячи; курс литературы русского зарубежья введен в программу для школ и высших учебных заведений, вышел целый ряд энциклопедических справочников и словарей1.
Почти полтора десятилетия понадобилось отечественному литературоведению для того, чтобы выработать представление о литературе русского зарубежья, свыкнуться с
Совершенно особое место в ряду справочных материалов по русскому зарубежью, отражающих культурно-общественную жизнь русских эмигрантов и дающих о ней обширную информацию, занимают летописи, составленные по материалам русской зарубежной печати, ср.: Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920-1940. Т. 1-4 / Под общей ред. Л. А. Мнухина. М.; Париж, 1995-1997; Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941 I Hrsg. von K. Schlugel u. a. Berlin, 1999. Строго документированная, основанная на достоверных фактах и точных датах, каждая из этих «хроник» содержит не только бесценные свидетельства различных сторон социокультурного существования русских эмигрантов во Франции или Германии, но и целый ряд необходимых указателей — именных, периодических изданий, организаций, адресов. Между тем нельзя не согласиться с рецензентом первого из указанных трудов, что подобные «хроники» отражают прежде всего существование эмигрантского «истэблишмента», который «формируется в пункте пересечения интересов эмигрантской массы и принимающей страны или заграничных спонсоров (что не всегда совпадает)», а «эмиграция по большей части случаев безденежна, масштаб и звучание ее мероприятий зависит от внеэмигрантских средств» (Савицкий И. Русская Франция как на ладони? // Rossica. Научные исследования по русистике, украинистике и белорусистике. Прага, 1998-1999,№ 1, с. 94).
мыслью о наличии «двух литератур» или, во всяком случае, двух «потоков» русской литературы и подойти вплотную к определению феноменологических особенностей русской литературы «вне России». Материал накоплен уже немалый, и поголовное увлечение публикаторством в 1990-е гг. постепенно уступает место научному осмыслению и анализу явления литературы русской эмиграции, а издания все меньше напоминают бессистемную выборку из публикаций в периодике зарубежья и все больше опираются на рукописное наследие, на архивные документы. Обращение к архивам, применение историко-литературных знаний о литературе русского зарубежья, использование опыта последних десятилетий по собиранию и подготовке к печати материалов по Серебряному веку и послереволюционной эмиграции - всё это свидетельствует о том, что на смену эмпирическому «сбору материала» пришло его научно-критическое осмысление.
Драматизм изучения и, соответственно научного издания творческого наследия писателей эмиграции предопределен двумя важными факторами. Во-первых, большая часть их рукописей оказалась в университетских библиотеках Европы (Бунин) и Америки (Алданов, Мережковские) и в частных руках, и материалы не всегда доступны российским исследователям; в гораздо более выгодном положении находятся немногочисленные западноевропейские литературоведы — специалисты по Серебряному веку и русскому зарубежью1, однако, как правило, они работают вне сложившейся традиции и, что всего печальнее, их труды не всегда достигают российских ученых. Во-вторых, творчество этих писателей, за малым исключением, «возвращалось» к российскому читателю в потоке почти внезапно обретенной на рубеже 1980-1990-х гг. эмигрантской литературы. Это означает, что советское литературоведение практически не обращалось к ее исследованию; если же речь и заходила о творчестве оказавшихся после революции за границей Бунине, Гиппиус, Мережковском, то работы о них были густо насыщены расхожими пропагандистскими штампами минувшей эпохи (не стоит забывать, например,
Заметим сразу, что европейская литературоведческая традиция не склонна отделять творчество писателей послереволюционной эмиграции (Бунина, Шмелева, Мережковского, Г. Иванова, Адамовича, Цветаевой) от литературы Серебряного века; творчество писателей, дебютировавших уже в эмиграции (Алданов, Осоргин, Газданов), изучается на Западе несравненно меньше, набоковеденне стоит особняком, а в иных случаях объектом рассмотрения оказывается либо колоритная фигура (И. Наживин в трудах бельгийского ученого В. Кудениса), либо тексты, имеющие к художественной литературе весьма отдаленное отношение (творчество Вяч. Иванова). Так, например, в известной, много раз переиздававшейся в переводах на другие европейские языки «Истории русской литературы от истоков до наших дней» крупнейшего итальянского слависта Э. Ло Гатто творчество Бунина, Шмелева, Зайцева рассматривается в главе «От реализма к неоромантизму», в которой также идет речь о Короленко, Гаршине, Чехове, Горьком; разумеется, итальянского ученого не сдерживали идеологические запреты, однако он не склонен делить механически творчество уехавших писателей на «российское» и «зарубежное», рассматривая в целом ту или иную личностную творческую эволюцию на протяжении всей жизни (но в одном разделе своей книги).
в каких идеологических условиях создавались работы О. Н. Михайлова, первопроходца в изучении русского литературного зарубежья на родине1).
История русской литературы XX века как дисциплина переживает период обновления. Формируется корпус текстов , разрастается персоналия , чрезвычайно активно идет публикаторская работа (рукописное наследие М. Горького, М. Шолохова, А. Платонова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, И. Бунина, А. Ремизова, И. Шмелева и других крупнейших русских писателей лишь в последние десятилетия увидело свет в полном объеме или пока только находится в работе4). На очередных Шмелевских чтениях (октябрь 2005 г., ИМЛИ РАН) целый блок докладов был посвящен изучению рукописей писателя, чей архив с 2000 г. хранится в Российском фонде культуры5. Одновременно с подготовкой московскими специалистами собрания сочинений И. С. Шмелева в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге идет работа над 10-томным изданием А. М. Ремизова, и при отрадности факта научного собирания сочинений писателя, жившего и творившего в эмиграции, неизбежно и возникновение общих проблем, встающих перед исследователями и редакторами.
Выступив в 60-е гг. одним из первых исследователей, публикаторов и пропагандистов творчества Бунина, О. Н. Михайлов в 90-е, когда литература русского зарубежья «возвращалась на родину», оказался ведущим экспертом этого потока русской литературы XX века. Постепенно рядом с ним и независимо от него сформировалась новая генерация литературоведов, самостоятельно мыслящих, самостоятельно освоивших новый для российского литературоведения материал и приступивших к его публикации, комментированию, исследованию. Во многих современных исследованиях, посвященных эмиграции и Бунину, критиковать О. Михайлова за самоповторы, небрежность справочно-библиографического аппарата, игнорирование современной научной литературы стало общим местом; и хотя многие упреки нельзя не признать справедливыми и обоснованными, стоит лишний раз подчеркнуть, что публикации и издания советского времени неизбежно несут на себе печать идеологического диктата.
2 Речь идет о восполнении лакун в полном и целостном представлении о литературе XX века -
введении в ее курс произведений не только эмигрантов, но и А. Платонова, Н. Гумилева, А. Ахматовой, О.
Мандельштама и других писателей, оставшихся на родине и вычеркнутых по ряду причин из литературного
процесса (и часто из жизни).
3 Одно из первых претендующих на энциклопедизм изданий, «Золотая книга эмиграции. Первая треть
XX века» (М., 1997), насчитывало несколько сот имен эмигрантов из России, прославившихся на различных
поприщах литературы, искусства и науки; в «Литературную энциклопедию русского зарубежья. 1918-1940.
Писатели русского зарубежья» (М., 1997) вошло около двух с половиной сотен имен только литераторов
русского зарубежья; а в энциклопедический справочник «Литературное зарубежье России» (М., 2006)
включено почти полторы тысячи имен представителей зарубежья, так или иначе связанных с литературой.
4 Укажем на несколько трудов последнего времени, в которых воплотилось стремление к научному
(критическому) изданию рукописного наследия первого русского нобелевского лауреата по литературе
И. А. Бунина: С двух берегов: Русская литература XX в. в России и за рубежом / Под ред. Р. Дэвиса, В. М.
Келдыша. М., 2002; И.А.Бунин. Письма 1885-1904 годов / Под общей ред. О. Н. Михайлова. Подгот.
текстов и коммент. С. Н. Морозова, Л. Г. Голубевой, И. А. Костомаровой. М., 2003; И. А. Бунин: Новые
материалы. Вып. I / Сост., ред. О. Коростелева и Р. Дэвиса. М., 2004. Замечательно, что три указанных тома
обращены к разным аспектам творчества писателя: его дореволюционная жизнь и деятельность, быт и бытие
в эмиграции и место в общелитературном процессе. Ср. наши подробные рецензионно-критические обзоры:
Марченко Т. В. [Рец.] С двух берегов: Русская литература XX в. в России и за рубежом. М.: Наследие, 2002
// Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2004, № 4, с. 62-68; Марченко Т. В. На пути к академическому Бунину // Изв.
РАН. Сер. лит. и яз., 2007, № 1, с. 11-28.
5 См.: Наследие И. С. Шмелева: проблемы изучения и издания. Сб. материалов междунар. научн. конф. 2003 и 2005 г. М., 2007.
Помимо установления и публикации самих текстов, их научного комментирования и подготовки справочного аппарата, разработки текстологических принципов изданий1, одним из актуальных вопросов изучения русской литературы XX века, литературы восстановленной и возвращенной, является ее библиографическое описание. Однако исчерпывающей научной библиографии литературы русского зарубежья пока не существует. Собрав «материалы» к подобной библиографии, оговорив ее «предварительный» характер, О. А. Коростелев несколько раз замечает, что наряду с изданиями, «выдержавшими испытание временем» (к ним, вероятно, стоит причислить книги Г. Струве , М. Раева ), во многих случаях — при обращении к конкретным авторам, жанрам, направлениям, стилям — «ничего более представительного («более сносного» в другом месте. -Т. М.) литературоведам до сих пор выпустить не удалось»4. Однако почти восемьдесят страниц избранной библиографии, в которую не вошли многочисленные статьи даже в научных журналах - не говоря уже о бесчисленных публикациях в научно-популярной и массовой печати, - свидетельствуют о том, что не так давно начатая на родине исследовательская работа в сфере русского зарубежья, прежде всего литературного, ведется активно и достаточно плодотворно. Наряду с изданием собраний сочинений и новых - в буквальном и подлинном смысле слова — разноплановых материалов, архивных документов, в последние годы появился целый ряд монографических исследований, посвященных теоретическим проблемам развития русской литературы XX века (ее целостности, жанрово-типологическому единству, стилевым исканиям).
В отечественном литературоведении четко определились те несколько путей, по которым идет собирание, осмысление и изучение литературы русского зарубежья.
Если учесть, что в XX веке русское правописание несколько раз переживало реформы, что писатели зарубежья по-разному относились к его модернизации (Бунин, например, называл «большевистскую» орфографию «собачьей» и никогда не отказывался от «старого» правописания), а литераторы, приобщившиеся к художественному слову после Октября, не всегда отличались блестящим образованием, то проблема текстологии научных изданий памятников литературы XX века в XXI столетии оказывается весьма острой.
2 Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы.
Нью-Йорк, 1956; 2-е изд., испр. и доп. Париж, 1984; 3-е изд., испр. и доп. [Приложение] Краткий
биографический словарь русского Зарубежья (Р. И. Вильдинова, В. Б. Кудрявцев, К. Ю. Лаппо-
Данилевский). Париж-М., 1997.
3 Raeff М. Л Cultural History of the Russian Emigration 1919-1939. New York-Oxford, 1990; рус. пер.:
Раев M. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции, 1919-1939 / Предисл. О. Казниной. М.,
1994.
4 Литература русской эмиграции: материалы к библиографии. Сост. О. А. Коростелев // Europa
orientalis XXII, № 2,2002, p. 321 (к сожалению, напечатанное в Италии издание и мало доступно российским
исследователям, и грешит большим количеством опечаток). См. также раздел «Избранная библиография» в
издании: Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Гл. ред и сост. Ю. В. Мухачев.
М., 2006. С. 627-647 (библиография подготовлена И. Беленьким). Замечательно, что две эти
«библиографии» не вполне пересекаются: особенные трудности представляет уже не малодоступные, как в
предшествующую эпоху, публикации, вышедшие за рубежом, а учет изданий, выпущенных в последние
годы в российской провинции.
Во-первых, это публикаторско-эдиционная деятельность; рассыпанные на рубеже 1980-1990-х гг. по газетам и журналам, тексты авторов эмиграции постепенно были собранны в тома «избранного» или собраний сочинений. Антологии, в которых составителям хотелось представить литературу зарубежья «всю и сразу», во всем многообразии и полноте, часто не отличались продуманным подбором имен и названий, да и по части комментирования оставляли желать лучшего . Как бы часто и в каких бы сериях не переиздавали художественные произведения И. А. Бунина, научное изучение его творческого наследия не продвигалось от увеличения массовых тиражей; недавно начатый издательством «Воскресение» выпуск «полного собрания сочинений» писателя рассчитан - вероятно, справедливо - на широкую читательскую аудиторию, которая вправе получить поэзию, прозу, публицистику, критику писателя в том объеме, в каком она известна исследователям и публиковалась в разных изданиях с разной степенью полноты и справочной оснащенности; об издании полного научного собрания сочинений Бунина на настоящем этапе освоения и публикации его архивного наследия говорить, разумеется, не приходится (подробнее см. ниже). Между тем целый ряд представителей литературы русского зарубежья на рубеже XX-XXI веков пришел к отечественному читателю в достаточно репрезентативном объеме. Не касаясь уровня научной подготовки текстов, полноты и качества комментариев, укажем на несколько многотомных собраний сочинений авторов зарубежья: А. Т. Аверченко, Г, В. Адамовича, М. А. Алданова,
A. В. Амфитеатрова, Г. Газданова, 3. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцева, И. А. Ильина,
Д. С. Мережковского, В. В. Набокова, Б. Ю. Поплавского, А. М. Ремизова, Н. А. Тэффи,
B. Ф. Ходасевича, М. И. Цветаевой, Саши Черного, И. С. Шмелева. Ориентированные на
фундаментальные научные собрания сочинений прежних лет или призванные найти свое
место на книжном рынке2, эти издания выполнили свое главное назначение - заполнить
лакуны в представлении отечественного читателя о русской литературе XX века и
представить ее, во всяком случае, на книжных полках в необходимой полноте некогда
пропущенных имен и названий. Многотомных «собраний сочинений» удостоились в
основном достаточно крупные литературные величины, но тексты даже
1 Ср., в частности: «Вернуться в Россию - стихами...». 200 поэтов эмиграции: Антология. Сост.
В. Крейд. М., 1995; Литература русского зарубежья: Антология в шести томах. Сост. В. В. Лавров М., 1990—
2003. На этом фоне выгодно отличается двухтомник «Критика русского зарубежья» (сост. и прим. О. А.
Коростелев, Н. Г. Мельников. М., 2002); хотя критическое наследие Г. Адамовича, Д. Святополк-Мирского,
К. Мочульского издают и активно цитируют в исследовательской литературе, критике в целом уделяется
значительно меньше места в издательских планах, и поэтому подобные сборники как раз востребованы и
полезны.
2 К такому типу изданий принадлежит прежде всего задуманная Д. Д. Николаевым серия «Литература
русского зарубежья от А до Я», своего рода энциклопедия эмигрантской литературы в текстах.
малозначительных авторов также были собраны и опубликованы в минувшее десятилетие отдельными изданиями1.
Во-вторых, параллельно началось монографическое изучение творческого наследия как выдающихся, так и менее прославленных представителей литературы русского зарубежья. Исследователям пришлось решать сразу несколько задач, обратившись к рассмотрению творчества писателей, литература о которых исчерпывалась, как правило, несколькими рецензиями или упоминаниями в критических обзорах и «историях русской литературы» зарубежных авторов, а также большим или меньшим набором рецензий в эмигрантской периодике; важным подспорьем была мемуарная литература - хотя наиболее яркие источники, например, сочинения И. Одоевцевой («На берегах Сены») или Н. Берберовой («Курсив мой»), оказывались наиболее спорными и малодостоверными: первая превращала историю литературных взаимоотношений реальных людей в увлекательнейший роман, вторая весьма субъективно трактовала и поступки, и характеры. Тем не менее отечественным литературоведам удалось собрать репрезентативный материал и выстроить творческие биографии писателей русского зарубежья, имена которых прежде даже не упоминались в ни в научных, ни в учебных изданиях о русской литературе XX века, удалось выявить наиболее характерные особенности их художественных миров, провести анализ жанров, поэтики, стиля.
В-третьих, активно шли архивные изыскания и их публикация — как на страницах периодической печати, массовой и научной, так и в специализированных изданиях (альманахи «Минувшее», «Диаспора») и в трудах, подготовленных на базе какой-либо архивной коллекции. Особо выделяется публикаторская работа, связанная с литературно-журналистской деятельностью представителей эмиграции в какой-либо из стран русского рассеяния; так, О. А. Казнина обобщила опыт русского изгнанничества в Англии, Л. Н. Белошевская и ее коллеги из Славянского института в Праге весьма интенсивно собирают и публикуют материалы, связанные с культурной и научной жизнью русских в столице Чехии . Заслуживает специального упоминания и исключительно плодотворная деятельность Г. М. Бонгард-Левина, который сам так определил свой интерес к проблематике литературного зарубежья и свой вклад в его изучение: «Историей русского зарубежья я заинтересовался еще в середине 80-х годов. <.. .> Бальмонт был первым, кто ввел меня в новый для меня мир русской эмиграции и в архивные собрания России. <...>
1 Поскольку даже простое перечисление изданий произведений представителей первой волны
русского зарубежья заняло бы слишком много места, отсылаем читателя к названной выше библиографии
О. А. Коростелева, а также к библиографическим материалам И. М. Беленького, опубликованным в
справочном издании «Литературное зарубежье России» (М., 2006, с. 627-647).
2 См., например, новейшее издание, сочетающее в себе элементы научной монографии и антологии
литературно-критических текстов: Белошевская Л. Н. «Скит». Прага 1922-1940: Антология. Биографии.
Документы. М., 2006.
Позднее во время научных зарубежных командировок я имел возможность работать в архивах США <...>, Франции <...>, Италии <...>, Англи <...>, Швеции <...>, Норвегии <...> и ряда других стран»1. Согласимся, что уникальные возможности ознакомиться с архивными коллекциями мировых научных центров, доступные крупному российскому ученому, позволили ему прикоснуться к огромному пласту разнообразных документальных свидетельств истории и культуры русской эмиграции. Среди русских материалов, извлеченных Г. М. Бонгард-Левиным из архивных хранений Европы и Америки и опубликованных в сборнике «Из "Русской мысли"», в фолиантах «Скифский роман» (М., 1997) и «Парфянский выстрел» (М., 2003), а также составивших целый том «Константин Бальмонт - Ивану Шмелеву: Письма и стихотворения. 1926-193 б»2, находятся и ценные документальные свидетельства выдвижения русских писателей-эмигрантов на Нобелевскую премию по литературе.
В-четвертых, развернулась библиографическая работа и составление справочно-энциклопедических изданий. В «Литературной энциклопедии русского зарубежья 1918-1940» под редакцией А. Н. Николюкина материал по литературному зарубежью впервые собран, систематизирован, оснащен библиографически, что позволяет опираться на ее данные при подготовке трудов уже концептуальной направленности. Выросшая из пробных справочников по зарубежью, издаваемых в серии ИНИОН, энциклопедия насчитывает в настоящее время четыре тома: «Писатели русского зарубежья» (1997), «Периодика и литературные центры» (2000), «Книги» (2002), «Русское зарубежье и всемирная литература» (2006). Этот многотомный коллективный труд, воплощенный в жизнь благодаря невероятным организаторским способностям и усилиям А. Н. Николюкина, первым осознавшим насущность составления именно энциклопедии по зарубежью, является главным подспорьем для всех так или иначе обращающихся к проблемам русской литературной эмиграции. Без подобной энциклопедии было бы просто невозможно двигаться дальше в освоении terra incognita зарубежья, какой оно во многом было для отечественного литературоведения в начале 1990-х гг.
В 2006 г. выпущен энциклопедический справочник «Литературное зарубежье России»4. С одной стороны, отсутствие отсылок к критической литературе, откуда можно было бы извлечь более подробные представления о сочинителях не только прославленных, но и большей частью безвестных, существенно обедняет «свод» в
1 Бонгард-Лсвин Г. М. Из «Русской мысли». СПб., 2002. С. 10.
" Подгот. текста К. М. Азадовскпм и Г. М. Бонгард-Левин. М., 2005.
3 Составленный В. Казаком «лексикон» русской литературы XX в. долгое время оставался
единственным относительно полным справочником (в России издан в 1996 г.)
4 Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Гл. ред. и сост. Ю. В. Мухачев;
под общей ред. Е. П. Челышева и А. Я. Дегтярева. М., 2006. (Серия «Энциклопедия российской
эмиграции»).
научном отношении; с другой стороны, расширение корпуса персоналий до полутора тысяч имен, включение в справочник многих лиц, имевших отношение к литературному труду, которых ради нескольких слов в примечании приходится безнадежно разыскивать по разным источникам, указание дат рождения и смерти, места жительства, псевдонимов и т. п. существенно расширяет общие представления о литературном расцвете в эмиграции и упрочивает печатную «базу данных» о ней. Если «Литературная энциклопедия» ориентирована прежде всего на крупные литературные величины, на тех писателей, которые, без сомнения, оставили свой след в истории русской литературы, то «Литературное зарубежье России» идет по экстенсивному пути, донося до современного читателя и исследователя имена всех, дерзнувших выступить на ниве художественного слова в эмиграции.
Примером подобного экстенсивно-эмпирического рассмотрения эмигрантской эпики (наряду с литературой метрополии) может служить монография Д. Д. Николаева «Русская проза 1920-1930-х годов», посвященная «дистанцированной» литературе, то есть периферийным жанровым образованиям («авантюрная, фантастическая и историческая проза», уточняет подзаголовок на титульном листе). Поскольку автор, вслед за В. М. Жирмунским, считает первоочередной «задачу широкого собирания того материала, на котором должны строиться наши научные исследования, наше историческое понимание литературы»1, исследование опирается на произведения большой массы второстепенных, малоизвестных, забытых литераторов. Обратившись к художественным достижениям создателей массовой литературы и исключив из рассмотрения, с одной и с другой стороны, творчество наиболее крупных, значительных писателей, Д. Д. Николаев довольно удачно реконструирует фон литературного процесса, наполняя его разнообразной и отнюдь не тривиальной литературной конкретикой. Отрадно и то, что обширный эмпирический материал, введенный исследователем, относится к двум «потокам» русской литературы XX в., хотя автор избегает разговора о сходстве и различии литературных исканий в России и за рубежом. Несомненно, впрочем, что уже число имен и названий, впервые привлекаемых к научному рассмотрению, придает монографии дополнительный справочный характер.
О комплексном, справочно-аналитическом подходе к изучению литературы эмиграции межвоенной эпохи свидетельствует и третий выпуск коллективной монографии «Литература русского зарубежья. 1920-1940» (М., 2004), предметом рассмотрения в которой становится периодическая печать русского рассеяния,
1 Николаев Д. Д. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза. Отв. ред. О. Н. Михайлов. М, 2006. С. 9.
являющаяся бесценным кладезем сведений по эмиграции в целом и по ее литературной жизни в частности. Именно поэтому изучение эмигрантской периодики становится вкладом в историю критики и публицистики русского зарубежья, в постижение своеобразия рецепции русской — в том числе и советской - и иностранной литературы. Это подтверждает также обзор Ю. А. Азарова1, представляющий собой свод сведений о газетно-журнальной, литературно-издательской деятельности эмиграции в разных центрах русского рассеяния. Исследователь касается таких важнейших вопросов, как политические взгляды представителей эмигрантской литературы, круг авторов того или иного печатного органа, жанрово-художественные приоритеты и т. д. Замечательно, что в работе затронута и такая острая проблема, как политическая «ангажированность», наличие своего рода «цензуры» в эмигрантских изданиях, что заставляет взглянуть иными глазами на знаменитую «свободу творчества», которую эмигранты неизменно противопоставляли идеологическому диктату в Советской России.
Пожалуй, главной претензией к отечественным изданиям может стать известное пренебрежение работами зарубежных исследователей, ведущих весьма интенсивную разработку основанной на архивах фактографии. Так, в вышеназванном коллективном труде об эмигрантской периодике не упомянут целый ряд весьма значительных изданий. В частности, в разделе о русских берлинских газетах нет отсылки к изданию «Русская эмиграция в Германии с 1918 по 1941 г.» (Berlin, 1995), один из разделов которого носит название «В галактике Гутенберга. Русские издательства и газеты в Берлине»; в статье о периодике в Чехословакии не упомянуты ни библиография Л. Ф. Магеровского, ни двухтомная «Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой Республике» (2000-2001) под общей редакцией Л. Белошевской, в обзоре газеты «Сегодня» проигнорировано четырехтомное, основанное на богатейшем архивном материале, информативно насыщенное издание «Русская печать в Риге» (Stanford, 1997), а также четырехтомный библиографический справочник Ю. Абызова, много лет посвятившего изучению русского печатного слова в Латвии (Stanford, 1990-1991), и публикации «Балтийского архива» (три тома которого, 1999-2000, изданы в Риге и посвящены руссой жизни, в том числе и русским печатным органам в Латвии).
Наконец, в-пятых, появилось довольно большое количество учебников по литературе русского зарубежья (поскольку они не связаны с фундаментальными
Азаров Ю. А. Диалог поверх барьеров. Литературная жизнь русского зарубежья: центры эмиграции, периодические издания, взаимосвязи (1918-1940). М., 2005.
исследованиями, то есть не вносят вклада в создание базы научных знаний о литературе русского зарубежья, то мы не будем касаться этой части Sekundar-Literatur1).
Разумеется, в книгах и статьях разных авторов исследование могло идти сразу по нескольким путям, представляя тексты писателя-эмигранта, биографические сведения о нем, архивные документы и разгадывание художественных миров; собственно, в труде, посвященном тому или иному писателю, чье творчество только открывается для полноценного постижения, библиографическое собирание материалов неотрывно от обращения к архивным хранениям, историко-хронологическая канва тесно связана с философско-теоретическим подходом к написанным несколько десятилетий назад текстам, требующим сегодняшних интерпретаций.
Лишь после того, как по всем указанным путям будет проделана значительная подготовительная работа, можно будет ожидать появления работ обобщающего характера, в которых на первый план выйдут проблемы теоретического осмысления того, что представляет собой литература русской эмиграции в целом, какое место занимает она в истории русской литературы и как соотносится с художественными исканиями советской литературы. Кроме того, созданная вне России, разнообразная и неоднозначная в достижениях, литература русского зарубежья предоставляет необыкновенно богатый материал по межлитературным (межкультурным) взаимодействиям. Покинувшая свои берега «Россия вне России» оказалась в прямом диалоге и с Западом, и с Востоком: насколько возможным оказался этот диалог, услышали ли стороны друг друга или русская эмиграция так и осталась замкнутой и непроницаемой культурно-этнической средой - на эти вопросы исследователям еще предстоит искать ответы.
Один из современных авторов назвал литературу русского зарубежья «завершенной страницей» . Это не столько полемический ход, сколько вполне оправданный ретроспективный подход к созданному в эмиграции «единому тексту», к тому типу сознания (сформулированную Р. Гулем как «Я унес Россию»), который
' К самым первым попыткам дать студентам в руки пособие по русской эмиграции следует отнести, вероятно, книгу А. Г. Соколова «Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х гг.» (М., 1991); затем свои исследования и публикации, посвященные писателям первой волны эмиграции, обобщил в едином томе О. Н. Михайлов (Литература русского зарубежья. М., 1995), и чуть позже появилась монография
B. В. Агеносова «Литература russkogo зарубежья. 1918-1996» (М., 1998). Начиная с конца 1990-х гг. в
столичных и крупных университетских центрах выходит целый ряд учебных пособий. Поскольку названия
учебных пособий практически идентичны, назовем лишь имена авторов (составителей) и выходные данные:
Л. В. Соколова (Сыктывкар, 1998), Г. И. Данилина (Тюмень, 1998), А. И. Ванюков (Саратов, 1999),
Н. В. Барковская (Екатеринбург, 2001), А. И. Смирнова (Волгоград, 2003-2004), Т. Л. Скрябина (М., 2003),
C. И. Баранов (М., 2006).) «Русская литература конца XIX- начала XX века и первой эмиграции» (М., 1998;
2002) П. Басинского и С. Федякина выгодно отличается своим построением, в котором русская литература,
волей исторических катаклизмов разделенная на потоки, предстает как целостное явление. Как на
обобщение опыта преподавания истории эмигрантской литературы в высшей школе укажем на курс лекций
Т. П. Буслаковой «Литература русского зарубежья» (М., 2003).
2 См.: Есаулов И. Праздники, радости, скорби: Литература русского зарубежья как завершенная страница // Новый мир, 1992, № 10. С. 232-250.
сформировался в эмиграции и воплотился в художественном слове. Октябрь 1917 г. был подлинной национальной катастрофой, выбросив за рубежи России миллионы беженцев; именно поэтому послереволюционная русская эмиграция стала уникальным историко-культурным феноменом. И если в Советском Союзе существовал «архипелаг Гулаг» и сформировались, помимо официальной литературы «социалистического реализма», литература «внутренней эмиграции» и литературный «андеграунд», то архипелаг «зарубежной России» раскинулся по всему миру, по всем его континентам, с центром и со столицей в Париже. Огромная масса русских людей, поголовно грамотных, дала массового читателя; высылка за пределы страны гуманитарной интеллигенции (знаменитые «философские пароходы») усилила интеллектуальный потенциал зарубежья.
На пороге XXI века перед исследователями стоит задача осознать русскую литературу минувшего столетия как единое целое и «создать историю русской литературы XX в. как обобщающую картину единой национальной культуры <...>, показать целостность как литературного процесса, так и творчества отдельных писателей в дореволюционный и послереволюционный период, где бы они ни находились - в России или за ее рубежами»1. Разобраться в содержании понятия «литература русского зарубежья» несложно, поскольку речь идет о писателях, эмигрировавших за пределы отечества после Октябрьского переворота, о литературном процессе, протекавшем вне России, в разных центрах русского рассеяния, о корпусе текстов, созданных в отрыве от родины. Между тем современным исследователям очевидно, что «русская литература оставалась целостной благодаря русскому языку, национальной проблематике, а также традиции русской культуры, классической литературы прошлого <...>» . И столь же бесспорным фактом, как художественная преемственность литературы русского зарубежья, продолжавшей традиции русской классики «золотого» XIX в. и Серебряного века, для современного сознания является мысль о том, что духовные ценности, созданные русскими в изгнании, их трагический опыт и трагическое мировидение стали неотъемлемой частью русской культуры.
При всей идеологической полярности, несовпадении нравственно-духовных ориентиров и эстетических исканий, русские писатели по обе стороны российской границы писали на одном, русском языке. Именно язык оказался в конечном итоге главным залогом единства литературы, и правы те современные исследователи, которые указывают на ее целостность при разности литературных процессов в метрополии и диаспоре. Поскольку те массы людей, которые покидали свою страну после 1917 г.,
1 Николюкин Л. Н. О русской литературе, с. 253.
2 Там же, с. 239.
меньше всего думали об обустройстве на новом месте, а главную цель и смысл своей жизни видели в возвращении в Россию, то необходимость сохранения национального самосознания была для русских эмигрантов очевидной, а язык в этой ситуации оказывался главным средством национальной самоидентификации, осознания не только этнической, но прежде всего культурной принадлежности. Это тем более относится к носителям словесной культуры: «Писатели зарубежья рассматривали русский язык как национальное достояние, как память об утраченной родине. Их внимание обращено к России» .
В монографии, призванной проанализировать и обобщить «опыт поэтического развития 20-30-х годов в России и в зарубежье», А. И. Чагин утверждает мысль о единстве русской литературы, точнее — «о русской литературе XX века как о внутренне целостном явлении», и делает попытку перевести разговор о нем из области теоретико-методологической «на пространства конкретных художественных текстов» . Совершенно справедливо исследователь полагает, что только «пристальное изучение произведений, созданных в России и в зарубежье, сопоставление их, позволяющее наглядно увидеть взаимные пересечения, соприкосновения, взаимодействие или взаимоотталкивание художественных миров, возникавших по обе стороны границы, их глубинное родство или ? отсутствие оного», способно создать «предметное и доказательное» представление о целостности русской литературы прошедшего века . Между тем, характер прочтения произведений, вышедших из-под пера русских авторов по обе стороны железного занавеса, в западной литературно-критической традиции отличается изначальной целостностью, а значит, корпус зарубежной журнальной критики и научных публикаций „ нуждается в пристальном собирании и изучении как важнейший источник по изучению русской литературы XX века как единства. Тем не менее, завершая свою монографию перечнем тем и проблем, которые ждут своего рассмотрения на путях создания научной истории русской литературы XX века, А. И. Чагин проблему ее рецепции в иноязычных традициях не упоминает.
1 Кожевникова Н. А. О языке художественной литературы русского зарубежья // Русский язык
зарубежья / Под ред. Е. В. Красильниковой. М., 2001. С. 119.
2 Чагин А. И. Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы. М.,
1998. С. 13, 15.
3 Там же, с. 15.
0.2. Русская литература в европейском историко-культурном восприятии:
постановка проблемы
С большой долей уверенности можно констатировать, что рецепция русской литературы критикой и читателями на родине и за рубежом является одной из наименее разработанных тем, которой не всегда уделяется должное внимание1. Например, в коллективном труде «Русское зарубежье и всемирная литература» (2006) - четвертом томе «Литературной энциклопедии русского зарубежья» - крупные величины русской и мировой классики предстают в литературно-критическом преломлении эмиграции. Требующая долгого тщательного изучения, сама проблема поставлена в вышеназванном издании чрезвычайно своевременно, поскольку нацелена на панорамный охват многовекового литературного наследия, так или иначе отраженного в публикациях русского зарубежья. И хотя исполнение труда в целом (в большинстве очерков весьма хаотично выбраны из эмигрантской периодики и крайне поверхностно представлены отдельные критические отклики) может считаться лишь подступом к будущему многоплановому исследованию, его главная цель - представить литературно-культурное ; бытие русских в изгнании как часть национальной русской и мировой культуры - следует считать достигнутой. Однако называя во вступительной заметке «От составителя» этот том «заключительным», А. Н. Николюкин не предполагает, тем самым, создания «зеркального» труда, то есть свода литературно-критических статей о восприятии и оценке русского зарубежья западноевропейским литературно-критическим сознанием. Скорее всего, отказ (возможно, временный) от исследования, посвященного рецепции прозы и поэзии русского зарубежья - за рубежом, может быть объяснен только отсутствием накопленного и систематизированного материала.
В отношении к эмиграции как к уникальному целостному явлению есть определенный риск исследовать ее как своего рода национально-духовное гетто2. Так, весьма интересные и разнообразные статьи сборника научных трудов «Классика и
Эта тема затронута, в частности, в монографии О. А. Казниной «Русские в Англии» (М., 1997), в довоенном издании, посвященном встречам русских и французских писателей: Sebastien R., Vogte V. Rencontres: Compte rendu des recontres entre ecrivains francaise et russes. Paris, 1930. Однако большинство книг, освещающих жизнь русской эмиграции в рассеянии, в разных центрах русского зарубежья, сосредотачиваются прежде всего — по понятным причинам — на собственно русском обществе и его духовной жизни, практически не уделяя внимания тому, как воспринимались русские и русская литература представителями тех стран, где они нашли приют, как отражалось их литературно-художественное бытие в иностранной прессе.
2 Основания для этого, безусловно, есть: «Да и правду сказать, — признавала 3. Н. Гиппиус: — русские эмигранты во Франции и сами, чем дальше, тем все больше в свой круг замыкаются, слишком, может быть остро чувствуя свою безземность, безродинность, свое приживальчество на чужой земле» (цит. по: Гиппиус 3. Н. Арифметика любви. Неизвестная проза (1931-1939 гг.). СПб., 2003. С. 441).
современность в литературной критике русского зарубежья 1920-1930-х годов» объединены идеей проследить своеобразие интерпретации именно русской -классической и современной - литературы в эмиграции. Сам по себе предмет исследования связан именно с рецепцией, но это восприятие собственного художественного наследия, идущее по пути самопознания (и в оправдание главного вопроса евразийства: «кто мы такие?» ). Критика русского зарубежья вряд ли была замкнута лишь на проблемах национальной словесности, и критики не были исключительно ее летописцами: вовлеченность эмиграции в общеевропейский культурный процесс была очевидной, но все еще мало вовлекается в поле зрения исследователей . Когда в одной из работ разбираемого труда речь заходит о русско-польских связях, то автор, О. В. Розинская, подходит к освещению этой темы сбалансированно, освещая не только литературно-критическую деятельность русских в межвоенной Польше, но и отклики польской прессы, представителей научного и литературного мира на публикации русских авторов на литературные темы. В частности, статья Д. В. Философова об Адаме Мицкевиче вызвала полемику в польской научно-литературной среде, поскольку рассуждения русского критика и публициста «выходят за национальные рамки, приобретают общегуманистическое звучание»4.
Вот этого общегуманистического звучания недостает порой исследованиям русского зарубежья, как будто центрами русского рассеяния были не европейские столицы, а глухая провинция. Как будто даже в эмиграции продолжалось «существование вне европейской системы», так волновавшее когда-то Пушкина «и как европейца, и как национального мыслителя»5. Но какие бы формы ни принимало восприятие Россией Европы и Европой России, совершенно прав С. Г. Бочаров, когда так раскрывает «крылатое слово» Н. Н. Берберовой («мы не в изгнании, мы в послании»): «Русское зарубежье оказалось экстерриториальным образованием внутри новой Европы, только что вышедшей из внутриевропейской и мировой войны, и тут же себе усвоило новую внутренне-внешнюю точку зрения на это послевоенное европейское состояние.
) ' Классика и современность в литературной критике русского зарубежья 1920-1930-х годов. Сб. научн. трудов / Отв. ред. Т. Г. Петрова Ч. I, II. М., 2005,2006.
2 См.: Ревякина А. А. Русская литература в контексте идей евразийства 1920-х годов // Указ. изд., с. 52.
3 В этом смысле выделяется ориентацией именно на русско-европейские связи и художественные
пересечения том «Европа в зеркале русской эмиграции (первая волна, 1918-1940)», большинство статей в
котором посвящено «европейскому опыту» русского зарубежья (Europa orientalis XXII, 2003, № 2).
4 Процитированное мнение высказано польской исследовательницей И. Облонковской-Галанчак и
приведено в разбираемой статье (см.: Розинская О. В. Литературные критики эмигрантской Варшавы
(русско-польские связи) / Классика и современность в литературной критике русского зарубежья, с. 44.
5 Бочаров С. Г. «Европейская ночь» - как русская метафора: Ходасевич, Муратов, Вейдле // Europa
orientalis, XXII, 2003, № 2, с. 89.
Послевоенное и предвоенное - это сразу предвиделось тоже...» . Вступала ли «европейская мысль в диалог с мыслью русской» , и каковы были темы и следствия этого диалога, еще предстоит изучать3.
Однако само бытие русских писателей в зарубежье, в отрыве от России, в чужой этнокультурной среде побуждает поставить вопрос о взаимосвязях и взаимовлиянии (или, возможно, их отсутствии) литературы русского зарубежья и словесного искусства тех стран, где жили и творили русские писатели4. «Закономерен поэтому вопрос, -справедливо замечает Е. П. Челышев, - насколько влияла на них среда и литература той страны, в которой они жили. Проблема взаимодействия русской литературы с литературами тех стран, где она создавалась, заслуживает серьезного внимания. Однако при всей значимости эта проблема продолжает оставаться малоизученной. <...> Проблема взаимодействия русской эмиграции с зарубежной литературой и средой должна занять достойное место в наших исследованиях»5. Пока подобные разыскания явно недостаточны и касаются всего нескольких имен . Впрочем, попытки дать ответ на вопрос, как воспринималось, оценивалось, критически и художественно осваивалось творчество писателей-эмигрантов в той или иной стране, так или иначе делаются на страницах отдельных трудов и становятся предметом диссертационных исследований , хотя и не стали пока частью систематического проекта, который охватил бы и наиболее значительные имена из русского рассеяния, и сами страны этого рассеяния. Как на целенаправленное изучение именно рецепции русской литературы на Западе, укажем на наши работы, посвященные истории обсуждения кандидатур писателей русского
' Там же, с. 91.
2 Там же.
3 В начале XXI в. к подобному исследованию - в широком сотрудничестве со специалистами других
стран - обратились слависты Женевского университета, пытаясь восстановить картину взаимодействия
французских писателей и представителей русского литературного зарубежья, литературный диалог. Тезисы
международной конференции «Восприятие французской литературы русскими писателями-эмигрантами в
Париже. 1920-1940» довольно подробно изложены Т. Н. Тулиной в реферативном журнале: «Соцн. и
гуманит. науки. Отечеств, и зарубежн. лит. Сер. 7. Литературоведение» (2006, № 3, с. 179-188).
4 Наиболее выразительный пример - восприятие эмиграцией творчества М. Пруста; критические
отклики представителей русского зарубежья собраны в антологии «Марсель Пруст в русской литературе»
(М, 2002).
5 Челышев Е. П. Российская эмиграция / Челышев Е. П. Избр. труды в 3 т. Т. 3. М, 2002. С. 37, 38.
6 См., например, антологии: Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников / Предисл.
Л. Аллена; Сост.: Л. Аллен, О. Гриз - СПб.; Дюссельдорф, 1993; Классик без ретуши. Литературный мир о
творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.,
2000).
7 См., например: Рудзевич И. Русские писатели-эмигранты в Польше. СПб., 1994. Впрочем, за
исключением В. Набокова и Е. Замятина, все остальные рассматриваемые писатели-эмигранты принадлежат
к «третьей волне». Также польскому взгляду на одного из «классиков» эмиграции посвящена статья Ф.
Апановича «И. Бунин в Польше: история восприятия» (Филологические записки. Вестник
литературоведения и языкознания. Вып. 20. Воронеж, 2003. С. 62-74). Чаще всего, по понятным причинам, к
рассмотрению привлекаются английская критика и литературоведение, ср.: Ионина А. А. Литература
русского зарубежья 1920-1940-х годов в оценке англоязычной славистики: Автореф. дне. ... канд. филол.
наук. М., 1995; Кучина Т. Г. Творчество В. Набокова в зарубежном литературоведении : Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. М., 1996.
зарубежья в Нобелевском комитете (1910-1950-е гг.): экспертные очерки, составленные шведскими профессорами-славистами для нобелевского ареопага, чаще всего были первыми (!) по времени монографическими обзорами творчества русских писателей-эмигрантов; не публиковавшиеся ранее, они содержат ценнейший материал по разным аспектам восприятия России в ее историческом прошлом и настоящем сквозь призму художественной литературы .
Проблемы восприятия и интерпретации разных авторов чрезвычайно многоаспектны — начиная с оценки произведений в современной им русскоязычной критике и до включения или не включения тех или иных имен в «истории литературы», энциклопедии и словари. От читательского отношения к книге до ее истолкования историками литературы воистину лежат «дистанции огромного размера», однако именно на путях пересечения синхронного и диахронного рассмотрения литературного наследия возможно его полноценное осмысление. В том и другом подходе есть свои преимущества и недостатки. Взгляд на родную литературы изнутри языковой культуры и менталитета, в которых создавалась эта литература, позволяет, бесспорно, лучше постичь и внешнюю изобразительную сторону, и глубинные смыслы. Между тем очевидно, что литература сама воздействует на национальное самосознание, формирует его, и потому взгляд со
1 См.: Неизвестные страницы бунинской Нобелианы (по материалам архива Шведской академии) //
Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 1997, № 6, с. 23-35; В ожидании «чуда»: Нобелевские мытарства Дмитрия
Мережковского // Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2000, № 1, с. 25-35; Почему Максиму Горькому не дали
Нобелевскую премию (по материалам архива Шведской академии) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2001, № 2, с.
3-16; Русские писатели и Нобелевская премия (1914-1937) // Slavia, 2001, № 4, с. 183-196; Ivan Smelev und
der Nobelpreis fur Literatur, Zeitschrift fur Slawistik, 2001, Heft 4, S. 377-389; Сто лет Нобелевской премии по
литературе: слухи, факты, осмысление // Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2003, № 6, с. 25-37; Вокруг Нобелевской
премии: К истории взаимоотношений М. А. Алданова и И. А. Бунина // Revue des etudes slaves, 2004, t.
LXXV/1, p. 125-139; «Понять - простить?» Некоторые аспекты историко-литературного восприятия
романистики П. Н. Краснова // Tusculum slavlcum. Festschrift fur Peter Thiergen. Hrsg. von E. von Erdmann u. a.
Zilrich, 2005, S.151-164 (Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas. Bd. 14); Русская эпическая традиция
глазами нобелевских экспертов (к 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова и к 40-летию присуждения
ему Нобелевской премии) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз., 2005. № 4, с. 24-36; «En ma qualite d'ancien laureat...»:
Иван Бунин после Нобелевской премии // Вестник истории, литературы и искусства, М., 2006, № 3, с. 80-91.
2 Следует указать на целый ряд работ, в которых писатели русского зарубежья или события его
литературно-художественной жизни (литературная полемика, журнальные проекты и под.) рассматриваются
сквозь призму собственно эмигрантской критики, через анализ публикаций в периодической печати. См., в
частности: Дарк О. Загадка Сирина: Ранний Набоков в критике «первой волны» русской эмиграции // Вопр.
лит., 1990, № 3. С. 243-257; Сергеев О. В. А. М. Ремизов в зарубежной критике // Русское литературное
зарубежье: Сб. обзоров и материалов. Вып. I. М., 1991. С. 100-120; Николаева К. С. Константин Бальмонт в
восприятии писателей русского зарубежья // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные
искания XX века. Вып. 2. Иваново, 1996. С. 46-52; Тихомирова Е. В. Творчество М. Цветаевой в критике
русского зарубежья: эпизод с «Благонамеренным» // Там же, с. 189-198; Согрина М. «Восхождение» к
стилю. Поздняя проза Бунина в эмигрантской критике // XX век. Литература. Стиль. Вып. 2. Екатеринбург,
1996. С. 150-160; Макаров Д. В. И. С. Шмелев в критике русского зарубежья (христианский контекст) //
Литература и культура в контексте христианства. Ульяновск, 1999. С. 73-77; Буслакова Т. П. Парижская
«нота» в русской литературе: Взгляд критики // Русская литература XX века на родине и в эмиграции:
Имена. Проблемы. Факты. Вып. I. М., 2001. С. 90-101; Мартынов А. В. Литература на подошвах сапог: Спор
о «молодой» эмигрантской литературе в контексте самопознания русской эмиграции // Обществ, науки и
современность. М., 2001, № 2. С. 181—190; Степанова Т. М. Борис Зайцев в литературоведении и критике //
Филологический вестник, Майкоп, 2002, № 4, с. 34—40; Коростелев О. А. «Опыты» в отзывах современников
// Росс, литературоведч. журнал, 2003, № 17, с. 3-46.
стороны, с точки зрения носителя иных духовных, нравственных, интеллектуальных ценностей, представителя иного народа, имеющего иные ценностные ориентиры, впитавшего другие представления о мире и человеке, возросшего на традициях иной национальной литературы, позволяет произвести ревизию многих устоявшихся представлений и расширить национальный историко-культурный фон до мирового философско-эстетического контекста. Почти полное пренебрежение к характеру и особенностям рецепции на Западе творчества крупнейших русских писателей, проживших полжизни в изгнании, — Мережковского и Бунина — демонстрируют издания из известной серии «Pro et contra», опирающиеся исключительно на мнения и суждения русскоязычной критики, философии, литературоведения1.
В случае с рецепцией литературы иноязычными читателями, критиками, исследователями мы имеем дело с принципиально иным подходом к тексту, обычно воспринимаемому в переводе. Обратившись к опыту рецепции русских писателей первой половины XX века их западноевропейскими современниками, мы обнаружим расхождения с русской критикой и литературоведением по ряду принципиальных вопросов, непривычные, а порой и неприемлемые трактовки жанровых особенностей, образно-сюжетной структуры, отдельных формальных и содержательных элементов, неожиданные сближения и поиск литературных влияний там, где их, казалось, заведомо не может быть. Чем же привлекателен и важен такой взгляд «извне», ломающий многие привычные стереотипы и колеблющий почти незыблемые каноны? Именно тем, что и стереотипы, и каноны у «чужого», иностранного ценителя и критика также «чужие», иные, и именно это обусловливает свежесть, новизну, оригинальность прочтения хорошо известных текстов. Обязательна весьма существенная оговорка: речь идет не о предпочтении зарубежных интерпретаций отечественным взглядам и концепциям; тем более исключается какая бы то ни было абсолютизация суждений и мнений зарубежных критиков и литературоведов. Наша задача — ввести в научный оборот и проанализировать до сих пор остававшиеся неизвестными образцы рецепции русской литературы иностранными читателями и специалистами, расширить круг
1 Ср.: Д. С. Мережковский: Pro et contra. Личность и творчество Дмитрия Мережковского в оценке современников. Антология / Сост., вступ, ст., коммент., библиогр. А. Н. Николюкина. СПб., 2001; И. А. Бунин: Pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология / Сост. Б. В. Аверин, Д. Риникер, К. В. Степанов, библиогр. Т. М. Двинятиной, А. Я. Лапидус. СПб., 2001. Вопреки подзаголовку второй книги, представленные в ней материалы не позволяют приписать подавляющее большинство рецензий и литературоведческих статей перу «мыслителей» (несмотря на высокое качество большинства хорошо известных, но не потерявших своей актуальности публикаций); двадцать страниц отданы под тексты американского слависта Дж. В. Конолли и Р. Боуи, о котором, как об авторе, не сказано ничего (обычно опускают сведения о лицах, всем известных, -Сталин, Рузвельт, Лев Толстой), и хорошую статью Д. Риникера, постоянно публикующегося в России и по-русски; этим, собственно, вклад «зарубежных мыслителей и исследователей» и ограничивается.
источников для написания полноценной истории русской литературы XX века, углубить и сделать более разнообразным устоявшийся набор трактовок и истолкований известных произведений.
Так, Лев Толстой воспринимается читателем и исследователем, для которого тексты писателя на родном русском языке с детства стали хрестоматийными, соотнесенными с личным опытом жизни в России, в столицах или деревне, совершенно иначе, чем человеком, воспитанном на текстах (и, разумеется, языке) Флобера, Стендаля, Мопассана. Между тем Толстой — это лишь единичный пример — оказывает могучее влияние на русское сознание, на протяжении всей жизни воздействуя на интеллектуально и эстетически развивающуюся в российском социокультурном пространстве личность. Избежавший подобного воздействия иностранный читатель, сформировавшийся в иных духовных обстоятельствах, иными глазами смотрит и на то, что изображал Толстой, и на то, как он это делал формально, и иначе отвечает на вопросы «почему» и «зачем». Не абсолютизируя ни собственный национальный взгляд на отечественную словесность, ни инонациональный, автор настоящего исследования стремится к восстановлению тех представлений о русской литературе и, следовательно, о России, которые складывались на основе прозы русского зарубежья и которые оказались запечатленными в ряде малоизвестных, но от этого не менее ценных источников. Эпоха, рамками которой ограничено наше исследование, определяется, с одной стороны, концом 1910-х гг.1 (завершение Первой мировой войны, Октябрь 1917 г. и массовое беженство русских) -именно в это время среди кандидатов на Нобелевскую премию оказались Д. С. Мережковский и А. М. Горький, а с другой - серединой 1950-х гг., когда еще были живы, творили и обращались с номинациями в Шведскую академию представители литературы первой волны эмиграции из России. Рамки настоящего исследования, таким образом, несколько шире привычных и вполне условных 1920-1940 гг.2, но объясняется это хронологическое расширение датировкой документальных источников и стремлением
Исключительно точно замечено А. II. Николюкиным: «Поэзия эмиграции начиналась в России. Определяющим было не местонахождение писателя - в России или за ее пределами, - а восприятие происходящего в стране». И далее ученый приводит два весьма убедительных примера — первых «эмигрантских» стихов 3. Н. Гиппиус, созданных в Петрограде, и первых страниц книги жестокой публицистики И. А. Бунина, написанных еще в Москве (см.: Николюкин А. Н. О русской литературе. Теория и история. М., 2003. С. 237-238). Поэтому тот факт, что Д. С. Мережковский был впервые выдвинут на Нобелевскую премию в начале Первой мировой войны (1914 и 1915 гг.) оказался для нас более решающим в определении временных рамок настоящего исследования — нельзя механически, как это делалось в советском литературоведении, подходить к делению творчества того или иного писателя на «дореволюционное», изучаемое до 1917 г., и «эмигрантское», словно с нуля начавшееся в изгнании. Если отказаться от рассмотрения произведений Мережковского Нобелевским комитетом перед самой революцией, придется отказаться от идеи создать целостную картину восприятия этого писателя на Западе. 2 Шмелева не стало в 1950 г., Бунина в 1953 г. - даже даты физического бытия писателей-эмигрантов сопротивляются этой условной хронологии (оба классика русского зарубежья после войны не просто «доживали» свой век, но работали над новыми сочинениями).
в полной мере осветить как историю борьбы писателей русского зарубежья за Нобелевскую премию, так и отдельные эпизоды этой борьбы.
Русская литературная традиция была достаточно внезапно оборвана Октябрем 1917 г., обернувшимся вынужденным бегством и эмиграцией для одних писателей и столь же вынужденной «сменой вех» (говоря исключительно метафорически, а не терминологически) для других. Тем временем «сторонний наблюдатель», европейский читатель и критик, продолжал смотреть на русскую литературу как на единый культурно-исторический феномен: идеология большевизма воспринималась скорее как продолжение русской ментальности, национального характера, чем как нечто чуждое и враждебное духу русской нации. Мировоззренческий раскол внутри нации воспринимался прежде всего с формально-эстетической стороны, в литературе и искусстве ловили отражения времени и самопризнания русского народа, пытающегося настоящее («жердочку между вечностями», по образному определению М. Осоргина) связать с прошлым и будущим. Говоря о культуре и литературе «по эту и по ту сторону границы», западноевропейские исследователи выделяют прежде всего «советский авангард, который предался будущему», и эмигрантов - «хранителей воспоминаний о минувшем»1. Но при более пристальном рассмотрении выясняется, что для европейцев представители русской литературы по обе стороны становящейся все более непроницаемой границы с Россией (СССР) казались расколотыми лишь политически, тогда как с точки зрения художественного слова все они в равной степени были наследниками Толстого и Достоевского2.
Само знакомство европейской читательской аудитории с русской литературой, классической и современной , в первой половине XX века было весьма приблизительным и отрывочным. Наиболее выразительный и почти поразительный пример рецепции творчества русского писателя — интерпретация бунинских произведений, особенно после 1933 г., когда писатель стал нобелевским лауреатом. Всякий раз, когда речь заходила о творчестве Бунина, его неизменно пытались проинтерпретировать исходя из известной
1 Schlogel К. Russische Emigration in Deutschland 1918-1941. Fragen unci Thesen / Russische Emigration in
Deutschland 1918 bis 1941: Leben im europaischen Burgerkrieg. Hrsg. von Karl Schlogel. Berlin, 1995. S. 14.
Заметим, что «традиционалисты», «хранители памяти» обращались прежде всего к русскому читателю,
тогда как «авангардисты» — и советские, и работавшие на Западе (прежде всего художники) —
апеллировали к Западу, хорошо уловили наиболее современные тенденции европейского искусства и
оказали на него, в свою очередь, немалое влияние. Ср. также размышления об отношении к традиции в
России и в русском зарубежье в книге А. И. Чагина «Расколотая лира» (глава «Пути традиционализма», с. 26
и далее).
2 Л. И. Чагин цитирует Ч. Сноу, прямо заявившего, что Запад «постоянно следит за советской
литературой оком политики» (Чагин, Расколотая лира, с. 11). Далее исследователь указывает на изначальное
единство русской литературы, развивавшейся и осознаваемой в двух потоках, — на общность «духовных,
этических истоков», «традиций национальной культуры» (там же, с. 21).
3 Речь идет о литературе в широком смысле, а не о тех ключевых нескольких, пусть даже великих
именах, по которым обычно принято судить о русской литературе в мире.
традиции — повествовательной прозы или лирики. Замечательно, что в одной из французских статей, появившихся в 1922 г. в связи с началом серийных изданий русских авторов во французских переводах, рецензент сетовал на недостаточное знакомство французской публики с русской литературой. Э. Жалу так начинал свой обзор: «Нам кажется, будто мы знаем русскую литературу, потому что мы читали Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого (это и впрямь ее самые великие представители), но мы пренебрегаем всеми прочими писателями, составляющими ее славу; мы едва открыли Антона Чехова, прославленного во всем мире; мы ничего не знаем о Гончарове, который создал в "Обломове" роман характера, который своим ленивцем равнозначен честолюбцу "Красного и черного", несчастной в браке буржуазке "Мадам Бовари", скупцу "Евгении Гранде", поглощенному собой человеку "Эгоиста". Наконец, среди книг, переведенных на французский язык, которые стоило бы из любознательности прочитать, оказываются такие великолепные произведения, как "Господа Головлевы" Салтыкова-Щедрина <...>, "Подлиповцы" Решетникова, "Тысяча душ" Писемского, "В мире отверженных" Мелынина или "Записки врача" Вересаева» . И далее французский критик продолжал уже о Бунине: «Когда появился "Господин из Сан-Франциско", имя Ивана Бунина было для нас совершенно неизвестным. Он начинает, впрочем, несколько выходить из тени, но я полагаю, что его ждет вскоре большая слава благодаря трагичности и чистой красоте его творчества. Иван Бунин, подобно Дмитрию Мережковскому, Александру Куприну и Константину Бальмонту, бежал после революции в Париж» . Это все, что известно французскому литературному критику о писателе, который в следующем году впервые будет выдвинут на Нобелевскую премию (кстати, номинировать его будет именно француз, Р. Роллан) и который получит единственную международную награду по литературе через одиннадцать лет после выхода в свет процитированной рецензии.
Свои пути постижения русской литературы были и в Англии, и в Германии (особенно выразительна литературная критика Третьего рейха, готовящегося к войне с Россией на уничтожение и сквозь эту призму приближающегося Drang nach Osten тщательно всматривающегося в литературный автопортрет восточного соседа). XX столетие внесло существенные коррективы в рецепцию и русской классики, и произведений современных русских авторов. Первое десятилетие века было овеяно великой славой могучего Толстого, а уже через несколько лет после его смерти война и революция прервали плавный ход русской литературы. История поставила грандиозный
1 Л. Мельшин (в тексте ошибочно напечатано «Melchnie») -— один из псевдонимов писателя-
народника П. Ф. Якубовича. Речь идет о его автобиографической повести «В мире отверженных. Записки
бывшего каторжника» (опубл. в 1895-1898 гг. в журнале «Русское богатство»).
2 Е. Jaloux. «Monsieur de San-Francisco» par Ivan Bounine II Eclair [Молния] 27.12.1922.
3 Там же.
трагический эксперимент, заставив писателей выбирать «между Россией и свободой», между изгнанничеством и тоталитарным режимом, между диктатом денежного мешка и диктатурой пролетариата. Послереволюционный литературный процесс оказался обусловлен прежде всего экстралитературными факторами. О характере очевидного, тем не менее, единства русской литературы XX века чрезвычайно проницательно, на наш взгляд, высказалась С. Г. Семенова. По сути, исследовательница сформулировала принцип компенсаторности, согласно которому русская литература XX века смогла выразить в своем эмигрантском ответвлении те нравственно-художественные искания, которые были невозможны в советской литературе, давшей многие яркие образцы особого, нового искусства. «Сейчас, обозревая цельную панораму русского литературного развития в 1920-1930-е годы, видишь, - указывает С. Семенова на одно из направлений, развивавшихся в литературе зарубежья, - что экзистенциальное внедрение в личность, в самые глубокие ее извивы, самое сокровенное и скрытое, в последние ее вопрошания, стенания и метафизическое отчаяние, в те внутренние выходы, какие эта личность находила, - все это стало одним из реальных исполнений эмигрантского задания своей литературе: стать существенным дополнением к искусству метрополии, к тому, чего в нем не было или недоставало» . Эта исключительно плодотворная идея увязывается, к сожалению, по преимуществу с опытами «незамеченного поколения», по художественному уровню своих свершений весьма далекого и от русской классики, и от современной ему европейской литературы.
Составители аннотированной библиографии «Изучение литературы русской эмиграции за рубежом» (1920-1990-е гг.) справедливо полагают, что само это научное изучение «имеет богатую традицию, заложенную в 1920-е - 1990-е гг. эмигрантской критикой. <...> Затем <...> русскую зарубежную литературу стали активно изучать иностранные ученые. Современная российская наука, приступившая к систематическому изучению этой части национального искусства слова в середине 1980-х гг., неизменно
обращается к уже накопленному опыту» . Во введении к библиографическим материалам содержится краткий обзор восприятия и интерпретации литературы эмиграции в разных европейских странах русского рассеяния (прежде всего во Франции, Германии, Польше, Чехии). Поскольку авторы издания считали необходимым описать именно научное рассмотрение русской эмигрантской литературы и опирались исключительно на литературоведческие работы, совершенно не касаясь появлявшихся в европейской прессе
1 Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика - Видение мира - Философия.
М., 2001. С. 517.
2 Изучение литературы русской эмиграции за рубежом (1920-1990-е гг.). Аннотированная
библиография: монографии, сборники статей, библиографические и справочные издания. Отв. ред. Т. Н.
Белова. М, 2002.С. 6.
в межвоенный период публикаций рецензионно-критического характера, картина западноевропейской рецепции русского литературного зарубежья современниками -отнюдь не по вине составителей библиографии - оказывается исключительно мало репрезентативной. Так, кроме включающей в себя три литературных портрета - Бунина, Куприна и Алданова - брошюры Ш. Ледре «Три русских романиста»1, составители указателя не смогли назвать больше ни одной французской работы довоенного периода о писателях русского зарубежья, посетовав, что «благоприятные условия» для изучения литературы эмиграции были прерваны войной, а в послевоенное время о ней также писали по большей части сами эмигранты . В сборнике научных трудов «Российское зарубежье в Финляндии» речь о литературе не идет совсем, что вполне оправдывается отсутствием значительных писательских величин в этом регионе русского рассеяния. Однако это издание показательно не пренебрежением рецепции русского искусства в целом -напротив, в состав сборника вошла статья Т. П. Бородиной «И. Е. Репин в скандинавской и финской прессе», но отсутствием то ли интереса к теме восприятия русской литературы, то ли собственно материала. Между тем пополнение бунинской библиографии материалами, посвященными освещению личности и творчества И. А. Бунина, в частности, в чешской печати межвоенных десятилетий со всей очевидностью демонстрирует, что народы, в чьих странах пришлось обрести приют русским беженцам после революции, проявляли явный интерес к культурно-литературной жизни эмиграции; разумеется, работа по выявлению публикаций о русской литературе в странах русского рассеяния требует огромного напряжения сил в скрупулезном просматривании подшивок десятков европейских газет.
В монографическом исследовании X. Реезе о цикле бунинских новелл «Темные аллеи» проблеме их иноязычной рецепции отводится хотя и особое, но весьма небольшое по объему место; между тем показательно и почти уникально для подобного рода исследований — особенно если обратиться к отечественной практике - само включение подобного раздела в монографию. Глава «История рецепции - „Темные аллеи" под перекрестным огнем критики», вбирающая в себя сведения об отзывах дружеского круга
1 Ledre Ch. Trois romanciers russes. Paris, 1935.
2 Изучение литературы русской эмиграции за рубежом, с. 14.
3 В Славянском институте Чешской академии наук хранится картотека, представляющая собой
роспись чешской и словацкой периодики XIX-XX в. с точки зрения публикаций о представителях мировой
литературы, в том числе и о писателях русского зарубежья. Нами выписано 108 названий работ критико-
рецензионного характера о Бунине (гораздо большее число публикаций связано с переводами писателя на
чешский и словацкий языки).
4 Reese Н. Ein Meisterwerk im Zwielicht: Ivan Bunins narrative Kurzprosaverknupfung Temnye
allei zwischen Akzeptanz und Ablehnung - eine Genrestudie [Шедевр в двойственном освещении:
повествовательный цикл малой прозы Ивана Бунина «Темные аллеи» между приятием и отвержением.
Исследование жанра]. Mlinchen, 2003.
и, шире, читателей русской эмиграции, о критических откликах в периодике, о трактовках советского литературоведения, а также о переводах на главные европейские языки, является, по сути, лаконичным рефератом упоминаемых писем и рецензий. Поскольку переводов «Темных аллей» на иностранные языки было выполнено не так много, то параграф, посвященный выходу книги по-французски (полстраницы) и по-английски (одна страница) выглядит, в частности, следующим образом: указаны выходные данные книг и процитированы выдержки из предисловий к ним. Что касается впервые вводимых в научный оборот архивных материалов, почерпнутых из Лидсской коллекции и касающихся первой реакции русских читателей Бунина на выход книги, то тут следует отметить два момента. Прежде всего, X. Реезе, очевидно, действовала наудачу, просматривая скорее письма, датированные временем сразу после появления «Темных аллей», нежели отбирая тех корреспондентов Бунина, чьи суждения было бы небесполезно учесть и современному литературоведению. Просматривая бунинский архив с иными целями, мы выписывали действительно ценные замечания его выдающихся современников о «Темных аллеях», оставшиеся неучтенными автором разбираемой монографии. Другое соображение касается беспримерного факта: не владея в должной мере иностранным языком, исследователь обращается к рукописным источникам, никогда прежде не публиковавшимся, и даже не считает необходимым дать приводимые русские цитаты (из печатных источников переписанные не менее безграмотно, чем из рукописей) для верификации носителям языка. Последнее обстоятельство, к сожалению, существенно снижает научную ценность разбираемого исследования, ибо полагаться на точность приводимых цитат, увы, не приходится .
Собирая материал для антологии «Литературный мир о творчестве Владимира Набокова», Н. Г. Мельников напоминает о разновидностях прижизненной критики и ссылается на собственное набоковское суждение, также опирающееся на представление о критике «читательско-журналистской», «писательской» и «профессорско-литературоведческой» . Разряды эти, разумеется, схематичны — так, статьи «поденщика» Белинского заложили фундамент научной истории литературы; однако и современный исследователь, и склонный к всеразъедающему скепсису и мистификаторству Сирин-Набоков по понятным причинам совершенно исключают такой тип критической рецепции, который за минувшее столетие, несмотря на кажущуюся маргинальность,
1 Подробнее см. нашу работу: Марченко Т. В. На пути к академическому Бунину // Изв. РАН. Сер. лит.
и яз. 2007, №1, с. 11-28.
2 Мельников Н. Г. Предисловие // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира
Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии. М., 2000. С. 12-13. Антология, в двух разделах которой
содержатся как русскоязычные отклики, так и отзывы на иностранных языках о произведениях В. Сирина-
Набокова, является образцом рецептивного подхода к изучению классики, хотя бы и на стадии сбора и
научной обработки подготовительных материалов.
заслужил полное право на изучение и включение в научный оборот. Мы имеем в виду материалы обсуждения кандидатур писателей, выдвинутых на Нобелевскую премию по литературе (и, между прочим, на другие литературные премии, если только обсуждения книг письменно запротоколированы).
0.3. Нобелевская премия и русская литература: к вопросу о предмете и объекте исследования
Феномен единственной международной награды по литературе, если отвлечься от финансовой стороны, состоит в изначальной установке на поиск произведения, принадлежащего к «мировым ценностям», значительного в глазах всего человечества. Наша задача - проследить, какое место занимала русская литература (прежде всего, проза эмиграции) в европейском (в первую очередь, шведском) культурном сознании в межвоенный период и как менялось это восприятие со сменой политических, государственных, культурных взаимоотношений Европы и России.
Гласное или негласное существование в сознании критика некоей литературной классификации - вещь несомненная; достаточно вспомнить статьи Некрасова (в контексте его времени положительные) о «русских второстепенных поэтах» (начинавшиеся с рассмотрения тютчевской поэзии), расхожее выражение «писатель второго (третьего) ряда», юмористическую - но весьма близкую реальной картине - «табель о рангах» А. П. Чехова, опубликованную в 1886 г. в «Осколках»1, наконец, любопытное свидетельство, приведенное однажды Буниным: «Толстой, как известно, имел привычку делать на полях читаемых книг отметки, иногда писать на них свои суждения, ставить баллы: единица,
два, три с минусом и т. д.» . Чем иным, как не попыткой создания своей табели о рангах, некоего проставления баллов в классный журнал мировой литературы, является и Нобелевская премия?
Обратимся к весьма нетривиальному примеру недавнего времени - графически представленному П. В. Палиевским «движению русской литературы»3. В предложенной им модели (горизонталь - линейное время, вертикаль - ценностная шкала) русские
В классификации, которая включает «всех живых русских литераторов, соответственно их талантам и заслугам», вакантным оставлен первый ранг - действительного тайного советника; Л. Толстой и Гончаров удостоены чина тайного советника, Салтыков-Щедрин и Григорович произведены в действительные статские советники, Островский, Лесков и Полонский - в статские советники и т. д. См.: Чехов А. П. Литературная табель о рангах // Собр. соч. В 12 т. Т. 4. М., 1985, с. 260-261.
2 Бунин И. А. Заметки [1932], Публицистика, с. 368.
3 Палиевский П. В. Движение русской литературы. М., 1998. 10 с. Цветная вклейка «схемы» в общую
пагинацию не входит.
писатели, выдвинутые в первой половине XX столетия на Нобелевскую премию, распределились таким образом: устремленный к высотам духа и достигающий в некоторых своих творениях «вечных ценностей» Толстой; безусловно находящийся на «мировом уровне» с неуклонным подъемом к художественным ценностям «мирового значения» Горький; вырастающий от национальных ценностей до, так сказать, «среднемирового» уровня Бунин и, очевидно, не вписавшиеся даже в «текущую литературу» (куда автор оригинальной «схемы» включил, среди прочих, Потапенко, Найденова, Чарскую, Аверченко, Тэффи, заметив, что двух последних «и в национальном значении видеть не грех»1) Мережковский и Шмелев. После Достоевского, Толстого и Чехова до вечных ценностей из русских писателей сумел дотянуться лишь Шолохов; имя Пастернака в график (доведенный до середины 1940-х гг., времени первой номинации поэта на Нобелевскую премию) не включено.
Если так субъективно, даже односторонне оценивают отечественную словесность и место в ней ведущих ее представителей русские исследователи, то и от западноевропейских следует ожидать не верных суждений и конечных истин, а попытки осмыслить иноязычную литературу в меру собственных национальных представлений, в своей ценностной шкале и, вероятно, столь же схематично. Спорность мнений, высказанных в процессе обсуждения кандидатур на Нобелевскую премию, их оригинальность или тривиальность, возможно, и неожиданную свежесть, необычность, новизну можно обсуждать только после знакомства с обширным корпусом многообразных документальных свидетельств. Национальные ценности не перестают быть таковыми, однако, преломленные в ином ракурсе, позволяют расширить и углубить, а в чем-то и скорректировать существующие интерпретации. Избрав предметом нашего исследования характер и особенности осмысления прозы русского зарубежья европейской научной и литературно-критической мыслью, мы сознаем его неисчерпаемость и ограничиваемся объектом научного изучения, то есть многообразными и не только архивными материалами, связанными с выдвижением писателей русского зарубежья на Нобелевскую премию и тем самым - с оценкой их творчества в контексте современной им мировой литературы.
Бунин стал первым русским нобелевским лауреатом по литературе; но в разные годы эту награду предлагалось присудить еще нескольким русским авторам. История борьбы за Нобелевскую премию по литературе для русского писателя началась со Льва
1 Там же, с. 7.
Толстого', выдвинутого, впрочем, на премию в один год со знаменитым красноречием и мемуарами А. Ф. Кони; в настоящее время уже открыт доступ к материалам, связанным с выдвижением А. М. Горького, Д. С. Мережковского, И. С. Шмелева, К. Н. Бальмонта, Н. А. Бердяева, М. А. Алданова, П. А. Краснова, Б. Л. Пастернака, М. А. Шолохова и Л. М. Леонова. Русская литература раскрывается в бумагах архива Шведской академии с совершенно новой стороны, разрушая привычную и во многом справедливую иерархию, к которой привыкли русские читатели и литературоведы.
Жгучие проблемы «справедливости» или «несправедливости» присуждения Нобелевской премии по литературе (формулируемые, например, для первой трети ее векового существования как «русская литература без Нобелевской премии, Нобелевская премия без Льва Толстого» ) следует оставить публицистике. Отбор авторов и оценку их произведений сквозь призму соответствия международной награде шведские академики (ученые-гуманитарии и писатели) осуществляли на всем поле мировой словесности XX века, отчего первостепенную важность приобретает вопрос о характере ее рецепции. Однако русская литература не воспринималась как часть общеевропейской литературы, а осмыслялась как неотъемлемый составной элемент фундаментальной и неизменно животрепещущей проблемы «Россия и Запад». Представители западноевропейской философско-эстетической мысли искали в русской литературе не ответов на вопросы, что представляет собой «материк Россия» и русский национальный характер, а подтверждения целому ряду стереотипов, веками складывавшихся в западноевропейском сознании, частично унаследованных от средневекового противостояния, религиозного и культурного, Византии и Рима и прошедшего многие стадии кристаллизации и отвердения вплоть до готовых штампов. Прочтение русской литературы нобелевским жюри и его экспертами-славистами с точки зрения стереотипного подхода и одновременно его преодоления отражено в архивных материалах Шведской академии, что позволяет осуществить «обратное» прочтение и выявить особенности восприятия и интерпретации комплекса «русский» (человек-народ-общество-менталитет) на Западе в первой половине XX века.
1 См. подробную реконструкцию истории выдвижения кандидатуры Л. Н. Толстого на Нобелевскую
премию и причин ее отклонения по материалам архива Шведской академии в нашей монографии: Марченко
Т. В. Русские писатели и Нобелевская премия (1901-1955). Koln; Munchen, Wien, 2007. S. 93-109.
2 Формулировка И. Майер, см.: Maier I., Martjenko Т. Ryska nobelpriskandidater і Svenska Akademiens
arkiv 1914-1937II Samlaren, 2003, s. 173-174.
Сборник статей «Россия и Запад» (М., 2000) с симптоматичным подзаголовком -«Диалог или столкновение культур» демонстрирует своими материалами и даже позицией их авторов, что диалогические отношения, безусловно, вбирают в себя полемику, споры, даже прямое столкновение, навязывание собственных ценностей и неприятие чужих, и все-таки все это укладывается в рамки «диалога», то есть осуществления многообразных и изменяющихся во времени контактов не разных цивилизаций, а национальных вариантов общеевропейской христианской цивилизации. Народы и государства избирали разные пути, порой обусловленные частными причинами (например, отказ римского папы согласиться на развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской, дабы не обидеть Карла V, оказал неожиданное громадное влияние на судьбы Европы и всего мира, поскольку Англия перестала вскоре быть католической державой) или политико-экономическими факторами (принятие на Руси православия по византийскому - греческому - образцу), национальные менталитеты формировались под воздействием огромного количества еще не в полной мере изученных обстоятельств (в том числе, разумеется, и географического положения, и климатических условий), и тем не менее духовное развитие России теснейшим образом связано с Европой и является частью европейского интеллектуального, эстетического, этического пространства.
О влиянии «факта географического» (П. Я. Чаадаев) на развитие всех форм русского государства и русской культуры на рубеже XX-XXI вв. напоминают довольно настойчиво различные исследователи, главным образом, со ссылками на Н. А. Бердяева («Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ...» ); В. Кантор додумался даже до противопоставления культуры и географии как инварианта «борьбы духа и материи». По мысли безмерно напуганного мощью громадной России ее гражданина (цитируемая нами работа переполнена вводными конструкциями типа «не дай Бог!»), современное стремление России к Западу является «свидетельством всемирно-исторической борьбы культуры и цивилизации против "географии", процесса пока малоизученного, но
1 Россия и Запад: Диалог или столкновение культур. Сб. статей. М., 2000. Хотя автором предисловия
(В. П. Шестаковым) провозглашено стремление авторов сборника увидеть вынесенную в название проблему
«в широком историко-философском аспекте» (с. 5), уже в открывающей сборник концептуальной статье
В. Кантора «Западничество как проблема "русского пути"» преобладает дурная публицистическая риторика
постперестроечного времени, отражающая элементарную и совсем нечистоплотную возню вокруг власти и
дележа громадных природных богатств России (намеренное смешение терминов, размахивание жупелом
опасности «красно-коричневых», объявление патриотизма - ксенофобией, с. 6-7). «Вековой российской
мечтой» (чего стоит это определение - вероятно, в представлении В. Кантора, русские мечтали о том же, о
чем башкиры, мордва, зыряне и т. д., то есть все населяющие громадную Россию народы) объявлено
желание стать «столь же цивилизованными, как Запад» (с. 7). Уже по этим первым строкам первых страниц
книги с многообещающим названием читатель может догадаться, что серьезный научный разговор с
привлечением богатейшего, едва затронутого фактографического материала будет вновь подменен
голословными бездоказательными утверждениями «специалистов» по русскому менталитету.
2 Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С. 63.
являющегося важнейшим фактором мировой истории» . Почему-то при этом никогда не берется в расчет то обстоятельство, что Россия лишь в самом конце XIV в. освободилась от владычества татаро-монголов и весьма постепенно начала освоение пресловутых «просторов» и расширения границ (а окончательное закрепление Крыма или Финляндии за Россией вообще относится к концу XVIII и началу XIX столетий; Крымская война середины XIX в. демонстрирует со всей очевидностью, что просторов можно было легко и лишиться). Но уже к XV в. относится начало эпохи великих географических открытий; по сравнению с Британской империей или колониальными владениями Испании и Португалии российские пространства не выглядят такими уж непомерными. Пример еще более близкий - границы Австро-Венгрии перед Первой мировой войной или Германского рейха перед Второй мировой войной: пространства, завоеванные традиционно считающимся в Европе самым дисциплинированным («оформленным») немецким народом, не могут не впечатлить. Ни в коей мере не умаляя и тем более не отрицая важность воздействия природно-климатических условий, рельефа и территории на формирование того или иного национального менталитета, укажем лишь на нежелательность абсолютизации географического фактора, приписывания ему большего значения, чем он в действительности имел.
Еще одной важной особенностью «диалога» России и Запада является общее убеждение сторон в невозможности полного взаимного понимания, в такой исконной чуждости национальных характеров, что адекватное восприятие друг друга в принципе не может быть достигнуто. В русской традиции острота взаимного непонимания России и Запада наиболее последовательно рассматривалась именно мыслителем русского зарубежья, И. А. Ильиным . В работе Е. Шахматовой «Оправдание мистицизма: Россия и Европа в зеркале Востока» представления русского философа переданы в тезисном виде3. Исследовательница, в частности, пишет: «И. Ильин, отмечая настороженное отношение к России со стороны европейских народов, выделил его причины: во-первых, русский язык чужероден для Западной Европы; во-вторых, Европе чужда русская православная религиозность; и, в-третьих, Европе "чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека <...> Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живет, прежде всего, сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом"». Однако ни сам И. Ильин, ни его современный интерпретатор не приводят реальных фактов отмеченной отчужденности, настороженности, непонимания. На наш взгляд, чем
1 Кантор В. Указ. соч., с. 29.
2 См., в частности: Ильин. И. А. О грядущей России. М., 1993. С. 132-133. Между прочим,
национально ориентированный философ-публицист, Ильин был по матери (урожденной Швейкерт фон
Штадион) чистокровным немцем.
3 См.: Россия и Запад: Диалог или столкновение культур, с. 65.
конкретнее будет материал, позволяющий делать подобные суждения и обобщения, тем скорее можно их принять или опровергнуть; именно поэтому наш анализ строится не по модели от общего к частному, а по противоположному образцу, от эмпирики к выведению некоторых общих закономерностей.
Актуальность настоящего исследования подтверждается неизменным интересом ученых разных стран к вопросам восприятия иноязычной литературы; разные стороны рецепции и интерпретации русского художественного слова и образа западноевропейским сознанием находят отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей на протяжении всего XX века. Свою лепту в постижение русского национального характера
внесли русские эмигранты, издававшиеся на Западе , однако европейцев не могли не
занимать особенности «русской души» или «безграничности» русского пространства и
з русской натуры . На рубеже XX-XXI вв. научная мысль концентрируется на таких, в
частности, вопросах, как «национальный русский характер» , проблемы «геопсихологии» как важный фактор формирования национальной культуры (характерны попытки
осмыслить образ «безбрежной России») , проблемы «русской идеи» и ее отражения в словесном творчестве и т. д. О том, что стереотипов и предубеждений в восприятии «чужого» слова и образа много больше, чем взвешенных и верных ответов на вопрос о сути . своеобразия «другой» национальной литературы, свидетельствует название
библиографии публикаций по проблемам взаимовосприятия народов «Запада» и
б «Востока» .
Встреча русской эмиграции с Западом совершенно лишена однозначности:
творческие встречи, взаимовлияния и взаимный интерес имели, как правило,
спорадический характер, и случаи «симбиоза» были совершенно единичными (феномен
Вяч. Иванова). О «сближении двух культур, если не двух миров» с пафосом заявляли
создатели «Франко-русской студии», предполагавшие широкий круг участников и
общекультурную, тематику докладов; однако «это блестящее начинание просуществовало
1 См., например: Ivvanow W. Die russische Idee. Ubersetzt und mit einer Einleitung versehen von J. Schor,
Tubingen, 1930; Лосский H. О. Характер русского народа. Frankfiirt/Маіп, 1957.
2 См., например: Legras J. L'Ame russe. Paris, 1934; Schubart W. Europa und die Seele des Ostens. Luzern,
1947 (русский перевод: Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997).
3 См., например: Harvest Н. (Hrsg.). Massloses Russland. Selbstbezichtigungen und Bezichtigungen. Zurich,
1949.
4 См.: Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994; Лескис Г. Национальный русский
тип. От Онегина до Живаго. М., 1997.
5 Лавренова О. А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII-начала XX вв.
(Геокультурный аспект), М., 1998; Beyond the Limits: The Concept of Space in Russian History and Culture I Ed.
J. Smith, Helsinki, 1999.
6 Hoffmann J. Stereotypen, Vorurteile, Vulkerbilder in Ost und West - in Wissenschaft und Unterricht: eine
Bibliographie. Wiesbaden, 1986.
всего два-три года» . А ведь в Европу состоялся массовый «исход» европейски ориентированной, европейски образованной и воспитанной части русского населения. «Прежде всего следует помнить, — отмечает Н. Струве, - что первая русская эмиграция, как часть великой культуры Серебряного века, была сама по себе Европой и даже больше Европой, чем сама Европа, так как сочетала в себе обе европейские стороны, и восток, и запад. Это позволило ей встретиться с Европой на равных и даже предъявлять ей счеты. Такой подход позволяет вставить нашу тему в более широкую проблему России и Запада: Россия — Европа, но она не идентична Западу, и потому вступает с Западом в сложные диалектические отношения: и там, и тут, одновременно или попеременно — понимание / любовь, больше со стороны России, и - непонимание / отчуждение, больше со стороны Запада»2.
Между тем национальные стереотипы возникают не вдруг, и образ того или иного народа, складывающийся в любой отечественной литературе, заслуживает особого пристального изучения; выходя за рамки литературоведческой науки, подобного рода исследования дают обширный материал для социально-исторического, культурного, политического осмысления. Обращение к архивным материалам Шведской академии позволяет проанализировать интерпретацию русской литературы нобелевскими экспертами и судьями в имагологическом аспекте. Возникнув в 1960-е гг. в западноевропейском литературоведении, имагология к настоящему времени оформилась как особое междисциплинарное направление, цель которого - рассмотрение художественных образов не только с точки зрения той литературы, в которой они возникли и получили дальнейшее идейно-эстетическое осмысление, но с позиции иноязычного читателя и критика, не просто при переводе с одного языка на другой, но и при попытке осмыслить и переосмыслить совокупность художественных образов «чужой» литературы в другой национально-культурной сфере . В названии одной из своих работ, раскрывающих формально-функциональные особенности различного восприятия некоторых идей и представлений в России и на Западе, П. Тирген чрезвычайно удачно, на наш взгляд, отразил одновременно наличие общего духовного источника (даже источников - античность и христианство) у России и Западной Европы и своеобразие,
1 Струве Н. Встреча первой русской эмиграции с Европой // Europa orientalis XXII, 2003, № 2, с. 19.
2 Там же, с. 15.
3 См.: Dyserinck Н. Zum Problem der «images» und «mirages» in ihrer Untersuchung im Rahmen der
vergleichenden Literaturwissenschaft II Arcadia (1), 1966, S. 107-120; Bleicher T. Elemcnte einer
komparatistischen Imagologie II Komparatistische Hefte (2). Literarische Imagologie - Formen und Funktionen
nationaler Stereotype in der Literatur, 1980, S. 12—23. Исключительно подробно проблемы имагологического
подхода в литературоведении на основе обзора большого количества источников изложены в: Swiderska М.
Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk F. M. Dostoevskijs aus imagologischer
Sicht mit besonderer Beriicksichtigung der Darstellung Polens, MUnchen, 2001.
вплоть до отчуждения, как в освоении сходных идей, в том числе художественных, так и в их дальнейшем развитии: «Homo sum» - «Europaeus sum» - «Slavus sum»1. Это единство сути - «быть человеком» - и вечное различие во всех ее проявлениях, согласие и столкновение по бесконечному ряду больших и малых, материальных и нематериальных качеств, свойств и признаков характерно для многовекового сосуществования, притяжения и противостояния России и Запада. Не учитывать этого, исключить имагологическую составляющую из предстоящего нам рассмотрения темы «Русские писатели и Нобелевская премия» - значит ограничить наше знание лишь фактографией. Подлинное представление о восприятии и истолковании русской литературы в Нобелевском комитете возможно, как нам кажется, именно на путях ее имагологического рассмотрения.
Помимо этой социокультурной задачи нобелевская тема позволяет поставить некоторые собственно теоретико- и историко-литературные вопросы, связанные как с феноменологией (русского) литературного процесса, так и с проблемами стиля, жанра, образной структуры произведения. Зеркало Нобелевской премии, разумеется, нельзя назвать идеально соответствующим истинной картине развития русской литературы. , Однако оно позволяет установить литературный канон, складывающийся в эстетике словесного творчества в разные эпохи, определить соотношение идеологического и мифологического в восприятии художественных текстов, наметить эволюцию литературно-критической рецепции в исторической перспективе. Краеугольным камнем в осознании путей развития русской литературы в XX веке, ее разделения после 1917 г. на «советскую» и «эмигрантскую» становится решение вопроса о ее целостности3; и в этом аспекте нобелевские материалы оказываются интереснейшим источником, ибо почти все выдвинутые на премию русские писатели жили и творили после Октябрьской революции за пределами России. Наконец, обсуждение и выбор русского лауреата литературного Нобеля заставляет вновь задуматься над вопросом о мировом значении русской литературы и/или ее провинциализации в XX веке.
Thiergen P. «Homo sum» - «Europaeus sum» - «Slavus sum». Zu einer Kulturkontroverse zwischen Auflclarung, Eurozentrismus und Slavophilie in Russland und der Westslavia II Zeitschrift fur slavische Philologie, Bd. 57, 1998, S. 50-80.
2 Ср. в этом смысле финал рассказа В. Набокова «Облако, озеро, башня»: герой просит «отпустить»
его, ибо он не может больше «оставаться человеком» - и после пережитого в уже фашистской Германии, и в
предчувствии предстоящего, когда человеческое в человеке будет замещено совсем не высшими
инстинктами.
3 Обратившись к постановке этого вопроса, А. И. Чагин предложил «достаточно полный ответ,
учитывающий всю непростую диалектику взаимодействия двух потоков русской литературы в 1920-1930-е
годы», а именно весьма яркую «формулу»: «одна литература и два литературных процесса» (см.: Чагин
А. И. О целостности русской литературы XX века (1920-1990-е гг.). Литература, культура и фольклор
славянских народов. XIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003). Докл. росс, делегации,
М, 2002. С. 202).
Об этом размышлял во второй половине 1930-х гг. Г. В. Адамович: «В истории русской литературы последних десятилетий есть один вопрос, горький для нашего национального самолюбия, но настолько существенный, что от него невозможно отделаться: как случилось, что мы от мировой роли опять перешли на роль провинциальную? почему русская литература потеряла свое всемирное значение? Многие, кажется, еще не отдают себе в этом отчета <...>. Многие по инерции повторяют два волшебных имени: Толстой, Достоевский... Но Толстой и Достоевский - это прошлое, и жить за их счет нельзя до бесконечности. Настоящее же не то что бедно или убого, нет, но как-то захолустно, несмотря на присутствие нескольких замечательных писателей. <...> И не в том беда, что к русской литературе сейчас мало прислушиваются на Западе, - это нас нисколько не должно бы смущать, - а в том, что в нашем собственном ощущении провинциальность несомненна и заставляет даже скорей опасаться иностранного внимания, чем искать его. <...> Русская литература как бы потеряла свою гениальность, ей нечего сказать» .
На эти слова трудно возразить; можно и нужно, однако, проследить «деградацию» русской эмигрантской литературы, ставшую в 1930-е гг. вполне очевидной, исследовать этот горький процесс «утраты гениальности» на конкретном документальном материале. Характер ожиданий западного читателя, запечатленный в документах Нобелевского комитета, и подлинное содержание русской литературы первой половины XX века оказались в очевидном противоречии, особенно обострившемся после раскола русской литературы в 1917 г. Попытки осознания шведским премиальным институтом и его экспертами-славистами феномена русской литературы в связи с ее общественно-историческим развитием до и после революции дают поистине бесценный материал по истории русского литературного зарубежья. Стереотипы восприятия собственной национальной литературы, как правило неизбежны, — тем большую ценность приобретают выводы и суждения носителей другого языка и культуры, позволяющие разрушить многие штампы и откорректировать привычную ценностную шкалу.
Таким образом, очевидная новизна настоящего исследования обусловлена целым рядом факторов:
обращением к малоизученной проблеме - рецепции русской литературы на Западе;
выбором оригинального взгляда на русскую литературу с точки зрения присуждения единственной международной награды по литературе;
1 Адамович Г. В. Одиночество и свобода / Сост., послесл., примеч. О. А. Коростелева, СПб., 2002. С. 63-64.
привлечением абсолютно нового, по большей части раритетного иноязычного материала и введением его в научный оборот;
постановкой вопроса об объективности восприятия отечественной словесности «чужим» сознанием и о соотношении национальных и общечеловеческих критериев в интерпретации искусства;
обсуждением остро современных проблем, связанных с диалогом России и Запада и историей их межкультурных контактов и взаимодействия;
- воссозданием многих неизвестных или утраченных эпизодов из истории
литературных связей и отношений;
обращением к целому комплексу теоретических проблем (канона, идеала, образа «чужого»/«другого»);
осмыслением литературы под углом зрения истории, политики, этики;
стремлением выявить многомерность художественных текстов, предполагающих раскрыть широкий диапазон их прочтений, показать множественность точек зрения, суждений и представлений о русской литературе.
0.4. Источники, цели и задачи исследования. Методологические подходы
В основе предпринятого исследования лежат несколько массивов источников. Прежде всего это материалы из архива Шведской академии (Стокгольм) - института, присуждающего ежегодные международные премии по литературе. Шведские эксперты по славянским литературам представляли академикам монографические обзоры творчества выдвинутых на премию писателей. В процессе обсуждения их кандидатур члены Нобелевского комитета оценивали каждую из них в контексте широкого рассмотрения литератур разных стран и народов. В заключительных протоколах, то пространных, то весьма лаконичных, каждая писательская судьба взвешивается на весьма неточных весах некоего литературного абсолюта эпохи, совершенно различного в представлении каждого из пяти членов Нобелевского комитета. Выносимый ими вердикт делает лауреата, безусловно, богатым и знаменитым; но к его подлинному значению в истории мировой литературы шведским академикам далеко не всегда удается приблизиться.
Очерки экспертов-славистов по кандидатурам каждого номинированного писателя, имеющие самостоятельную ценность с точки зрения рецепции русской литературы, использованы нами в достаточно полном объеме; там, где это представлялось возможным
и необходимым, мнения и оценки шведских специалистов по русской литературе сопоставлялись с печатными отзывами критиков русской эмиграции о тех же авторах и произведениях. Широко привлекаемые нами для настоящей работы публикации в печатных органах русского зарубежья, без обращения к которым не может обойтись ни одно современное исследование по проблемам эмиграции, подкреплены в ряде разделов материалами шведской периодики 1930-х гг. Богатейшим источником, лишь в незначительной части обработанным и опубликованным, является архив И. А. и В. Н. Буниных, хранящийся в университетской библиотеке г. Лидса (Великобритания) и ставший для нас подлинным кладезем поистине бесценных сведений и фактов по истории русской литературы рассматриваемого периода1. Нельзя также не упомянуть Библиотеку современной документальной информации (BDIC, Париж-Нантер)2 и Королевскую библиотеку (Стокгольм)3, в архивных собраниях которых оказались компактные коллекции, имеющие прямое отношение к теме «Русские писатели и Нобелевская премия». Собирание, обобщение, сопоставление и комментирование материалов из всех этих источников легло в основу данного труда.
Имея в виду научные задачи предпринятого исследования, можно сказать о заполнении малоизвестных страниц из истории русской литературы минувшего века, о комментарии к тем мемуарам и письмам, в которых освещена или лишь упомянута русская нобелевская сага послереволюционных десятилетий; многие личные взаимоотношения писателей русского зарубежья, представленные в «нобелевском» ракурсе, обнаруживают себя с неожиданной стороны, некоторые привычные акценты оказываются расставлены иначе. Архивные материалы, вводимые в научный оборот, раскрывают как особенности понимания и истолкования русской литературы шведскими славистами и интеллектуалами, так и характер литературно-творческих взаимоотношений
К сожалению, просмотреть все представленные в архиве материалы, затрагивающие интересующую нас проблематику, оказалось невозможным: по существующему в архиве порядку источники, так или иначе готовящиеся к публикации, недоступны для всех прочих исследователей, кроме публикатора. Именно по этой причине нам было отказано в просьбе ознакомиться с письмами М. А. Алданова, И. С. Шмелева и многих других важных корреспондентов Бунина; как объяснил нам подобную практику главный хранитель Русского архива Отдела особых коллекций библиотеки Лидсского университета Р. Дэвис, это делается в целях „сохранить первенство" в публикации материалов.
* Сотрудники этой библиотеки руководствуются принципом, прямо противоположным установке Русского архива в Лидсе: А. Горюнов, составляющий описи материалов, связанных с русской эмиграцией, готов ознакомить с ними любого заинтересованного исследователя.
3 Письма Д. С. Мережковского к его шведской корреспондентке Г. Герелль, хранящиеся в Коллекции
автографов (Autografsamlingen) Отдела рукописей Королевской библиотеки, публикуются в настоящей
работе в извлечениях с любезного разрешения заведующего отделом А. Бурнуса (A. Burius).
4 Ни для кого, однако, не является секретом, что вокруг Нобелевской премии разворачивается
настоящая борьба, или, говоря еще более прямо и резко, за ней ведется настоящая охота. Последнее
определение использует, например, в названии своей монографии о восприятии нидерландской литературы
в Швеции голландская исследовательница И. Викен Бонде: «Охота за Нобелевской премией» (Wiken Bonde
I. Was hat uns dieser Gast wohl zu erzahlen? oder Die Jagd nach dem Nobelpreis: zur Rezeption niederlandischer
Literatur in Schweden. Stockholm, 1997).
между русскими писателями и шведскими (и — шире — западноевропейскими) литературно-научными кругами, главным образом в период между двумя мировыми войнами. Практическая цель — публикации и комментирования уникальных материалов, никогда не становившихся предметом изучения и, что особенно интересно, создававшихся с расчетом на их сугубо «служебное», «строго секретное» использование, что и обусловливает их особую ценность, - сопряжена с задачами теоретического осмысления своеобразия русской прозы XX в. в ее идейно-тематической многомерности и жанрово-художественной эволюции. Узловые проблемы русской литературы XX века, взаимоотношения традиции и новаторства получают особое освещение благодаря оригинальному преломлению в призме Нобелевской премии. К нобелевскому ракурсу -европоцентричному, порой консервативному, архаичному, часто недоброжелательному к русской системе ценностей - с полным правом можно применить мнение С. Г. Бочарова, высказанное по прямо противоположному поводу - о «русской точке зрения на европейскую культурную сцену между двумя большими войнами»: «Вряд ли сегодня, однако, она представляет лишь исторический интерес; перед лицом итогов художественной истории века она, кажется, сохраняет свою существенность»1.
Материалы архива Нобелевского комитета Шведской академии, бесспорно, приобретают значение важнейшего источника по истории русской литературы XX века. Важно, однако, не просто собрать архивные «бумаги» и прокомментировать наиболее выразительные суждения и оценки: эти документальные свидетельства следует рассматривать в широком контексте литературного движения и культурно-исторического «духа времени». Разумеется, присуждение единственной литературной международной награды - лишь эпизод в истории мировой словесности, однако уже более чем столетняя история подобных «эпизодов» позволяет сделать выводы самого разного плана, идет ли речь о самой литературе, ее уровне в XX веке, о художественном каноне и идейно-философском содержании, или разговор переходит в плоскость межкультурного взаимодействия народов, большой политики и общечеловеческих ценностей, которые неизменно приобретают национальную окраску. Построение истории русской литературы XX века, прежде всего ее зарубежной «ветви», на основе анализа новых, надежных и научно обработанных источников составляло главную цель настоящего труда и позволило подойти к решению более конкретных задач. Так, подавляющая часть собранных материалов, касающаяся кампании в поддержку бунинской кандидатуры и охватывающая как публичные источники (нобелевские документы и публикации в периодике), так и частные свидетельства (письма, дневники), легла в основу построения
1 Бочаров С. Г. «Европейская ночь» - как русская метафора, с. 100.
научной биографии И. А. Бунина. Впервые вводимые в научный оборот архивные и газетно-журнальные источники позволили восстановить хронологию многих событий в жизни писателя, прежде всего связанных с борьбой за Нобелевскую премию
Следует подчеркнуть, что принципиальная новизна предпринятого труда, равно как и открытие и введение в научный оборот огромного, без преувеличения, массива источников по истории русской литературы XX века, прежде всего первой волны эмиграции, и по ее восприятию на Западе потребовали обращения к различным методам проводимого исследования. Перечислим наиболее существенные из них.
Архивная работа по выявлению и систематизации материалов, представляющих первоочередной интерес для исследования. Основой архивных изысканий послужил прежде всего архив Нобелевской библиотеки Шведской академии (Стокгольм). С любезного разрешения Постоянного секретаря Шведской академии (в 1996-2000 гг. Стюре Аллена, с 2001 г. - Гораса Энгдаля) нами были просмотрены все материалы, связанные с выдвижением русских писателей на Нобелевскую премию в 1901—1956 гг., экспертные заключения и заключения Нобелевского комитета - за каждый год по каждой из кандидатур. Кроме нобелевского архива, ставшего основой нашего исследования, материалы были почерпнуты из архивов Королевской библиотеки (Стокгольм), Библиотеки современной документальной информации (BDIC; Париж-Нантер), Отдела особых коллекций библиотеки Лидсского университета (Лидс, Великобритания), Отдела рукописей ИМЛИ им. Горького РАН (фонд И. А. Бунина).
Перевод собранных материалов на русский язык для их частичной публикации и использовании в научных работах. Вся работа по переводу текстов с иностранных языков (рабочим языком Нобелевского комитета является шведский, но целый ряд поступающих из-за рубежа писем, критических материалов и т. д., сопровождающих номинацию, написано на одном из главных европейских языков - английском, французском, немецком) осуществлена нами (переводы со шведского сверены с оригиналами носителями языка).
Обследование периодической печати, как русскоязычной эмигрантской, так и шведских газет, публиковавших материалы о потенциальных кандидатах на премию. Основные шведские газеты за 1933 год, когда премия была впервые присуждена русскому писателю, И. А. Бунину, подверглись сплошному просмотру.
Сопоставительный анализ текстов, вышедших из недр Шведской академии, с критикой русского зарубежья и с публикациями в западноевропейской (не только шведской) периодике; это исследование позволило выявить как общие черты в трактовке произведений и творчества писателей-эмигрантов в целом, так и принципиальные
расхождения в восприятии русских и западноевропейских критиков и литературоведов. Только через конкретное соотнесение литературно-критических и, иногда, историософских оценок одних и тех же произведений, сделанных представителями отечественной культуры и носителями иных менталитетов, иных национальных традиций, можно выявить подлинные закономерности и общее направление рецепции русской литературы, русского народа, России на Западе;
Наконец, синтез описательно-сопоставительного и имагологического методов исследования позволил не только расширить и углубить существующие представления о литературе русского зарубежья, о ее существовании и развитии в чужой этнокультурной среде и восстановить многие утраченные эпизоды русского литературного процесса в эмиграции, но и внести ясность в теоретические представления о литературе, созданной в эмиграции, в частности о реализме и модернизме, о жанрово-стилевых исканиях, о традиции и формальных поисках, а также добавить весьма существенные черты к сложившемуся к настоящему времени представлению о целостности русской литературы XX века.
0.5. Структура работы
Диссертационное исследование состоит из введения, двух частей и заключения. Структуру работы определяют как массивы источников, привлеченных к рассмотрению, так и проблемно-тематические блоки, которые положены в основу каждой из частей настоящего исследования. Поскольку исследование базируется на разнохарактерном материале, обширном как хронологически, так и с точки зрения персоналий, периодических изданий, художественных произведений, то каждая часть разбита на несколько глав, подразделяющиеся на подглавки. Во введении поставлен ряд вопросов научно-методологического характера, а также дается обоснование темы исследования, его целей, задач и инновационных подходов.
Первая часть работы посвящена фигуре «избранника» - первого русского писателя, удостоенного Нобелевской премии по литературе, И. А. Бунина. Разбору конкретных материалов из архива Нобелевского комитета предшествует прояснение целого ряда обстоятельств, связанных с присуждением премии по литературе, с процедурой выдвижения и обсуждения кандидатур, с конкретизацией понятия «идеала» в литературе, ля верного постижения характера и уровня оценки русской литературы первостепенным представляется ответ на вопрос «а судьи кто?», то есть знакомство со
шведскими академиками, совершавшими выбор в пользу русских писателей или, значительно чаще, отвергавших их кандидатуры, а также со славистами-экспертами, которые оказывали существенное, порой решающее влияние на окончательный вердикт Нобелевского комитета.
Попытка научной реконструкции эмигрантского периода в биографии И. А. Бунина осуществлена сквозь призму Нобелевской премии, на широком архивном материале, с привлечением широкого круга источников самого разного происхождения (документы Шведской академии, неопубликованная и изданная переписка, дневники, газетные и журнальные публикации из периодики на разных европейских языках и т. п.). Жизнь и творческая деятельность писателя в эмиграции восстанавливается с максимальной хронологической точностью (по месяцам, дням и, в некоторых случаях, даже часам), при этом первостепенное внимание уделяется воссозданию общекультурного контекста русского зарубежья. Лишь на первый и весьма поверхностный взгляд может показаться, что присуждение Нобелевской премии русскому писателю-эмигранту (1933 г.) остается только частным эпизодом и в его судьбе, и в истории русской литературы XX века. Как показывают наши разыскания, этот эпизод стал кульминационным в жизни межвоенной русской эмиграции; что касается Бунина, то и в его творческой судьбе нобелевский триумф стал поворотным пунктом. Привлекая к анализу отзывы о писателе в русской и западноевропейской (не только шведской) прессе, свидетельства и оценки современников, подвергая подробному рассмотрению особенности перевода произведений Бунина на шведский язык, восстанавливая организацию кампании по выдвижению писателя на премию, впервые на материале шведской прессы реставрируя ход визита Бунина в Стокгольм и выстраивая строго научный комментарий к его творческому наследию, мы существенно только пополняем буниноведение целым корпусом новых сведений и фактов.
Тем не менее самый богатый документальный материал, даже впервые вводимый в научный оборот, может быть существенно обеднен сугубо монографическим его описанием. Поэтому, поставив в центр диссертационной работы фигуру Бунина, во второй части мы существенно расширяем круг исследования, привлекая к рассмотрению тех представителей русского зарубежья, чьи кандидатуры были отвергнуты Нобелевским комитетом. Творчество таких выдающихся писателей, как Д. С. Мережковский и И. С. Шмелев, оказалось по ряду причин неприемлемым для нобелевского ареопага; выяснению того, что именно в их художественной манере или философских воззрениях не соответствовало канонам западноевропейского представления об идеале и априорным мнениям о русской литературе, позволит не только точнее дать ответ на вопрос, чем
творческие свершения именно Бунина покорили шведов, но и установить, какой хотели бы видеть западные читатели и критики Россию на страницах русской литературы. Фигуры гораздо менее значительные - М. А. Алданов и П. Н. Краснов, также номинированные на премию, позволяют определить место исторической романистики зарубежья и в характере восприятия русской революции на Западе, и в системе русской литературы XX века. Единственным неэмигрантом, ставшим сразу после революции кандидатом на литературную Нобелевскую премию, был А. М. Горький. Неоднозначность его личности и современных прочтений его трудов, уникальность положения писателя в литературно-общественной жизни после Октября и его отъезд из советской России из-за несогласия с политикой большевиков, попытки наладить общерусское печатное дело за границей и жесткая полемика с ополчившимися на него эмигрантами - все это придает истории его выдвижения на Нобелевскую премию и в первую очередь причинам отклонения его кандидатуры особенно острый интерес. Без сопоставления двух крупнейших величин литературного процесса в эмиграции и в советской России - Бунина и Горького - осмысление того, как русская литература воспринималась и интерпретировалась сквозь нобелевскую призму, рискует утратить полноту и'оказаться односторонним. Именно поэтому фигура Горького, его послереволюционное творчество в противопоставлении литературно-публицистической продукции писателей-изгнанников, мнение о нем Западной Европы представляются уместными на страницах настоящего исследования, логически дополняя и корректируя основную часть работы, посвященную рассмотрению прозы русского зарубежья.
Наконец, в заключении предпринята попытка обобщить западноевропейские представления о прозе русского зарубежья, чье своеобразие впервые подверглось систематическому рассмотрению по инициативе нобелевского премиального института по литературе, а также сделать некоторые выводы историко-теоретического характера, позволяющие судить о своеобразии восприятия русской эпической традиции, русской литературы XX века, России в целом на Западе.
0.6. Замечания по подаче материала и его оформлению
Рабочим языком Нобелевского комитета по литературе является шведский; однако обращения в академию написаны, как правило, на трех главных европейских языках - по-французски, по-немецки и по-английски. Материалы, хранящиеся в Нобелевском архиве Шведской академии, как и все прочие тексты, переведенные с иностранных языков,
цитируются только в переводе на русский язык - двойное цитирование слишком увеличило бы объем диссертационного сочинения. Как уже говорилось, все переводы со шведского языка (отзывы экспертов и заключения Нобелевского комитета) и с других европейских языков (письма-номинации, переписка Мережковского и Бунина с европейскими корреспондентами, а также цитируемая научная и критическая литература) осуществлены нами. На ранних этапах работы со шведскими текстами неоценимую помощь нам оказала переводчица Габриэла Оксеншерна (Упсала); на заключительной стадии работы переводы со шведского были сличены с оригиналами профессором Ингрид Майер (Упсальский университет).
Свободный доступ к документам Нобелевского архива для исследования и публикации возможен по истечении пятидесяти лет их хранения; поэтому материалы, касающиеся представителей литературы русского зарубежья и открытые для изучения, были нами использованы с максимальной полнотой. Экспертные заключения («sakkunigutlatande»), хранящиеся в архиве Шведской академии и составляющие основной массив материалов, легших в основу диссертационного исследования, и письма-номинации цитируются по копиям, с указанием автора и года; дополнительно в тексте диссертации ссылки на архив не даются.
Архивные материалы, написанные по-русски, цитируются по нормам современной орфографии, незначительные отклонения от нее в цитируемых текстах, а также погрешности, описки или опечатки, как правило, не оговариваются; это касается также разнообразия написаний со строчной или прописной буквы в названиях различных институтов, которые именуются в тексте настоящей монографии в соответствии с современными нормами орфографии. В соответствии с этим принципом исправления внесены также в уже осуществленные публикации: при их цитировании устранен орфографический и пунктуационный разнобой. Все выделения в цитируемых текстах даны унифицированно, курсивом; кроме особо оговоренных случаев курсив принадлежит цитируемым авторам. Опущенный при цитировании текст обозначается отточием в квадратных скобках; раскрываемые сокращения, а также слова, отсутствующие в тексте и восстановленные по смыслу, помещены в угловые скобки.
Наименования изданий, цитируемых неоднократно, приводятся в сокращенном виде, их полные описания даны в списке условных сокращений, который предваряет список использованной литературы в конце работы.
ЧАСТЬI И. А. БУНИН - ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Нобелевский комитет по литературе: премиальный институт и «стремление к идеалу»
Русские писатели, которых выдвигали на Нобелевскую премию уже в первые годы ее учреждения (А. Нобель скончался в 1996 г., а премии его имени присуждаются с 1901 г.), имели весьма туманное представление о новой, первой международной награде по литературе. Но и за столетие, давшее России всего нескольких лауреатов ставшей престижной награды, знания о деятельности премиальных институтов не стали точными и всеобщими. Поэтому некоторые предварительные сведения не кажутся лишними1.
В Нобелевский комитет входят пятеро из восемнадцати членов (неизменный состав) Шведской академии - академии гуманитарной, в отличие от Королевской академии наук, ответственной за присуждение премий по физике и химии. Члены комитета осуществляют выбор будущих возможных лауреатов, так что от многих десятков номинированных кандидатур в финальном списке остается лишь несколько имен. В голосовании принимают участие все члены академии - они могут это сделать и письменно, то есть им необязательно присутствовать лично, но в выборе лауреата они должны участвовать непременно. Лауреатом становится писатель, за которого отдано не менее двух третей голосов. Каждый год в ноябре газеты всего мира публикуют сообщение о выборе Шведской академией нобелевского лауреата. На церемонии вручения Нобелевской премии, неизменно проходящей 10 декабря, в годовщину смерти ее учредителя, Альфреда Нобеля, один из академиков представляет нового лауреата премии по литературе, который получает из рук короля золотую медаль, диплом с кратким обоснованием присуждения премии и денежный чек. Сведения о нобелевских лауреатах и мотивировки их награждения публикуются в «Календаре Нобелевского фонда», выходящем раз в два года; а ежегодники «Les prix Nobel» содержат речи нобелевских лауреатов, их биографии и представление их на нобелевской церемонии1. Почти в каждой стране выходят серии книг, включающие сочинения нобелевских лауреатов по литературе; с начала 1990-х гг. такие серийные издания стали печататься и в России.
Согласно Уставу Нобелевского фонда, номинации должны поступить в соответствующие Нобелевские комитеты не позднее 1 февраля. Полвека право номинации принадлежало, согласно выработанным правилам, членам Шведской академии и сходных с нею по типу и целям Французской и Испанской академий (то есть «академикам изящной словесности»), членам «гуманитарных секций других академий», а также членам таких гуманитарных институтов и обществ, которые обладают тем же рангом, что и академии «изящной словесности», и университетским профессорам эстетики, литературы и истории. Со временем этот круг номинаторов стал восприниматься как слишком узкий, и в 1949 г. правительством были одобрены новые правила, согласно которым выдвигать кандидатуры на Нобелевскую премию могут не только члены различных академий и обществ, сходных со Шведской академией по уставу и целям, но и профессора истории литературы и лингвистики университетов и университетских колледжей; лауреаты Нобелевской премии по литературе прежних лет и президенты писательских объединений, представляющие литературу своих стран. Заметим, однако, что уже в 20-е годы право номинации было негласно закреплено за лауреатами Нобелевской премии, причем некоторые из них выдвигали и кандидатуры русских писателей2.
Очевидно, что справиться с потоком номинаций и еще более громадным потоком литературы, требующей самого тщательного и объективного анализа, коль скоро речь идет о престижнейшей международной премии, невозможно даже прекрасно образованным академикам, становящимся на несколько лет (или, в иных случаях, даже десятилетий) профессиональными читателями. Но экспертами в разных национальных литературах они не являются, тем более что члены академии вообще могут не быть профессиональными критиками или литературоведами, а шведские историки или писатели совсем не обязаны быть специалистами в области мировой литературы. Нобелевский комитет не справился бы с возложенными на него задачами без Нобелевского института и Нобелевской библиотеки.
В 1902 г. при Шведской академии был образован Нобелевский институт, который составили специалисты по национальным литературам, в чьи обязанности входил обзор иностранной периодики, касающейся литературных вопросов, и составление регулярных отчетов о текущем литературном процессе. Как сказано в параграфе 1 инструкции, на сотрудников Нобелевского института возложена подготовительная работа, необходимая для выбора нобелевского лауреата. Для получения более полной и объективной информации о вьщвинутых на премию писателях Нобелевский комитет привлекает квалифицированных экспертов по национальным литературам. Первые четверть века экспертом Нобелевского комитета по славянским литературам был Альфред Иенсен, а в 1923 г. его сменил Антон Карлгрен, занимавший этот пост следующую четверть века.
Однако роль нобелевских экспертов, столь важная и незаменимая в первые десятилетия присуждения премии, в настоящее время практически сошла на нет: теперь обязанности по рецензированию творчества вьщвинутых на премию писателей перешли к работникам Нобелевской библиотеки при Шведской академии, сотрудники которой готовят своего рода досье на номинированных литераторов, учитывая многообразную и многоязычную критику. Уже в первые годы XX века одним шведским математиком было подсчитано, «что каждый год Академия может ожидать поступления 19 тысяч разных книг для рассмотрения, простое хранение которых потребовало бы 23 складских помещения и 292 работника, которые по три месяца ежегодно занимались бы по семнадцать часов в день только их складированием»1. Хотя это не более чем остроумная гипербола, библиотека Шведской академии действительно богата своими фондами, неуклонно пополняющимися. Впрочем, от привлечения специалистов по национальным литературам для консультаций комитет не отказывается и до сих пор.
Предыстория первого выдвижения на Нобелевскую премию
Научной «летописи жизни и творчества» Бунина пока не существует. Обратившись к некоторым малоизвестным страницам буниноведения в целях построения научной биографии писателя путем собирания фактов, связанных с его биографией, выстраиванием их в строгой хронологии и подробным комментированием, мы обнаружим, что история с присуждением писателю Нобелевской премии по литературе является не просто мало разработанной, но почти совсем не известной страницей, несмотря на внешнюю публичность одного из главных событий в жизни межвоенной русской эмиграции. Поскольку нам придется так или иначе опираться на различные материалы (в частности, подготовительные материалы к биографии Бунина, собранные А. К. Бабореко), мы не будем специально на них останавливаться, но приведем один весьма красноречивый факт: в наиболее авторитетных работах О. Н. Михайлова, специально посвященных эмигрантскому периоду в жизни и творчестве Бунина, Нобелевская премия либо вообще не упоминается, либо возникает просто как некая памятная дата1. Подобное пренебрежение важнейшим обстоятельством бунинской биографии связано с долгим изоляционизмом советской литературоведческой науки, многие направления которой развивались без опоры на архивные и иные коллекции, находящиеся за рубежом. Еще одна причина невнимания к ключевому эпизоду эмигрантского существования Бунина кроется в обособленном изучении русской литературы в целом, в отсутствии интереса к тому, как воспринимались и оценивались произведения русских писателей на Западе и как разворачивался процесс присуждения международной награды писателю-изгнаннику.
Буниноведение все еще предстает как совокупность разрозненных публикаций и изданий (некоторые из которых в последние годы приобретают черты подлинной научности2), однако концептуальных трудов, посвященных принципам построения научной биографии писателя и академическому изданию бунинского собрания сочинений, пока не появилось. Весьма важным документом для современного буниноведения следует считать выступление Д. Риникера, критически оценивающего сложившийся к настоящему времени в литературоведении образ бунинской творческой личности и намечающего некоторые перспективы развития буниноведения в XXI веке . Немецкий исследователь чрезвычайно своевременно ставит вопрос о «бунинской версии собственной биографии и творческого пути», о его истинной литературной репутации и о виртуозно творимой писателем «легенде» .
В центре нашего рассмотрения - эмигрантский период в жизни и творчестве писателя и рецепция его произведений на Западе. В литературе русской эмиграции Иван Алексеевич Бунин был самой заметной фигурой, мэтром1 - лично знакомый с Толстым, с Чеховым, он безо всяких натяжек воспринимался как продолжатель великих традиций, идущих непосредственно от Пушкина, как наследник, едва ли не единственно законный, великой русской классики. Бунинское творчество и было завершением двухвековой истории русской литературы, «одним из последних лучей какого-то чудного русскогдня», по словам Г. Адамовича . Шведская академия должна бьша подтвердить Нобелевской премией неоспоримые заслуги Бунина перед отечественной литературой и принести ему международное признание.
В начале 1920 г. И. А. Бунин стал эмигрантом. После бегства из Одессы и нескольких месяцев в Константинополе и Софии писатель оседает во Франции, в разные периоды то надолго задерживаясь в Париже, то почти не выезжая из Приморских Альп. Литераторы в Париже жили поначалу если не дружно, то во всяком случае сплоченно; дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны начала 1920-х гг. пестрят записями о постоянных встречах с А. И. Куприным, Д. С. и 3. Н. Мережковскими, А. Н. Толстым, М. А. Осоргиным, К. Д. Бальмонтом... Именно Бунин хлопочет о визе для И. С. Шмелева, потрясенный вестью о расстреле в Крыму единственного горячо любимого -.сына писателя («по недоразумению», как выразился об этой трагедии в один из своих наездов в Париж з И. Г. Эренбург ). Пережив красный террор в Крыму, опустошенный Шмелев признается Бунину: «... осталось во мне живое нечто - наша литература, и в ней - Вы, дорогой, от кого я корыстно жду наслаждения силою и красотой родного слова, что может и даст толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы»
Возобновление борьбы за Нобелевскую премию: 1930 г. Номинация С. Агрелля
Впервые адресуясь к академикам 30 января 1930 г., профессор С. Агрелль стремится обратить их внимание на представителей литературы русской эмиграции. «Если бы был жив Альфред Нобель, - уверяет лундский профессор, - он бы самым горячим образом одобрил это предложение». Состоявший в переписке с писателями русского зарубежья, Агрелль был осведомлен не только об их творческих планах и свершениях, но и о той вопиющей бедности, в которой они прозябали. «Тяжелые условия, в которых эти по большей части поистине выдающиеся писатели живут, я хочу особенно подчеркнуть, - пишет Агрелль. - Однако сделать справедливый выбор среди группы этих русских писателей нелегко, и вот почему я до сих пор воздерживался от внесения предложения». Уповая, впрочем, на «большую решительность» академиков, которым, собственно, и предстоит дать оценку книгам номинируемых авторов, Агрелль называет первым имя Мережковского.
Но он уже и сам понимает, что время громкой славы этого писателя прошло и его никак нельзя назвать единственно выдающимся представителем русской литературы. Рядом с ним звучат и другие имена, признает шведский профессор, хотя в «литературной фаланге» современных русских писателей, изгнанных из отечества, первым именем «считается Иван Алексеевич Бунин». Сигурд Агрелль предупреждает членов Нобелевского комитета, что, хотя произведения Бунина и переведены на шведский язык, большая часть из них «не принадлежит к шедеврам» писателя. Так, Агрелль крайне невысокого мнения о повести «Деревня», к тому же написанной задолго до революции и посвященной «изображению некоторых сторон жизни русского крестьянства»; пользовавшаяся большой популярностью и вызвавшая резкую критику повесть в глазах шведского профессора «не является сколько-нибудь значительным произведением искусства». После столь оригинального вступления при выдвижении бунинской кандидатуры Агрелль обращает внимание академиков на книги, вышедшие из-под пера писателя уже в эмиграции, но не переведенные пока не только на шведский, но даже и на французский язык, - «Митину любовь» 1925 г. и первую часть автобиографического повествования «Жизнь Арсеньева», публиковавшуюся с 1928 г.; как и многие критики и поклонники творчества Бунина, Агрелль тщетно ждал продолжения. Кроме того, рекомендатель ссылается на свою статью «Бунин» в 4-м издании Шведской энциклопедии, которое должно было вскоре выйти из печати (и, действительно, появилось к моменту обсуждения кандидатуры писателя).
Текст статьи «Бунин» в «Шведской энциклопедии» во многом совпадает с аргументацией С. Агрелля при его обращении в Шведскую академию. В энциклопедическом издании, однако, не дается негативных оценок повести «Деревня», хотя отмечено, что в этом, наиболее известном произведении описывается «невежественная грубость и разложение» русского крестьянства, на счет которого Бунин не питал иллюзий и при царизме, а после революции «бросает мрачный взгляд» на оставленный им «кошмар». Творчество писателя определяется в основном через упоминание его великих предшественников в русской литературе. Это ознакомление шведской публики с современным русским писателем через известные ей имена русской классики даст себя знать несколько лет спустя, когда шведские газеты, стремясь представить своим читателям нового нобелевского лауреата, воспользуются именно приемом Агрелля ; скорее всего, сведения подавляющего большинства корреспондентов шведских газет о Бунине окажутся почерпнутыми именно из этого энциклопедического издания, из статьи С. Агрелля, и мгновенно превратятся в штампы. Агрелль называет Бунина писателем, который занял в современной русской прозе место Чехова, «повествовательную технику которого он развивает по-своему»; «своим происхождением он напоминает Тургенева, подобно которому он принадлежит к старому дворянству»; наконец, в своей «старомодной лирике, вдохновленный Пушкиным и Лермонтовым, он создает образцовые безыскусные стихотворения». Ряд бунинских рассказов о «трагической борьбе за жизнь в западном мире», прежде всего «Господин из Сан-Франциско», кажется Агреллю «гораздо более привлекательным», чем его «ужасные описания крестьянской жизни». Агрелль упоминает также, что Бунин приступил к созданию большого романа на автобиографическом материале, «Жизнь Арсеньева», и отмечает его вклад в переводы англоязычной поэзии на русский язык.
Первое обращение Агрелля в Нобелевский комитет, отличающееся сумбурностью и оригинальной манерой номинации писателя - отрицать художественную ценность его произведений, доступных для чтения на иностранных языках, и настаивать на достоинствах книг, которые никто их академиков не может пока прочесть, - завершается столь же неожиданно: предложением разделить премию между Мережковским и
Буниным. «Если не брать во внимание, — резонно замечает Агрелль, — что можно присудить премию дважды за одно десятилетие до сих пор пропущенной русской литературе, то можно поставить вопрос о возможности разделения премии между двумя писателями. Без сомнения, - продолжает Агрелль, - оба писателя в высшей степени нуждаются в материальной поддержке». Замечательно, что большинство из тех, кто адресовался в Шведскую академию с номинацией той или иной писательской кандидатуры, настаивали на «идеалистической направленности» творчества выдвигаемого автора, то есть на качестве, специально оговоренном в завещании Нобеля. Лундский профессор подчеркивает другую сторону - необходимость оказать материальную поддержку бедствующим русским литераторам наряду с признанием их художественных заслуг. Но разве не во имя создания полноценных условий для жизни и творчества ученых и писателей задумывал свою премию Альфред Нобель?
Эволюция критического восприятия Д. С. Мережковского на Западе: к феноменологии творческой личности писателя
«Прошло сто лет с той поры, как появились отклики на книги Мережковского, - пишет А. Н. Николюкин в работе, датированной началом нового тысячелетия. - Его репутация как писателя то поднималась до уровня живого классика, то катастрофически падала. Историческое значение Мережковского определяется тем, что он отразил колебания мыслей и чувств русской интеллигенции перед, во время и после революции. [...] И художник живописал исторические процессы с постоянной мыслью о судьбах России нашего времени»1. Сказанное верно и для западноевропейской критической мысли: рано открыв для себя Мережковского - исторического романиста и интерпретатора литературы в религиозно-философском ключе, - европейская интеллигенция начала XX в. была воспитана на русской классике, увиденной глазами Мережковского, им истолкованной. Но послереволюционное творчество писателя, полное апокалиптических пророчеств, слишком насыщенное историко-культурной информацией и религиозно-мистическими предсказаниями и слишком тесно связанное с размышлениями о русском мессианизме, было на Западе отторгнуто решительно и бесповоротно. История выдвижения писателя на Нобелевскую премию и особенности рассмотрения его кандидатуры представителями западноевропейской культуры, подкрепленные архивными свидетельствами, призваны расширить наше представление о своеобразии рецепции Д. С. Мережковского европейским сознанием, осмыслить эволюцию восприятия творче ства писателя и, в конечном итоге, способствовать определению феноменологических черт одного из самых своеобразных русских литераторов и мыслителей XX века.
Обратимся к документальным источникам.
Кандидатура Дмитрия Сергеевича Мережковского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе еще накануне первой мировой войны, в январе 1914 г., и вновь предложена в 1915 г. После смерти Л. Н. Толстого именно Мережковский воспринимался и отечественным, и европейской гуманитарной элитой как ведущий русский романист1: М. Горький в глазах консервативной Шведской академии представал воистину «буревестником революции», писателем радикальной социал-демократической ориентации, другие прозаики не казались выходящими за средней уровень массовой беллетристики или не создали (еще) масштабных эпических произведений, а русская поэзия в глазах зарубежных ценителей русской словесности была затенена мировым явлением русского романа.
В 1914 г. Н. А. Котляревский (1863-1925), как член Санкт-Петербургской академии наук, предложил кандидатуру Мережковского на рассмотрение Шведской академии; год спустя это предложение было поддержано членом Шведской академии, поэтом Карлом Альфредом Мелином (1849-1919). К тому времени Мережковский был автором историософских романов, которые снискали ему славу не только в России: к началу первой мировой войны, в частности, трилогия «Христос и Антихрист» (1895-1905) была переведена на многие иностранные языки2, так же как и программная работа «Л. Толстой и Достоевский» (1901-1902), посвященная анализу двух тенденций развития русской литературы и безусловно заинтересовавшая поклонников этих русских гениев на Западе. По масштабности представленных эпохальных событий и явлений, по уровню документальной оснащенности и философских обобщений произведения Мережковского никак не уступали исторической романистике Генрика Сенкевича, ставшего одним из первых лауреатов Нобелевской премии по литературе. Однако война (в 1914 г. Нобелевская премия по литературе не присуждалась вовсе, а лауреатом 1915 г. стал Ромен Роллан, получивший награду годом позднее, вместе с лауреатом 1916 г., шведским поэтом Вернером фон Хейденстамом), а затем и революционные события в России надолго прервали обсуждение кандидатуры Мережковского Но белевским комитетом, и само это имя не фигурировало среди номинантов на Нобелевскую премию ровно полтора десятка лет.
Громадная разница в отношении Мережковских к возможности получения Дмитрием Сергеевичем Нобелевской премии в дореволюционное время и в годы изгнанничества хотя и поразительна, но вполне объяснима. В 1910-е годы они были еще относительно молоды и здоровы, обеспечены благодаря собственным литературно-художественным трудам и жили в государстве, стабильность которого не вызывала у них сомнений. Стихотворение Мережковского рубежа веков демонстрирует с необыкновенной ясностью, как легко заигрывали литераторы Серебряного века с далеко не шуточными вещами, как просто жонглировали словами, сочиняя парадоксальные строчки:
Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником,
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником,
И не иметь друзей...
Но поэта воистину «далеко заводит речь»; и если в 1940-х гг. 3. Н. Гиппиус с горечью сетовала на обстоятельства, в которых прошло более трети их жизни, - на эмиграцию и «бедность (да, бедность, это был русский - и, можно сказать, европейский писатель, проживший всю жизнь и ее кончивший - в крайней бедности)»1, - то едва ли вспоминала ту поэтическую безответственность, с какой выговаривались когда-то почти пророчества в стихотворении «Изгнанники», речь в котором шла, конечно, не о реальном беженстве, а о духовном избранничестве.
Впрочем, слова о «радостном изгнанничестве» или презрительные признания, как, например, в «Старинных октавах» - «Я не из тех, кому приятен дым / Отечества...», - вряд ли были искренними. Необходимая в тех идейно-эстетических условиях литературная маска скрывала совсем иное - задушевное отношение к родине и неразрывную связь с ней. «И вот мы снова в России», - писала в начале века Зинаида Гиппиус об очередном возвращении домой, при регулярности длительных, иногда затягивавшихся на несколько лет, отлучек за границу