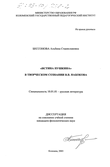Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Пушкин и Есенин»: теоретико-методологические подходы к изучению научной темы 21
1.1. Понятия «жизнетекст» и «мифотворчество» в контексте русской литературы
1.1.1. Жизнетворчество как процесс духовно-эстетической самореализации
1.1.2. История литературно-эстетического феномена мифотворческого поведения в русской литературе 26
1.2. Периодизация творчества Есенина в свете жизнетекста поэта 37
1.3. Литературная традиция как форма культурно-творческого диалога в национальной литературе .46
Глава II. Пушкинское влияние в эстетико-художественном сознании Есенина .56
II. 1. «Пророк» Пушкина и концепция «поэта-пророка» в жизнетворчестве Есенина
II. 1.1. Истоки есенинского жизнетворчества
II. 1.2. «Пророк Есенин Сергей» и его «поэтическая Библия» 65
II. 1.3. Поэма «Пугачев» Есенина как диалог-соперничество с Пушкиным 81
II.2. «Пушкинианство» Есенина и лирический цикл «Любовь хулигана» 95
II.2.1. Пушкинский жизнетекст в творческом мире Есенина 1922-1924 годов
II.2.2. «Прощание с хулиганством» Есенина как филологический миф 110
II.3. Идейно-художественные особенности концептосферы творчества Есенина 1921-1924 годов 118
II.3.1. Концептосфера историко-художественного мышления Есенина в поэме «Страна Негодяев»
II.3.2. Пушкинская «метель» и есенинские «метели» 130
Глава III. Есенин и пушкинский мифе русской литературе 20-30-х годов 142
III. 1. «Пушкинский текст» Александра Блока: историко-культурный генезис есенинского мифа о Пушкине
III. 1.1. Мифологема «тайной свободы» поэта в «пушкинском тексте» Блока
III. 1.2. Мотивы «совести» и «вины» в «пушкинском тексте» Блока 153
III.2. Стихотворение Есенина «Пушкину» как сакрально-мифологический текст в жизнетворчестве поэта 161
III.2.1. Культурно-мифологическая парадигма юбилейного текста Есенина
III.2.2. Стихотворение «Пушкину» в диалогическом дискурсе времени и судьбы Есенина 173
III.3. Судьба высокого пушкинского мифа в русской поэзии 30-х годов и «Пушкинские стихи» Бориса Корнилова 184
ІІІ.3.1. Пушкин и новый культурный герой в лирике Б. Корнилова
III.3.2. Пушкинский миф в духовных исканиях Б. Корнилова 201
Глава IV. Пушкинская традиция в творчестве Есенина 1924 -1925 годов: этико-художественный и культурно-исторический аспекты 220
IV. 1. Пушкинское в историко-художественном сознании Есенина: от «Песни о великом походе» к «Анне Снегиной»
IV. 1.1. Идейно-художественное своеобразие темы «Руси советской» в творчестве Есенина 1924 года
IV. 1.2. «Болдинская осень» Есенина 239
IV. 1.3. «Анна Снегина» Есенина: «неповторимая поэма современности» в «духе Пушкина» 245
IV.2. Исповедальность как выражение национального мироощущения в лирике Есенина «пушкинского» периода творчества 259
IV.2.1. О границах понятия «исповедальная лирика»
IV.2.2. Исповедальность поэтического самовыражения в жизнетексте Есенина 20-х годов - 268
IV.2.3. Этико-художественные функции «простого слова» в «зимнем цикле» Есенина. 283
IV.3. Эсхатология национального сознания и последняя поэма Есенина 291
IV.3.1. «Эсхатологический текст» русской литературы. Границы понятия
IV.3.2. «Бесы» Пушкина в эсхатологическом дискурсе национального мифа. 301
IV.3.3. Поэма «Черный человек» - эсхатологическое «зеркало» автора 317
IV.3.4. Пушкинские «отражения» в последней поэме Есенина 333
Заключение 344
Библиография 350
- История литературно-эстетического феномена мифотворческого поведения в русской литературе
- Концептосфера историко-художественного мышления Есенина в поэме «Страна Негодяев»
- Пушкинский миф в духовных исканиях Б. Корнилова
- Пушкинские «отражения» в последней поэме Есенина
Введение к работе
Мысль о «пушкинском» феномене Есенина, с настойчивым постоянством звучащая в есениноведческих работах и ставшая едва ли не филологической аксиомой, по большому счету не имеет прочного научного обоснования. Восприятие Есенина как наследника Пушкина в русской литературе XX века сложилось еще при жизни поэта и было доведено до своего абсолютного, мифологического предела траурной церемонией похорон Есенина (гроб с телом поэта был обнесен вокруг памятника Пушкину). Однако сам «перевод» этого исключительного факта культурного сознания в сферу его всестороннего литературоведческого исследования так и не произошел. Разумеется, эти слова не следует воспринимать в качестве утверждения, категорически свидетельствующего об отсутствии «пушкинского» направления в есеииноведении. Речь идет о пока еще несостоявшейся полновесной научно-исследовательской реализации одной из самых очевидных тем в изучении творчества Есенина, что, в общем-то, не умаляет уже накопленного опыта такого изучения.
50-80-е годы - время создания научного фундамента современного есе-ниноведения. В первых монографиях о Есенине, написанных П.Ф. Юшиньтм, СП. Кошечкиньш, Е.И. Наумовым, Л.Г. Юдкевичем, Ю.Л. Прокушевым, А.А. Волковым, A.M. Марченко, в крупных исследованиях В.А. Вдовина, В.В. Коржана, В.Г. Базанова, П.С. Выходцева, В.И. Харчевникова, З.В. Жаворонко-ва, Е.Л. Карпова, А.И. Михайлова и других был систематизирован большой корпус фактологического материала о жизни и творчестве Есенина, способствующий воссозданию научной биографии поэта, определилась приоритетная сфера изучения художественного генезиса и традиций есенинского творчества («Есенин и народная поэзия»), нашла всестороннее обоснование концепция П.Ф. Юшина об идейно-творческой эволюции Есенина; получила свое научное освещение и тема «Пушкин и Есенин». Причем практически во всех работах, которые по тем или иным содержательным параметрам (от научной статьи до нескольких страниц в монографиях) объединены этой темой, внимание четко сфокусировано на произведениях Есенина, созданных им в последние два года жизни, признаваемые вершиной художественного мастерства поэта.
Показательны в этом отношении и исследовательские принципы изучения пушкинской традиции в художественном сознании Есенина, для которых характерна актуализация творческой преемственности на уровне общих литературно-эстетических свойств и понятий: образности, композиции, слова, ритма. В итоге такая тенденция придала статус «обиходности» (В.И. Хазан) этой проблеме, которая, казалось, в дальнейшем нуждалась только в уточнениях и дополнениях, исключающих какое-либо принципиально новое ее решение. К тому же данный подход вряд ли позволяет говорить о «пушкинском» феномене Есенина как исключительном явлении в русской литературе начала XX века, да и мало что дает в осмыслении глубинной, духовной связи есенинской поэзии с пушкинской.
В ряде публикаций о Есенине, появившихся в середине 80-х гг. (В.Н. Турбина, Э.Б. Мекша, В.И. Хазана), сделаны реальные попытки аналитически осмыслить, а в некоторой степени - переосмыслить, проблему пушкинской
традиции в есенинском творчестве. Новаторское звучание этих работ заключается в разноуровневой актуализации полемического характера художественного «я» Есенина, имманентно присутствующего в творчестве поэта последних лет, в отношении к темам, идеям и образам романа «Евгений Онегин» и философской лирики Пушкина 30-х гг. Однако известная узость методологических подходов советского литературоведения позволила ученым лишь наметить ряд важнейших герменевтических проблем, исподволь возникших в ходе исследования. И к таким здесь следует отнести сопоставление художественной концепции мира и человека, акцентирование близости/различия поэтов в духовно-творческом осмыслении переломных моментов в истории России. Решение этих проблем способствовало бы уяснению, в первую очередь, нравственно-философских и чисто художественных, а не только социальных принципов вероятной в данном случае полемики.
В зарубежном есениноведении тема «Пушкин и Есенин» практически не возводилась в ранг проблемных и требующих тщательного изучения. Более того, такие авторитетные слависты, как Гордон Маквей («Esenin: A life», 1976) и Константин Пономарев («Sergey Esenin», 1978), объясняли интерес Есенина к Пушкину непомерным тщеславием «рязанского поэта», а в «пушкинском векторе» есенинской поэзии двух последних лет видели угасание художнического таланта автора «Инонии» и «Пугачева».
Заметным явлением в филологической науке начала 90-х гг. стала монография В.В. Мусатова «Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. [А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский]» (1992). Эта работа уверенно пролагает новые пути в осмыслении места и роли Пушкина в национальном литературном процессе XX века. Своеобразие авторского научного подхода к изучению пушкинской традиции в поэзии «серебряного века» хотя и оговаривается здесь достаточно скромно, однако новаторский характер в представлении заявленной проблемы кажется вполне очевидным и бесспорным. Уже сама логика построения исследования В.В. Мусатова дает основание говорить, что в русле мифологического восприятия Пушкина поэзией «серебряного века» определяются контуры пушкинской традиции, ее приоритетные начала, одним из которых является «стандартно-образцовая» тема предназначения поэта. У В. Мусатова дается подробная аналитическая картина того, как в эстетико-философских глубинах русского символизма возникает и развивается изначально противоречивое отношение к Пушкину; как размыкаются в новое время рамки «художественности» в осмыслении сущности «абсолютного поэта», что и является исходной точкой в «перемещении» Пушкина из собственно творческой, поэтической сферы в мифологическую.
В оценке же «пушкинского взгляда на мир у Есенина» В. Мусатов в большей степени все-таки традициоиен И один из самых ценных тезисов этой части монографии - личность у Есенина «заполняла образовавшийся разрыв между искусством и жизнью, между творчеством и возможностью его воплощения-» в контексте исследования пушкинского влияния на Есенина - намечен только, что называется, пунктиром.
И все же ценность работы В. Мусатова для есениноведения и в целом литературоведения значима и неоспорима. Сферы художественно-творческой мифологии и литературной традиции Пушкина как два равнозначных явления характеризующие эстетико-философские основы поэзии «серебряного века», впервые в филологической науке были разомкнуты и объединены. А это, в свою очередь, способствовало, вернее, могло способствовать выявлению в дальнейшем многомерной неоднозначности восприятия пушкинского наследия в духовно-творческом пространстве национальной культуры.
Однако говорить о существенном «прорыве» в исследовании темы «Пушкин и Есенин» вряд ли и теперь предоставляется возможным. И, наверное, вполне объективно можно считать, что высшим научным достижением в данном направлении является сборник статей «Пушкин и Есенин», подготовленный Есенинской группой ИМЛИ по итогам Международной научной конференции, прошедшей 25-27 марта 1999 года в Москве.
Содержание публикаций названного издания, преимущественно, ориентировано на представление широкого «спектра Пушкинского влияния на неординарную личность Есенина». Однако практическое исполнение такого научного задания чаще всего сводится в составляющих сборник статьях к уже «испытанному приему»: анализу тех текстовых параллелей, что уже были в есениноведении и отмечены, и отчасти прокомментированы.
Разрыв между теоретическим посылом и его практическим претворением в этих исследованиях, по мнению диссертанта, происходит из-за отсутствия единого базового инструментария, позволяющего охарактеризовать саму целостность личностных, творческих и историко-культурных связей есенинской поэзии с творческим миром Пушкина. Но уже показательно то, что в ряде работ делается попытка найти «субстанциальную первооснову» эстетико-творческой близости русских поэтов, упрямо не укладывающуюся в прокрустово ложе «общепринятого» понятия «литературная традиция» (А. Захаров, Г. Шипулина). У некоторых авторов обретают статус законного научного инструментария термины «пушкинский миф» и «жизнетекст», характеризующие как акт собственного жизнетворчества Есенина (Л. Киселева, С. Кошечкин), так и одно из явлений национальной культуры начала XX века (В. Устименко).
Н. Шубниковой-Гусевой убедительно доказывается, что сам принцип пушкинских традиций в лироэпике Есенина 20-х гг. проявляется не только и не столько в творческой ориентации поэта на конкретные произведения Пушкина (что в есениноведении уже стало «общим местом»), но и в органичном «синтезе различных жанров» пушкинского творчества.
Отдельно следует выделить исследование О. Вороновой, в котором делается попытка выстраивания новой научной парадигмы в изучении темы «Пушкин и Есенин». Наибольшую ценность для настоящей работы здесь представляет постулируемая О. Вороновой научная позиция о необходимости изучения пушкинского и есенинского феноменов в сфере русского национального самосознания как «культурных знаков русской литературы» и «достояния национальной мифологии». Эта позиция определит и новаторский характер монографии О.Е. Вороновой «Сергей Есенин и русская духовная культу-
pa» (2002), где глубоко и полно выявляется национальный духовный генезис художественного мира Есенина, ментальные основы его уникального творческого дарования.
Еще в одном фундаментальном исследовании последних лет, книге Н. Шубниковой-Гусевой «Поэмы Есенина: От "Пророка" до "Черного человека": Творческая история, судьба, контекст и интерпретация» (2001), в плане рас-хматриваемой темы важное значение имеет комментированное обобщение огромного числа критических работ о поэте 1916-1927 гг. и в связи с этим анализ возможного и очевидного обращения Есенина к творческому наследию Пушкина в процессе создания каждой из своих поэм. Заслуживает особого внимания и актуализация Н. Шубниковой-Гусевой проблемы есенинского мифотворчества, способствующая более ясному определению сущности и содержания основных этапов эволюции художественного сознания поэта.
Краткий обзор истории изучения темы «Пушкин и Есенин» дает возможность сформулировать некоторые предварительные выводы.
Тема «Пушкин и Есенин», являющаяся одной из проблемных в современном литературоведении, до сих пор не имеет даже самых общих подходов в ее целостном изучении. Приоритетность такого исследования, помимо частных герменевтических задач, актуализирующих содержательные аспекты данной темы, обусловлена необходимостью четкого уяснения самого явления этико-художественной преемственности в русской литературе, а также определения внутренних факторов единства национального словесного искусства на примере двух знаковых творческих величин русской культуры.
Попытки поиска адекватных данной проблематике принципов исследования пушкинского «воздействия» на художественный мир Есенина, осуществленные и осуществляемые в есениноведении, имеют превентивный характер. И чаще всего концептуальными категориями здесь являются понятия «традиция» и «влияние». Причем, практически во всех исследованиях этого направления названные понятия оказываются фактически взаимозаменяемыми.
Концептуально новаторские опыты изучения историко-культурного контекста творчества Есенина, предпринятые в филологической науке за последние 10-15 лет, закономерно привели к актуализации такого категориального понятия, как, «пушкинский миф». Это понятие, именующее один из культурных феноменов литературного сознания начала XX века, характеризует особую сферу воздействия Пушкина как поэтической жизнетворческой целостности на «жизнетекст» Есенина.
Сделанные выводы свидетельствуют о том, что при непрекращающемся внимании к столь очевидной научной теме, а также при наличии ряда работ данного направления, в целом в науке не ставилась задача концептуально-комплексного изучения пушкинского «присутствия» в художественном сознании Есенина. Этим и объясняется актуальность данного диссертационного исследования.
Объектом реферируемой диссертации стало не только творческое наследие Пушкина и Есенина, но и мемуарная литература, различные манифесты и публицистические работы XIX-XX веков, способствующие воссозданию не-
обходимого историко-культурного контекста эпох Пушкина и Есенина и актуализации специфических черт творческого диалога поэтов. С этой целью в диссертации привлекается самый разнообразный художественный материал: тексты православных молитв, некоторые памятники святоотеческой литературы, а также отдельные произведения М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и творческое наследие современников Есенина — А. Блока, Н. Клюева, С. Клычкова, Вяч. Иванова, Г. Иванова, В. Маяковского и др. Обращение к поэзии Б. Корнилова призвано дополнить общую картину культурно-творческого диалога Есенина и Пушкина и, вместе с тем, прояснить судьбу высокого пушкинского мифа в русской литературе 30-х гг.
Предмет исследования - формы пушкинского «присутствия» (влияние, миф, традиция), их генезис и художественно-функциональный статус в творческом мире Есенина, рассматриваемые в историко-культурном контексте русской литературы.
Научная новизна диссертации обусловлена
опытом системного изучения пушкинского «присутствия» в творческом сознании Есенина, проецируемого на художественно-мифологический контекст русской литературы начала XX века;
выбором синтетически применяемых в исследовании базовых категорий, способствующих более глубокому и последовательному уяснению творческой неоднородности рецепции Пушкина и в художественном сознании Есенина, и в современной ему литературе;
актуализацией целостности духовно-творческой эволюции Есенина в ее движении к этико-художественным координатам пушкинского наследия.
Основной целью реферируемой работы является широкое комплексное изучение восприятия Пушкина как жизнетворческой поэтической целостности художественным сознанием Есенина в историко-культурном контексте русской литературы первой трети XX века.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
рассмотреть основные тенденции художественного мифотворчества, характерные для национального литературного процесса первой трети XX в., в их отношении к «магистральной» традиции национальной духовной культуры;
дать теоретико-методологическое обоснование основным формам культурно-творческого диалога в литературе;
обосновать периодизацию творчества Есенина в свете процесса духовно-эстетической самореализации поэта;
проанализировать основные этапы художественного мифотворчества Есенина с точки зрения целостности его поэтического сознания в системе базовых категорий;
выявить творческую логику развития и смены мифологических моделей мира у Есенина в их отношении к пушкинской художественной концепции мира и поэтического творчества;
охарактеризовать основные черты и функциональную роль «пушкинского мифа» в художественном сознании Есенина и творчестве его современников;
исследовать творческие принципы этико-художественной преемственности пушкинского наследия, проявляющиеся в поэзии Есенина 20-х гг.;
определить специфику форм и содержания духовно-эстетического воплощения в жизнетексте Есенина 1924-1925 гг. религиозно-этических констант национального мироощущения.
Методологическая база предлагаемой диссертации выстраивается на основе историко-функционального, историко-генетического, сравнительно-сопоставительного методов современного литературоведения с использованием элементов ритуально-мифологического и символико-мифологического подходов при анализе художественного текста. В исследовании привлекаются методологические концепции национальной литературы И.А. Есаулова и B.C. Непомнящего, а также учитываются ключевые положения монографических работ В.В. Мусатова, освещающих проблему пушкинской традиции в русской поэзии первой половины XX века.
В определении понятия «миф» диссертант исходит из фундаментальных теоретических исследований А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова, А.Я. Голосковера, признающих сакральную природу мифа как модели мирового порядка, указывающей пути и способы превращения хаоса в космос. В работе широко привлекаются некоторые положения исследований М.В. Загидуллиной, О.С. Муравьевой, Ю.В. Шатана, М.Н. Виролайнен, посвященных изучению феноменологии «пушкинского мифа».
В диссертации делается попытка актуализации содержания понятий «влияние» и «традиция», опирающаяся на опыт теоретико-методологического изучения основных форм культурно-творческого диалога (А.С. Бушмин, Ю.Б. Борев, В.В. Кожинов) и их функционального качества в литературном процессе начала XX века (И.А. Есаулов, В.Е. Хализев). При анализе отдельных аспектов традиции и влияния в художественном сознании поэзии «серебряного века» учитываются некоторые концептуальные положения работ Х.-Г. Гада-мера «Истина и метод» и X. Блума «Страх влияния».
При интерпретации содержания основных этапов творческой эволюции Есенина и произведений поэта использовались труды таких ученых-есениноведов, как П.Ф. Юшин, А.А. Волков, Ю.Л. Прокушев, A.M. Марченко, А.Н. Захаров, Н.И. Шубникова-Гусева, О.Е. Воронова. Поскольку объект исследования предполагает и целостное научное представление о духовно-творческом содержании художественной картины мира Пушкина, в ходе комплексного описания восприятия Есениным пушкинского жизнетекста задействованы работы пушкинистов Н.Н. Скатова, С.А. Фомичева, B.C. Непомнящего, В.А. Кошелева, Ю.М. Никишова, В.А. Грехнева, Е.М. Таборисской и некоторых других.
Теоретическое значение. В основу концепции реферируемой работы положены современные научные подходы, базирующиеся на парадигме литература в системе культур». Приоритетным в этом плане является методологический принцип единства национальной словесной культуры, который обусловлен существованием синтетической целостности и потенциальной жизне-
способности основных форм национальной культурно-исторической преемственности: влияния, мифа, традиции.
Заявленная концепция работы, учитывающая существующий опыт изучения научной темы «Пушкин и Есенин», а также новейший опыт истолкования историко-культурного контекста литературы «серебряного века», позволяет выдвинуть в качестве базовых категорий предлагаемого диссертационного исследования такие, как «жизнетекст», «мифотворчество», «влияние», «миф», «традиция». А это, в свою очередь, дало возможность уточнить представление об их функционировании и в рамках рассматриваемого литературного явления, и в национальной словесной культуре в целом. Кроме того, в диссертации введены две новых литературоведческих категории - «эсхатологический текст» и «исповедальность словесного творчества», обоснованы их основные критериальные признаки, представлены конкретные образцы анализа отдельных художественных произведений в дискурсе этих категорий.
Практическое значение. Основные положения и результаты диссертации могут быть использованы в последующем научном исследовании рецепции пушкинского творчества русской литературой XX века, в теоретических работах по темам «национальное своеобразие литературы», «христианство и словесное искусство», а также при чтении курсов истории русской литературы XIX и XX веков и истории русской культуры.
Основные положения, выносимые на защиту:
Жизнь и поэзия Есенина, в целостности образующие непрерывный мифотворческий процесс, в котором происходило рождение и становление самобытного русского «голоса» поэта, устремлены к поиску духовно-эстетической подлинности своего «я-сотворенного» в национальной культуре. Характер эволюции художественного сознания Есенина - от «смиренного инока» к «наследнику Пушкина наших дней» - во многом обусловлен диалогом как основой есенинского жизнетекста. Исключительная роль в эволюции художественного сознания Есенина принадлежит его творческому диалогу с Пушкиным, который последовательно манифестируется и воплощается в есенинском жизнетексте посредством своих основных форм - влияния, мифа, традиции.
Экспликация и анализ самих форм пушкинского «присутствия» в художественном сознании Есенина предполагает изучение этого «присутствия» в свете имманентных органических законов, обусловливающих единство национальной культуры, по отношению к которой поэтический гений Пушкина является сакральным знаком тождества.
Процесс становления Есенина как поэта отражает в себе органичный художественный синтез идей и представлений народно-религиозного сознания с мифотворческой эстетикой поэзии «серебряного века». Этот синтез, отражающий уникальный по своим художественным интенциям диалог жизни и поэзии, вместе с тем внутренне ориентирован на диалог-соперничество с Пушкиным. И такая функционально значимая разновидность творческого влияния в художественном сознании Есенина во многом обусловлена его стремлением утвердить свое «слово о мире» как новое и подлинное откровение народного духа в противовес эстетико-творческим принципам Пушкин-
ской поэзии, признанной в русской культуре классической и идеальной мерой национально-художественного самовыражения.
Анализ имплицитного и эксплицитного присутствия диалога-соперничества в жизиетексте Есенина 1910-1920-х гг. дает возможность как уточнить природу и характерные черты лирического героя поэта периода создания им «Радуницы», так и предложить совершенно новые истолкования мифотворческой оптики Есенина, прежде всего в его «необиблейском» эпосе, «Ключах Марии» и «Пугачеве».
Столкновение Есенина с «реальной историей» обернулось для поэта мучительным осознанием не только иллюзорности собственных утопических мифопостроений, но и катастрофических последствий самой сути этой «реальной истории» для почвенных и глубинных начал национального сознания. Противоречивые искания Есенина начала 20-х гг., внутренне объединенные настойчивой мыслью поэта понять, «что случилось, что стало в стране», кардинально меняют характер его диалога с Пушкиным. На этом этапе не только проявляется влияние в его привычном понимании, но и угадывается стремление новейшего поэта постичь глубинные основания целостности художественного мировидения предшественника, что ярче всего демонстрирует такой феномен творческого поведения Есенина, как «жизненное» пушкинианство.
Пушкинский миф Есенина, концептосфера которого включает в себя ценностно-ориентированные идеи православно-христианского самопознания, служит основанием развития и утверждения пушкинской традиции в творчестве Есенина, где новейший поэт воспринимает своего великого предшественника как духовно-творческую целостность, обладающую эстетической полнотой в отражении действительности, в которой синтез «родного и вселенского» оказывается созвучным собственному опыту в осмыслении бытия.
Исследование широкого спектра самых разнообразных связей есенинской поэзии 1924-1925-х гг. с пушкинским наследием приводит к выводу, что в орбите творческого внимания Есенина, в первую очередь, располагается истори-ко-художественный опыт Пушкина, его переживание истории в себе и себя в истории, столь необходимые автору «Анны Снегиной» для осмысления «исторического объективно-ценного процесса» современности.
Движение к ясности и простоте лирического слова и образа у «позднего» Есенина, связанное с декларируемым самим поэтом «формальном развитием» как «тяге» к Пушкину, выявляет сложный и многомерный процесс «преобразования души» в качестве ценностно-тематической доминанты, существующий у Есенина в пространстве духовного опыта русской культуры и немыслимый вне исповедального дискурса поэтического самовыражения.
Актуализация понятия «эсхатологический текст», имманентно определяющего структурно-смысловые параметры единства национального словесного искусства, позволила не только дать оригинальное истолкование поэмы «Черный человек» и уточнить функциональное значение в ней пушкинского «отражения», но и концептуально охарактеризовать формы и способы этико-худо.жественной взаимосвязи поэтических миров Пушкина и Есенина с религиозно-символическими константами русской культуры как высшего проявле-
ния творческой преемственности в литературе. Фактор преемственности такого рода, органично подчеркивающий самобытность и полноту художественного выражения Есениным русского национального самосознания, во многом проясняет природу и смысл «пушкинского» феномена творческой судьбы Есенина в современности.
Апробация диссертации. Основное содержание диссертации отражено в монографии, двух учебных пособиях и целом ряде статей (список изданий приводится в конце автореферата). Отдельные результаты исследования были изложены автором в форме докладов на международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях: «Пушкин и русская культура». (СПб.-Новгород, 1996), «Болдинские чтения» (1995, 1996, 1999-2006), «Горьковские чтения» (Н. Новгород, 1996, 2000), «Филологический класс: наука - вуз - школа» (Екатеринбург, 2002), «Сергей Есенин и русская школа» (Москва - Рязань — Константинове, 2002), «Есенин и поэзия России XX-XXI веков: традиции и новаторство» (Москва - Рязань - Константинове, 2003), «Наследие Есенина и русская национальная идея: современный взгляд» (Москва - Рязань - Константинове, 2004), X Шешуковские чтения (Москва, 2005), «Литературное общество "Арзамас": культурный диалог эпох» (Арзамас, 2005), «Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы» (Москва - Рязань - Константинове, 2005), «Наследие В.В. Кожинова и актуальные проблемы критики, литературоведения, истории, философии в изменяющейся России» (Армавир, 2005), «Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной литературах» (Волгоград, 2006), «Есенинская энциклопедия: концепция, проблемы, перспективы» (Москва - Рязань - Константинове, 2006), «Православие и русская литература» (Арзамас, 2006). Основные положения работы излагались в процессе чтения спецкурса «Пушкин и поэзия "серебряного века" русской литературы», а также руководства спецсеминаром «Судьбы поэтов "серебряного века"» в течение 2000-2006 учебных годов на разных факультетах АГПИ им. А.П. Гайдара.
Структура її объем исследования. Диссертация состоит из Введения, четырех глав и Заключения. Библиография насчитывает 418 единиц.
История литературно-эстетического феномена мифотворческого поведения в русской литературе
Практически во всех указанных нами исследованиях, посвященных жизнетворчеству как мировоззренческой модели творческого поведения художника «серебряного века», в той или иной степени оговаривается эстетическое наследование модернистскими концепциями «творчества жизни» конструктивным принципам жизнетворения в русской литературе эпохи романтизма. Важно отметить и то, что в работах о романтических моделях «жизнетворения», как правило, указывается на их своеобразное эстетико-художественное продолжение в литературе «серебряного века» . И нередко в фокусе внимания в данном случае оказывается (правда, лишь как констатация факта) функциональный характер игрового дискурса, определяющего зоны сближения в поведенческих моделях романтиков и модернистов. В этой связи стоит добавить, что название литературного общества «Арзамас» чаще всего и возникает в констатирующих описаниях таких зон18. При этом само общество как литературно-эстетический феномен жизнетворчества русской культуры начала XIX века в указанном сопоставительном контексте не получает научного рассмотрения. А такой аспект здесь, в перспективе нашей работы, принципиально важен, поскольку дает возможность на примере одной из ключевых для целостного осмысления творческой судьбы художника категории «жизнетворение» определить уровни единства/различия культурно-мифологических парадигм разных эпох в истории русской словесности и, соответственно, прояснить сущностные моменты в диалоге этих эпох. И в данном плане мы видим необходимым сосредоточить свое внимание на специфических чертах игровых моделей поведения «Арзамаса» в их проекции на театральные жизнетворческие акты в литературе «серебряного века».
Исследователям русской словесности хорошо известна ритуальная практика «Арзамасского Общества Безвестных Людей». Напомним, что вместо вступительной речи каждый посвящаемый в члены этого общества обязан был произносить «отходную» живым литературным соперникам из «Беседы любителей русского слова». Так, к примеру, в 1817 году новопринятый К.Н. Батюшков «отпел» секретаря Российской академии П.И. Соколова. Согласимся, что с позиции даже сугубо светского, или, как сейчас говорят, невоцерковленного сознания обряд выглядит кощунственным. Но здесь необходимо, на наш взгляд, проникнуться, так сказать, обратной стороной этого обряда: как воспринимать данное осознанное ритуальное действо Батюшкова-Ахилла по отношению к Батюшкову-поэту, автору послания «К Дашкову» и опыта в прозе «Нечто о морали, основанной на философии и религии»? Как два взаимоисключающих друг друга типа творческого поведения, что вроде бы очевидно здесь проявляется, уживаются в сознании одной личности художника?
Приступая к ответу на эти вопросы, обратимся прежде к печальному и довольно скорому финалу в существовании «Арзамасского Общества Безвестных Людей». Здесь замечание В.А. Жуковского «Мы разучились смеяться», оброненное им в последнем гекзаметрическом протоколе «Арзамаса», вполне может претендовать на право считаться своеобразной эпитафией этому литературному обществу1 .
Спустя почти столетие схожее с этой мыслью суждение, но в качественно ином экспрессивном ореоле и совершенно по иному поводу выскажет А. Блок в своей статье «Ирония» (1908). И ее с не меньшим правом можно назвать эпитафией. Только уже всей литературе «нового времени», литературе, «из опустошенной души» которой, по мнению Блока, «вырывается уже не созидающая хула и хвала, но разрушающий, опустошительный смех»20.
«Самые живые, самые чуткие дети нашего века, - как эмоционально свидетельствует поэт XX века, - поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь - сродни недугам и может быть названа "иронией". Ее проявление - приступы изнурительного смеха, которые начинаются с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается - буйством и кощунством. ... Эпидемия свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он вовсе не умеет улыбнуться, ему ничто не смешно. И по нынешним временам, это не менее страшно, не менее болезненно...»21
Разумеется, намеченное нами сопоставление можно отнести к разряду тех «странных сближений», которыми нередко грешит филологическая наука в сфере сравнительно-типологического изучения двух эпох русской словесности. И все-таки, в данном случае, пожалуй, стоит довериться императиву В. Ходасевича «Эпохи позволительно сравнивать» и попытаться выявить эстетико-творческую неслучайность, казалось бы, чисто случайного совпадения основной мысли статьи А. Блока с высказыванием В.А. Жуковского.
Слова Жуковского («Мы разучились смеяться») дают, пожалуй, однозначный ответ, по крайней мере, на то, что к «Арзамасу» нельзя подходить с меркой классического понимания творческого поведения как такового23. Оно по сути своей служит жизненно-духовной реализацией этико-творческого потенциала художника, формирующего новую культурно эстетическую парадигму в восприятии действительности. И здесь, конечно же, существует и игра, и пародия, и ирония, но - как позиция, авторская точка зрения на бытие в его онтологической целостности. «Арзамас» же сам по себе представляет целостность особого рода, причем не случайно топонимически маркированную и требующую специфической авторской позиции, сознательно игровой по отношению к творчеству как жизненно духовному акту. Локализованность данной целостности определяет характер жизнетекстовой действительности «Арзамаса», предельно сконцентрированной в сфере литературно-эстетических стратегий эмпирической реальности. Именно в этом, на наш взгляд, следует искать причины, побудившие «арзамасцев» декларировать собственную «литературную безвестность». Симптоматичен здесь и символический статус арзамасского гуся, его эстетическая концептуализация: «Может быть, арзамасские гуси освободят русскую словесность от. варварства Беседы, которая так, как всякое зло и по прошествии своем имеет дурные действия, кто знает! гуси же однажды спасли и древний Рим!»
Пародирование как жизне- и текстопорождающее начало «Арзамаса» создает и поддерживает особую атмосферу общества с имманентно необходимыми ему «развенчивающими двойниками» (М.М. Бахтин). Вместе с тем, предельная локализованность «Арзамаса» как особой целостности обусловливает и локальный характер самого пародирования. Не весь «мир наизнанку» (М.М. Бахтин) с его устоявшейся аксиологией, константами культурно-мифологического сознания предстает в жизнетекстовой действительности «Арзамаса», а лишь сфера литературной эстетики реально существующего времени25. И в этом смысле никакого кощунства в том же ритуале посвящения в члены «арзамасского братства» нет, так как пародируется (подлежит осмеянию) не сам обряд отпевания усопшего, а модель литературного соперничества. При этом категории жизни и смерти лишаются своего онтологического статуса и экстраполируются на творческо-функциональные качества литературных соперников.
Заметим, кстати, что позднее в критике, быть может, именно эта сторона «арзамасского» ритуала в качестве метафоры станет едва ли не нормой в определении творческих потенций того или иного художника слова. Хоронить, а в известном смысле отпевать «заживо», причем не единожды, будут и Жуковского, и Пушкина, и Гоголя. А в XX веке - Блока, Есенина, Маяковского...
Концептосфера историко-художественного мышления Есенина в поэме «Страна Негодяев»
Р.В. Разумник-Иванов, известный публицист, идеолог «скифства» и один их частых адресатов есенинских писем 1917-1921 годов в статье, посвященной творчеству «вершинных» имен «скифского» движения - Блока и Белого, писал: «В буре пожаров надо суметь увидеть то новое, то надысторическое, что таится теперь перед нами в пыли, грязи и крови»84.
Этот призыв, кстати, далеко не единственный в цитируемой статье, является не только прямым отражением «скифской» идеологии, но и символической характеристикой общей литературно-философской тенденции в культурном сознании революционной эпохи, где восприятие идеи революции как «мирового вихря» предстает в качестве доминирующего аллегорического образа. В этом плане показательно, как у того же Иванова-Разумника, в передаче А. Ремизова, воплощается названная идея: «Это вихрь, говорит он: на Руси крутит огненный вихрь ... . Вихрь несет весенние семена. Вихрь на Запад летит. Старый Запад закрутит, завьет наш скифский вихрь. Перевернется весь мир!»
Подобного рода «вихрь» является мотивно-образной доминантой «необиблейского эпоса Есенина, поэтизирующего природную и социальную стихии, и в этом качестве созвучной мистериальному эпосу В. Маяковского и В. Хлебникова, «неоевангельской» лирике пролетарских поэтов, эпистолярно-публицистическим опытам А. Белого и А. Блока86.
Однако к началу 1920 года в творчестве Есенина осмысление революционных преобразований как «огненного вихря» и «очистительной бури» в духе скифской мифологемы спасения через гибель приобретает совершенно иное художественно-философское наполнение.
В «Сорокоусте» «музыка революции» как экстатически отвлеченное восприятие грозовых раскатов сотрясающих мир стихий, присущее революционным поэмам 1917-1919 годов, сменяется резким звуком апокалипсических предзнаменований, внося растерянность в сознание поэта-прорицателя «града Инонии»:
Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам.. .(II, 81) И образ дорогого, светлого гостя, томительное ожидание которого является одной из существенных тематических линий в религиозно-философском содержании целого ряда произведений Есенина 1916-1919 годов, подается в «Сорокоусте» с инвективной агрессией, что свидетельствует о произошедшем роковом самообмане героя поэмы и о крушении его личных надежд:
Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце (II, 83). Во многом схожее чувство самообмана, равно как и идея обмана-предательства, усиленное пониманием неотвратимой гибели, высказывается есенинским Пугачевым в самом напряженном по своему эмоционально-экспрессивному выражению финальном монологе одноименного произведения поэта.
Думается, эти же чувства и мысли, воплощенные в словах различных по своим жизненно-философским взглядам и идеологическим убеждениям персонажей поэмы «Страна Негодяев» (1922-1923), служат наиболее полной и вместе с тем неоднозначной характеристикой идейно-тематической направленности есенинской драмы в стихах.
В отношении «Страны Негодяев» в есениноведении давно бытует единодушное мнение о том, что основной проблемой этой поэмы является проблема исторического выбора, который определит будущее России. И в данном плане «Страна Негодяев» Есенина предстает как логическое продолжение «Пугачева», поскольку их, как отмечал в своем исследовании В. Мусатов, объединяет сфера «внутреннего существования - история» .
Однако если в «Пугачеве» идея «крестьянского рая», идущая от «Инонии» и «Ключей Марии», служит, можно сказать, единственной ценностной мерой в художественно-драматическом осмыслении исторического события, то в «Стране Негодяев» сам фокус авторского восприятия еще продолжающихся событий, только намечающих горизонты исторического движения России, уже не имеет столь заданной, четкой идейно-ценностной меры.
Как мы думаем, Есенин в «Стране Негодяев», стремясь осмыслить перипетии «новой» российской истории и дать целостное представление об атмосфере переломных событий, в водовороте которых оказывается он сам, творчески сопрягает в пространстве единого художественного целого ключевые «идеи-голоса» своего времени. Отсюда, с одной стороны и некая схематичность образной системы, и ощущаемая искусственность его авантюрно-приключенческого сюжета, а с другой - объективированная оценка (вернее говоря, попытка оценки) первых итогов революции и ее перспектив. Авторская позиция «растворяется» в полифонии образно-речевой структуры текста, обнаруживая свое «я» - в той или иной степени -фактически в каждом из персонажей драмы. Как уже неоднократно отмечалось и подчеркивалось, многие положения из «идеологических» монологов Чекистова и Рассветова являются основой позитивных программных высказываний Есенина в его «Железном Миргороде»; умонастроения Чарина, сомневающегося в необходимости насильственных методов для утверждения нового государственного строя, да и в самой идее такого государства, отзываются в письмах Есенина периода его пребывания за границей; а финальная «исповедь» Номаха, по сути дела, «соткана» из поэтических строк «кабацких» стихов автора «Страны Негодяев».
Именно поэтому, на наш взгляд, у Есенина в «Стране Негодяев» нет контрастного, остроконфликтного противопоставления ни на уровне воплощенных в поэме идей, ни, естественно, на уровне их персонифицированных носителей. Точка зрения практически каждого из действующих лиц поэмы заключает в себе диалектическое противоречие, являя собой противоречивость и авторского сознания в оценке революционных преобразований страны, и, соответственно, идеи произошедшей революции88.
С.А. Фомичев, оговаривая характерные особенности пушкинского «Бориса Годунова» как исторической драмы нового типа и обобщая при этом многолетний и многоплановый опыт изучения историко-драматического произведения поэта, подчеркивал, что Пушкин в своей пьесе «не только вывел на подмостки сцены множество разнохарактерных типов, дав выразительный социальный срез исторической эпохи и обнаружив во множестве разнонаправленных искренних и корыстных человеческих побуждений концентрацию исторических сил, но и раскрыл высокий этический смысл "мнения народного", обращенный к грядущим поколениям»8 .
В перспективе сказанного нами о поэме «Страна Негодяев» вряд ли будет большой натяжкой утверждение того, что Есенин в своем произведении следует сходному с пушкинским «творческому заданию» в художественно-философском осмыслении эпохального события русской истории, драматически объективируя само это событие. И отсутствие ясно очерченной у Есенина высшей этической инстанции - «мнения народного» -объясняется (и оправдывается) тем, что эмпирическое присутствие автора в изображаемом им событии не позволяет ему дать и, соответственно, оценить окончательный расклад «исторических сил» в эпохальной перестройке национального миропорядка: «Россия, ставшая страной негодяев, - это надо было признать, пережить, осмыслить» .
Вместе с тем, показательно, что в наиболее значимых в идейно-функциональном отношении монологах Чекистова, Рассветова, Чарина, Номаха восприятие происходящих революционных преобразований российской действительности постоянно, причем с различными ценностными акцентами, проецируется на жизнь и судьбу народа. Оппозиция «власть-народ» пушкинского «Борисе Годунове», образно говоря, витает в самой атмосфере, воссоздаваемой Есениным в поэме «Страна Негодяев», не вырастая до открытого конфликтного противостояния и не прорастая в есенинском произведении осознанным позитивным культурно-творческим диалогом с трагедией Пушкина.
Один из конструктивно-смысловых компонентов этой оппозиции, реализующийся в концепте «обман», служит у Пушкина в «Борисе Годунове» катализирующим средством внутренней динамики драматического действия, выявляя этическую подоплеку причинно-следственных связей изображаемых событий.
Пушкинский миф в духовных исканиях Б. Корнилова
В лирике трех последних лет жизни Бориса Корнилова довольно трудно найти даже отголоски былого пафоса революционной романтики. Возврат к прежним темам в лироэпике (поэма «Последний день Кирова», 1935), предпринятый исключительно для того, чтобы отвести от себя обвинения в «политической неблагонадежности», обернулся вполне справедливыми критическими выпадами по поводу, мягко говоря, поэтической неискренности Корнилова.
Новым творческим горизонтом поэта становится, что очевидно из его лирики 1934-1936 годов, осмысление и оценка как собственного пройденного пути, так и всего того, что обрел и что потерял русский мир в размашистой поступи социалистического строительства. Причем именно в стихах той поры зримо проступает сама глубинная суть духовного, кровного начала, связывающего воедино лирического героя Корнилова с родной землей. В таких произведениях, как «Прадед» (1934), «Мама» (1935), «Из автобиографии» (1935), «Сын» (1935), «Изгнание» (1935), нам предстает предельно обостренное чувство родовой памяти художественного «я» поэта как самой болезненной точки жизнетворческого самосознания Бориса Корнилова этих лет.
По верному замечанию Д. Нечаенко, новейшего исследователя творчества нижегородского поэта, в стихотворениях «Прадед» и «Изгнание» «кровное родство с «огромным и рыжим» предком осмыслено не только по семейной линии, это — кровная, смертная связь с судьбой всей уходящей России»103.
Я - последний из вашего рода по ночам проклинаю себя.
Я такой же - с надежной ухваткой
с мутным глазом и с песней большой,
с вашим говором, с вашей повадкой,
с вашей тягостною душой.
«Прадед»104 Следует подчеркнуть, что даже мучительное переживание родства лирического героя с теми, кого «потом поведут под конвоем // через несколько лет в Соловки» в страшную пору публичных отказов детей от своих родителей, объявленных «врагами трудового народа», воспринимается в стихотворении «Прадед» как вызов негласным моральным нормам атеистического государства.
В связи с этим нужно заметить, что эмоционально-образный строй лирики Корнилова 1934-1936 годов, свободный от революционно-пафосного риторизма, содержит в себе и совершенно чуждые для «официальной» советской литературы образные выражения, связанные с темой Бога.
Ходил на праздник я престольный,
гармонь одев через плечо,
с такою песней непристойной,
что богу было горячо.
{«Елка», 1934)105
Прадед Яков... Под утро сегодня
здесь, под озером, Керженца близ,
непорочная сила господня
и нечистая сила сошлись.
(«Прадед»)106 Поэтические обороты подобного рода, являясь органичной частью художественной ткани произведений, актуализируют покаянный характер лирики Корнилова, стремление автора передать в художественном слове едва ли не космогоническую сущность тех явлений, в которые волею судьбы вовлечен его лирический герой.
Столкновение прошлого и настоящего, отзывающееся болезненной рефлексией поэтического «я», становится для Корнилова художественно-философской доминантой в его творчестве 1934-1936 годов И здесь наиболее ярко выделяется довольно часто цитируемое, правда, совершенно по другому поводу, стихотворение «Елка», в котором звучит горькая исповедь авторского «я», мучительно переживающего свое наказание временем за то, что
.. .пророс огнем и злобой,
посыпан пеплом и золой, широколобый,
низколобый,
набитый песней и хулой.
.. . Меня ни разу не встречали
заботой друга и жены так без тоски и без печали
уйду из этой тишины.
Уйду из этой жизни прошлой,
веселой злобы не тая и в землю втоптана подошвой как елка - молодость моя 07. Покаянное чувство, которое отчетливо слышится в лирике Корнилова этих лет, сродни есенинской экспрессии периода «Москвы кабацкой». На таком переломе настроения и мироощущения Бориса Корнилова, подобно тому, как это происходит и в поэтической судьбе Есенина, и входит в его творческий мир Пушкин. По мнению Л. Аннинского, «мимолетным озарением прошли пушкинские мотивы в "Тезисах романа" и отступили, чтобы несколько лет спустя возникнуть вновь: сначала деталью в фантастической симфонии "Моей Африки", а затем предметом напряженного и последнего раздумья о жизни»108. Эта точка зрения на эволюцию художественного сознания нижегородского поэта в ее культурно-творческой взаимосвязи с именем Пушкина нуждается, на наш взгляд, в небольшом, но весьма важном уточнении.
В ряде лирических произведений, написанных Корниловым в «промежутке» между поэмой «Моя Африка» (1934) и пушкинским циклом, вполне ощутимы литературные ассоциации, восходящие к Пушкину. Так, в стихотворении «Спичка отгорела и погасла...» (1935) переживание, вызванное разлукой с любимым человеком, перерастает в элегическое размышление лирического «я» поэта о необратимости времени. Выпавший двум людям случай стать истинными распорядителями собственной судьбы, приручить капризное счастье, а значит, и обрести внутреннюю независимость от сметающего все на своем пути времени - упущен. Потому и происходит, образно говоря, в художественном сознании произведения высвобождение чистой и творящей свою реальность энергии времени, делающей по отношению к ней и вторичной, и зависимой реальность человеческого «я»: «Унесет она (река. - СП.) // И укачает, // И у ней ни ярости, ни зла, II А, впадая в океан, не чает, // Что меня с собою унесла».
На наш взгляд, такое осмысление времени у Б. Корнилова восходит к пушкинскому стихотворению «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», точнее, к строкам из его первой строфы: «Летят за днями дни, и каждый час уносит // Частичку бытия...». Здесь, как это убедительно доказывает Е. Григорьева в статье, посвященной проблеме завершенности стихотворения «Пора, мой друг, пора...», «движение приобретает осязаемый характер», обеспечивая «восприятие "времени" не как некой абстракции, но как предельно конкретной, физически ощутимой реальности»109. У Корнилова в потаенных глубинах авторского «я», чуть заметно проступая в эмоционально-образной структуре текста, зреет подлинно пушкинская тоска человека, устремленного во вневременное бытие, поэтическое видение которого и явлено во второй строфе пушкинского стихотворения «Пора, мой друг, пора...».
В произведении «Ночные рассуждения», датированном 1936 годом, несмотря на иронический тон лирического повествования, отчетливо просматриваются пушкинские интонации «Стихов, сочиненных во время бессонницы». Будто бы случайно рождающаяся в тексте «Ночных рассуждений» оппозиция «гусиное перо - «Паркер»», имеющая поначалу сугубо бытовое звучание, дает импульс новому лирическому движению в стихотворении, связанному с вечной тайной творческого вдохновения, стремлением поэта за внешними, ничем не примечательными покровами действительности разглядеть высший смысл и порядок всего мироздания.
Пушкинские «отражения» в последней поэме Есенина
По справедливому утверждению В.А. Котельникова, в христианско-аскетической мысли одним из устойчивых в своем словесном воплощении образов, дающих ясное и трезвое представление о покаянно осознаваемом человеком пройденном земном пути, является образ «рукописания жизни своей, какое пишем своими руками» (Исаак Сирин), «рукописание грехов» (Ефрем Сирин), «рукописание согрешений» (Петр Дамаскин) . Этот образ в православной аскетике служит значимым конструктивным элементом в рассуждениях о памяти смертной . Этим образом задается тот предел в самопознании духовного содержания «внутреннего человека», когда беспристрастная оценка «рукописания жизни» становится просто неизбежной.
Таким «рукописанием» в последней поэме Есенина является не «мерзкая книга» «прескверного гостя», а весь текст произведения. И в этом отношении логико-семантическая композиция «Черного человека» предстает, на наш взгляд, как зеркальное отражение построения поэтического высказывания в стихотворении А.С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»).
Так же, как и для лирического «я» Пушкина, для автора «Черного человека» «в часы томительного бдения» «воспоминание... свой длинный развивает свиток», порождая «отвращение» в чтении собственной жизни. Если это «воспоминание» у Пушкина «безмолвно» и лежит в сфере единого субъектного начала текста, то у Есенина оно «звучно» и в форме остродраматического противостояния «расподоблено» на два голоса, образует единый дискурс авторского сознания в отстраненно воспринимаемой смысловой целостности всего текста поэмы154. Эта отстраненность подчеркивается и в напутствии к Чагину, читателю поэмы («Прочти и подумай, за что мы боремся, ложась в постели?..»), словно возвращая атеистическому сознанию нового времени, и прежде всего самому автору поэмы, в качестве главного нравственного закона, не сводимого только к духовному опыту есенинского «я», хотя и выстраиваемому на нем, христианское памятование о последнем часе каждого из смертных, о подлинном и ложном в его жизнестроении, о высочайшей ответственности за слово, жест, поступок...155
Пушкинское «Воспоминание», где, по определению В.А. Котельникова, «богословствует язык поэзии» , открывает в творческом мире автора этой элегии одну из самых значимых по своему идейно-художественному звучанию тематических линий, в которой сферы духовного и эстетического поисков поэта предстают в органичном единстве смысла и их формовыражения. И это единство как внутренне напряженная поэтическая стихия позволяет в полной мере ощутить, как рождается в авторском сознании элегии мотив и сам образ памяти смертной, что станет затем доминирующим в лирике Пушкина .
B.C. Непомнящий, на наш взгляд, очень точно подметил, что в «Воспоминании» явлены «исповедь без надежды, покаяние без молитвы об очищении, слезы без облегчения»158. Здесь, если продолжить логику наблюдения ученого, запечатлено духовное распутье поэта, в котором, однако, обретается высший смысл христианского призвания человека и творческий дар не используется «как щит, за которым можно спрятаться от укоров совести». Пушкин «вовсе не упоминает, что он поэт, и судит себя как ничтожнейшего меж детей ничтожных мира. Этот суд беспощадный, бескомпромиссный...» .
Идея беспощадного, бескомпромиссного суда над самим собой, что ведет герой поэмы, не раз оговаривалась и освещалась в работах о «Черном человеке» Есенина. Но здесь в связи с вышесказанным необходимо сделать два принципиальных уточнения. Во-первых, сама идея суда в поэме возможна лишь при четком уяснении существующей в тексте парадигмы «автор» - «герой», причем выходящей за рамки поэмы и распространяющейся, по крайней мере, на творчество Есенина 20-х годов. Во-вторых, беспощадный, бескомпромиссный суд в данном случае захватывает не только в отдельности взятые сферы жизни и творчества героя-поэта, но «жизнь-и-творчество» автора как целостность его присутствия в мире. Не случайно, что в первой части язвительной повести «прескверного гостя» о жизни «скандального поэта» искусство предстает как «охранная грамота», оберегающая человека от мук совести. Поэзия и искусство в целом существует в сознании героя пока по особому праву, где высшим судьей может быть только он сам. Но стоит ночному гостю, подчеркнем, еще одному авторскому «я» произведения, выйти за пределы, скажем так, поэтической биографии в своем рассказе о «скандальном поэте», или, точнее, наглядно представить искусство как творчество жизни с ее светлым началом - «мальчик... желтоволосый с голубыми глазами» и мрачным концом «прохвост», «забулдыга», «прохвост», и происходит бунт героя. И его безмолвие, вызванное страшной разгадкой произошедшего в финале поэмы у разбитого тростью зеркала, в авторском сознании текста отзывается другим страхом, страхом «позднего» пушкинского героя - «странника»: «Я осужден на смерть и позван в суд загробный - // И вот о чем крушусь: к суду я не готов, // И смерть меня страшит» (Пушкин, Ш/1, 392-393).
Если же оставаться в пределах «классической» для есениноведения творческой параллели «Моцарт и Сальери» - «Черный человек», то здесь нам видится явно недостаточным сферу сравнительного изучения этих произведений сводить только к трем локальным планам: идентичности в именовании мистических персонажей; сходству в композиционном построении , актуализации «моцартианской формулы» («Гений и злодейство - две вещи несовместные») в нравственно-философской проблематике есенинской поэмы.
Именно эти направления и характерны для современного состояния научного изучения проблемы пушкинского влияния на поэму Есенина «Черный человек»160.
Нельзя не отметить и то, что в работах подобного толка исподволь обнаруживается стремление исследователей «усилить» творческую интуицию Есенина-поэта мышлением ученого-филолога, почти сознательно выстраивающего в своем тексте сложную систему аллюзий и кодов, что основана на близкой к академической интерпретации трагедии Пушкина.
По всей видимости, поводом к столь тонким по своей исследовательской технике научным построениям во многом послужило известное высказывание С.А. Толстой-Есениной о том, что поэт неоднократно говорил о влиянии на его «Черного человека» пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери» (III, 696).
На наш взгляд, все-таки не совсем корректно есенинское слово «влияние», которым поэт определяет степень творческой близости своего «Черного человека» к пушкинскому «Моцарту и Сальери», воспринимать и в дальнейшем использовать как сугубо литературоведческую категорию, до сих пор, кстати, не имеющую четкой научной дефиниции. Нам представляется, что к данной проблеме необходимо подходить, принимая в расчет тот смысл, что адекватен творческому сознанию Есенина в его собственном понимании слова «влияние». Так, например, Есенин в своей «Анкете о Пушкине» (1924) категорически утверждал: «Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было». Совершенно очевидно, что слово «влияние» в данном случае не подчиняется логике какого бы то ни было существующего понятийного определения. Здесь само явление «пушкинского влияния» обретает у Есенина статус мифологемы, поскольку заключает в себе все существо пушкинского творчества в его целостности и многомерности, не ставшее неким сакральным энергетическим началом («Нельзя указать ни на одного поэта кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным»), прежде всего, для русской поэзии XX века. А потому, по Есенину, и «постичь Пушкина - это уже нужно иметь талант» (V, 225).
В объяснении логики есенинского императива «Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было» возможны и другие подходы. Во-первых, здесь нельзя не учитывать то, что утверждение Есенина имеет явно выраженную полемическую направленность по отношению к известному и не менее категоричному высказыванию В.Г. Белинского о Пушкине: «Ни один поэт не имел на русскую литературу такого многостороннего, сильного и плодотворного влияния» . Есенинское отрицание, возможно, обращенное к Белинскому, а через него и к «классическому типу культурного сознания» (Р. Барт), на наш взгляд, не отрицает самой оценки критика XIX века. Скорее всего, своим пассажем Есенин указывает на до сих пор не разгаданную русской литературой теургическую сущность Пушкина. Мифологическая абсолютизация Пушкина как идеального поэта, открыто проступающая у первых символистов (В. Соловьев, Д. Мережковский), объясняет и позицию Есенина, отраженную в «Анкете», по отношению к «отроческим стихам Пушкина»: «...их нужно просмотреть и некоторые выкинуть». Во-вторых, нельзя, конечно же, исключать и того, что Есенин своим резким заявлением пытается осознанно указать на априорно преувеличенный «масштаб» пушкинского влияния на русскую поэзию.
Кстати говоря, такая позиция продуманно и вполне доказательно присутствует в «Четвертой Вологде» В. Шаламова: «Если бы не было Пушкина, русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского -стояла бы на своем месте... ... В допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам» . В перспективе такого взгляда есенинское «осознание стиля словесной походки» Пушкина - это путь к постижению «пушкинского света» (В. Шаламов), затмившего творческое дарование «допушкинских поэтов», равно как и современников Пушкина. Но в итоге этот путь также упрямо ведет к жизнетворческой мифологизации Пушкина.
В плане интересующей нас проблемы весьма показательна и история создания стихотворения «Слушай, поганое сердце...» (1916), автограф которого содержит следующую приписку, выполненную рукой поэта: «"Прим. Влияние "Сомнения" Глинки и рисунка "Нерон, поджигающий Рим"» (IV, 386).