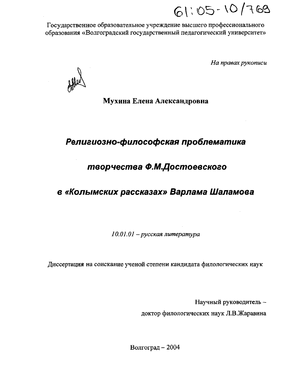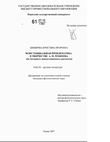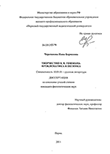Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Духовная брань» и её художественное воплощение в творчестве Ф.М.Достоевского и В.Т.Шаламова: линии сопряжения
1.1. «Записки из Мертвого дома» как предтеча «Колымских рассказов» 15
1.2. «Как это началось», или Мотив «ложной вести» 36
1.3. Бог в колымском аду: теодицея Достоевского и апофатика Варлама Шаламова 55
1.5. Архетип Тьмы как прорыв к Воскресению 71
Глава II. Апокалиптические мотивы и образы в прозе Ф.М.Достоевского и В.Т.Шаламова .
2.1. Апокалиптика по Достоевскому и «Откровение» Варлама Шаламова: поиски «новых путей» богопознания 86
2.2. Образы-символы «Откровении» св. Иоанна в произведениях Достоевского и Шаламова 110
2.3. Человек и среда: персонажи Достоевского в контексте колымской прозы 135
Глава III. Иов-ситуация в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» и «Колымских рассказах» В.Т.Шаламова .
3.1. Эксперимент сатаны, или Кому дано право на проверку человеческой природы 149
3.2. Испытания шаламовского Иова и тема страдания в романе Достоевского 169
3.3. Проблема бессмертия в «Колымских рассказах»: через Достоевского к Ветхому Завету 180
3.4. Субъектно-объектная организация текста как форма воплощения идеи всеобщей греховности у Достоевского и Шаламова. 189
Заключение 203
Список литературы 210
- «Записки из Мертвого дома» как предтеча «Колымских рассказов»
- Бог в колымском аду: теодицея Достоевского и апофатика Варлама Шаламова
- Апокалиптика по Достоевскому и «Откровение» Варлама Шаламова: поиски «новых путей» богопознания
- Эксперимент сатаны, или Кому дано право на проверку человеческой природы
Введение к работе
Варлам Шаламов главную задачу своего творчества определял как борьбу с литературными влияниями (Шаламов В., 2004; 838). «В «Колымских рассказах», - писал автор «новой прозы», - я уже не болел никакой подражательностью по двум причинам - во-первых, я был натренирован на любой чужой тон, который зазвенел бы как предупреждающий сигнал опасности при появлении в моем рассказе чего-то чужого. Такая простая философия. А во-вторых, и самых главных, - я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. [...] мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей - если я мог предъявить и предъявлял собственный литературный паспорт» (Шаламов В., 2004; 838-839). Используя писательскую метафору, следует уточнить, что в «паспорте», свидетельствующем о творческом совершеннолетии, «родители» не указываются. Однако в литературе все имеет свое начало и продолжение.
Законы художественной преемственности универсальны, и, конечно же, они распространялись на создателя лагерной эпопеи, решительно и, скорее, декларативно отринувшего классические авторитеты: «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики - ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить. От их наследия новая проза отказывается» (Шаламов В. // Вопросы литературы, 1989, № 5; 243). Самопризнания Шаламова стали основаниями для выводов об обособленности «Колымских рассказов» от национального литературного процесса. На отсутствие каких бы то ни было преемственных связей указывает Л.Тимофеев, полагая, что лагерная проза «действительно нова и принципиально не похожа на все, что было в мировой литературе до сих пор» (Тимофеев Л., 1991; 182). Менее категоричен Д.Лекух в своих суждениях об отношении писателя к традиции: «Прежде всего можно заметить, что лагерная проза не имеет корней в классической русской литературе. Конечно, были и Достоевский, и Толстой, и Лесков, и Чехов, и Короленко, но это совсем другое. Не только другая «каторга», но и другая проблематика» (Лекух Д., 1991; 10). Данное суждение не вполне справедливо, т.к. круг шаламовских вопросов, обозначенный исследователем, в определенной степени был известен в XIX веке.
У.Харт включает «новую прозу» в литературный процесс, но разрушает собственную логику, опираясь на противоречащее его собственной гипотезе авторское высказывание: «"Колымские рассказы" выходят за пределы лагерной темы. Они должны быть прочитаны на фоне двухсотлетней истории русской литературы - и не иначе. Они отражают, лучше, чем любые другие произведения, судьбу русской литературы, судьбу России в этом вероломном неистовом веке. Недаром Шаламов называл свои рассказы «новой прозой» -он имел в виду невозможность описывать пережитое в духе и стиле старых традиций» (Харт У., 1994; 239).
Более последовательной и целесообразной выглядит позиция АЛатыниной, считающей, что «писатель, мемуарист, рассказчик в большинстве своем ставит вопросы, которые можно отнести к категории вечных, но специфический материал XX века внес в них свои оттенки» (Латынина А., 1988; 4). Сходной точки зрения придерживаются другие литературоведы и современники Варлама Шаламова: Г.Померанц (Померанц Г., 1994; 3), Г.Трифонов (Трифонов Г., 1987; 141), Е.Шкловский (Шкловский Е., 1991; 30), Е.Волкова (Волкова Е. // Вопросы философии, 1996, №11; 46-47) и др.
Однако одни исследователи, обнаруживая в колымской прозе нити преемственности, обрывают их на архитектуальности, т.е. на жанровых параллелях. КЛейдерман, например, выделяет «память форм классической словесности» (Лейдерман Н., 1992; 181) без указания на конкретные художественные модели, предшествовавшие шаламовским «сплавам». Другие акцентируют внимание на конкретных смысловых связях с произведениями, созданными немногим раньше лагерной эпопеи или одновременно с ней. В частности, Е.Волкова, объединяя новеллу «Марсель Пруст», рассказы «Берды Он- же» и «Прокуратор Иудеи» по признаку сходства заглавий, т.е. на уровне па-ратекстуалъности, сопоставляет их с «ближними мирами» культуры (Волкова Е. // Вопросы философии, 1996, № 11; 48). Компаративизм в подобных случаях более заявлен, чем реализован.
Существует и иное направление в изучении художественной преемственности - в аспекте интертекстуальных схождений шаламовских произведений с классическими текстами. В.Есипов в отказе писателя от проповедничества и морализаторства, в лаконичности стиля видит «открыто заявленную приверженность пушкинской традиции» (Есипов В. // Свободная мысль, 1994, № 4; 42). С ним солидарны Ю.Шрейдер (Шрейдер Ю., 1988; 65) и ЛЖаравина (Жаравина Л.В., 2003; 170-188). И.Сиротинская свидетельствует о более широком спектре шаламовских пристрастий: «В русской прозе превыше всех считал он Гоголя и Достоевского. В поэзии ближе всего была ему линия философской лирики Баратынского - Тютчева - Пастернака» (Сиро-тинская И., 1994; 125). Г.Трифонов обнаруживает иные сближения: «Шала-мову всегда была близка проза именно поэтов - Пушкина и Лермонтова, в позднейшее время - Мандельштама и Пастернака» (Трифонов Г., 1987; 141). Э.Мекш сопоставляет варианты мифологического архетипа в рассказах Вар-лама Шаламова «Утка» и Всеволода Иванова «Полынья» (Мекш Э.Б., 2002; 226).
Но, конечно, наиболее остро стоит вопрос об отношении автора лагерной прозы к творчеству Ф.М.Достоевского, первооткрывателя «каторжной» темы в русской литературе. О возможности сравнения «Колымских рассказов» с «буколическим писателем» упоминает Е.Сидоров (Сидоров Е., 1994; 170). В.Френкель воспроизводит часть мысленного диалога с автором «Записок из Мертвого дома»: «... Шаламов ставит вопрос: пусть (как и Достоевский полагал) страдание очищает, но непомерное страдание не ломает ли человека? Можно ли остаться человеком в лагерном аду? У Достоевского ответ — антиномия: нельзя, но можно и должно. Для Шаламова же антиномии нет. Он убежден, что эта глубина ада, из которой чудом вышел он сам, уже есть окончательная и безусловная гибель,..» (Френкель В., 1990; 80).
И все же преемственность шаламовских произведений по отношению к наследию Достоевского до настоящего времени так и не стала предметом многогранного научного рассмотрения. Литературоведческой проблемой остается характер сопряжения с художественным опытом классика. Н.Лейдерман считает, что в «новой прозе» «только Достоевскому делается снисхождение - прежде всего за понимание шигалевщины». «Но ни с кем из русских классиков, - продолжает исследователь, - Шаламов не полемизирует так часто на страницах «Колымских рассказов», как с Достоевским» (Лей-дерман Н,, 1992; 172). «Напряженную, неизбежно субъективную дискусси-онность» с творчеством писателя, не участвовавшего, по мнению создателя «Колымских рассказов», в подготовке «крови, пролитой в XX веке», отмечает В.Туниманов (Туниманов В.А., 1993; 61). По существу, такая позиция не оставляет места не только прямому, но и косвенному диалогу между художниками.
Е.Волкова говорит о великой признательности Шаламова Достоевскому, хотя и улавливает в высказываниях автора «новой прозы» элементы «мягкой иронии» и скепсиса. На примере рассказа «Термометр Гришки Логуна» исследователь отмечает, как «ценностно-эстетическая тональность изменяется, появляются нотки иронии, но всё-таки, скорее, по отношению к «прогрессу» в порабощении человека, чем к Достоевскому как личности и писателю» (Волкова Е.В. // Вопросы философии, 1996, №11; 56).
Таким образом, неразработанность обозначенной общей проблемы «Шаламов и традиции русской классики», а также отсутствие единого научного подхода в рассмотрении более конкретного вопроса - отношение автора «Колымских рассказов» к наследию Ф.М.Достоевского - определяют актуальность предлагаемого исследования.
Необходимость изучения шаламовской прозы в контексте творчества Достоевского обусловлена рядом причин. «Произведение появляется в известное время, в известном месте, в том или ином отношении с литературной или культурной традицией, - считает В.Ветловская. - Попытки понять произведение изнутри, вне исторического и культурного контекста (такие попытки, как известно, предпринимались преимущественно поклонниками структурализма), не отвечают природе исследуемого объекта и потому обречены на неудачу» (Ветловская В., 1993; 102). Из представленного выше анализа исследовательских работ следует, что стремления осмыслить лагерную прозу компаративным методом возникали, однако в большинстве случаев статьи литературоведов содержат множество культурных «отсылок», напоминая манеру самого писателя.
Мы считаем, что подобное положение во многом определено не вполне реализованными попытками современных литературоведов дифференцированно подойти к самому понятию «литературная традиция», к выявлению её различных формы и уровней.
Наибольшее распространение получила теория интертекстуальности, изложенная в работах ЮХристевой, Т.Нельсона, Д.Энгельгардта, М.Пфистера, Ж.Женетту и др. Под интертекстом понимают произведение, которое, «порождая конструкции «текст в тексте» и «текст о тексте», создает подобие тропеических отношений на уровне текста» (Фатеева Н.А., 2000; 37). Следовательно, интертекстуалъность лишь «позволяет видеть «метафору» там, где происходит сближение явленного в тексте фрагмента и фрагмента другого текста, не представленного читателю физически» (Фатеева Н.А., 2000; 37). На наш взгляд, интертекстуальность - это диалог, или полилог конкретных литературных текстов, в то время как понятие традиция включает в себя духовное родство писателей, выразившееся в особенностях художественного видения мира.
Несмотря на признания Шаламова в том, что он «почти незнаком с литературной терминологией» (Шаламов В., 2004; 408), именно такое понимание традиции писатель выразил аллегорически в рассказе «По снегу»: «По проложенному узкому и неверному следу двигаются пять-шесть человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не в след. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать то место, куда ещё не ступала нога человека. Дорога пробита. По ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. [...] Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели» [Шаламов В/Г., 1998, Т. 1; 7. Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы]. Иносказательность отрывка автор объяснил в воспоминаниях: «По тем дорогам, по которым прошел большой поэт - уже нельзя ходить. Что стихи рождаются от жизни, а не от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я видел так, как Пушкин, - я и писал бы как Пушкин» (Шаламов В., 2004; 64).
Помимо указанных категориальных обозначений представляется целесообразным использовать также термины архитгкстуалъность как указатель на жанровую связь текстов и паратекстуальпость как отношение художественного текста к своему заглавию, послесловию, эпиграфу, введенные Ж.Женетту для классификации типов взаимодействия текстов (Genette G. 1982; 18).
Рудименты классических форм в прозе Варлама Шаламова, на наш взгляд, в первую очередь следует включить в духовное пространство Ф.М.Достоевского, несмотря на множество «саморастождествлений» писателя с идейной установкой «Записок из Мертвого дома». Автор «Колымских рассказов» так рассуждал о философско-эстетической значимости своей книги: «Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра - ибо в этической ценности вижу я единственно подлинный критерий искусства» (Шаламов В., 2004; 145-146), Но и данное размышление пол- ного сомнениями писателя не опровергает выдвинутую нами гипотезу. Тем более что, как вспоминает И.Сиротинская, мнения Шаламова «о себе были столь же противоположны, сколько противоположностей заключал его характер» (Сиротинская И., 1994; 141).
Видение мира формируется, конечно же, жизненным опытом писателя. «Для того чтобы быть наследником Достоевского, надо иметь сходную судьбу», - писал Варлам Шаламов, сопоставляя классика с Сергеем Есениным (Шаламов В,, 2004; 320). И действительно, можно отчасти утверждать, что сходные испытания выпали на долю автора «Колымских рассказов» и Ф.М.Достоевского. Сам Шаламов, упростив задачу биографов, провел эту параллель; «Я такой же суеверный человек, как Достоевский, и придаю большое значение совпадению наших судеб, дат. Достоевский отбыл 4 года в Омской каторжной тюрьме с 1849 по 1853 год и 6 лет рядовым в семипалатинском батальоне. Достоевский был в Западной Сибири, в Омске, я - в Восточной, на Колыме. Я приехал отбывать пятилетний срок на Колыму в августе 37-го года, а получил новый - 10 лет - в 1943 году и освободился по зачетам рабочих дней в октябре 1951 года. На большую землю выехал года через два, в ноябре 1953 года. До реабилитации жил в Тверской губернии, до октября 1956 года. Биография обязывает» (Шаламов В., 1997; 12).
Совпадение судеб и выстраданных выводов породило литературное сближение автора «новой прозы» с классиком, ибо «... усвоение традиций есть результат как субъективных намерений писателя, так и объективных воздействий, оказываемых на него окружающей действительностью» (Бушмин А.С., 1975; 132). Тем более что и «субъективное намерение» Шаламова не противоречило «объективному» сходству с биографией предшественника. В декабре 1953 года автор «Колымских рассказов» писал Б.Л.Пастернаку: «Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образцом писателя, как такового, более совершенным, чем Толстой, хотя, может быть, и не таким великим, всеобъемлющим» (Шаламов В., 2004; 420). В письме А.Кременскому Варлам Шаламов подверг критике
Нобелевский комитет, присудивший премии в области литературы представителям «антидостоевского» начала: «Поразительно, что никто из четырех даже близко не стоит к Достоевскому ~ единственному русскому писателю, шагнувшему в 20-й век, предсказавшему его проблемы» (Шаламов В., 2004; 920).
В результате объектом нашего исследования стал многоаспектный диалог Шаламова с Достоевским, восходящий к проблемам историко-литературного и философско-религиозного плана, что позволяет включить лагерную прозу в мировой контекст культуры.
Предмет рассмотрения - эстетика и поэтика «Колымских рассказов» в художественно-исторической парадигме «Священное Писание - Достоевский -Шаламов». Сравнительный анализ осуществляется на основе сопоставления архаических мотивов, образов, композиционных приемов, имеющих сходство и различие в рассматриваемых произведениях. Контрастные связи также входят в поле нашего внимания, что обусловлено объективной природой явления. В данном случае художественная преемственность состоит не только в полноте сходства последующего с предыдущим, но и в их различии, нередко принципиальном.
Материалом исследования выступают художественное творчество Ф.М.Достоевского как целостное явление («Записки из Мертвого дома», романы «Пятикнижия»), «Колымские рассказы» В.Т.Шаламова и тексты Священного Писания - от «Книги Бытия» до «Откровения св. Иоанна Богослова», - наложившие отпечаток на мировоззрение авторов.
Цель предлагаемой диссертации - раскрыть пути прочтения текстов Вар-лама Шаламова как основателя «новой» прозы второй половины XX века сквозь призму религиозно-философской проблематики творчества Ф.М.Достоевского.
Для достижения поставленной цели намечены следующие задачи:
Определить характер преемственных связей «Колымских рассказов» с наследием Достоевского, выделяя контактные, контрастные и конфликтные отношения между авторскими мирами.
Обосновать генетическое родство лагерной прозы В.Т.Шаламова с «Записками из Мертвого дома».
Раскрыть архетипическую апофатику шаламовской прозы в интертекстуальной связи с художественной теодицеей Достоевского.
4. Показать трансформацию библейских мотивов и образов, пронизываю щих как творчество Достоевского, так и «Колымские рассказы». Теоретической основой диссертационного исследования послужили тру ды литературоведов и культурологов по теории интертекстуальности (Ю.Кристева, Ю.Лотман, Н.Фатеева, У.Эко). Проблема соотношения тради ции и новаторства представлена с опорой на работы А.Бушмина, Д.Благого, В.Ветловской, А.Дима. Методологически ценными в аспекте нащей пробле мы явились разыскания в области мифопоэтики Я.Голосовкера, М.Евзлина, Е.Мелетинского, С.Телегина, В.Топорова. Сопоставительный анализ художе ственных миров основан на концептуальных суждениях и наблюдениях ис следователей творчества Ф.М.Достоевского (М.Бахтин, А.Буланов, И.Волгин, Г.Гачев, В.Захаров, Б.Кондратьев, Б.Тарасов, Г.Фридлендер и др.), и В.Т.Шаламова (Е.Волкова, В.Есипов, Л.Жаравина, В.Компанеец, Н.Лейдерман, Е.МихаЙлик, И.Некрасова, И.Сиротинская, Л.Тимофеев, Е.Шкловский и др.).
Методология работы обусловлена историко-типологическим подходом, заключающемся в изучении творчества Шаламова в аспекте литературной традиции. В диссертации использованы сравнительно-типологический метод и сравнительно-сопоставительный методы, основанные на поиске «инвариантов» в произведениях разных авторов и позволяющие рассматривать лагерную прозу Варлама Шаламова как новую интерпретацию «вечных» текстов. Данное направление потребовало также активного применения методов мотивного и мифопоэтического анализа.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые предпринята попытка целостного рассмотрения традиции Ф.М.Достоевского в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова, включающего, помимо прочих, религиозно-мифологический аспект; в диссертации обосновывается генезис «новой прозы», выстраивается антропологическая парадигма «Колымских рассказов». Подобный подход, совмещающий «формальную» и «идейно-смысловую» стороны явления, создает целостность и системность сравнительного анализа.
Теоретическая новизна состоит в реализации на конкретном художественном материале многоаспектного и дифференцированного подхода к понятиям: художественная традиция, литературное влияние, интертекстуальность, архитекстуальность, паратекстуальность, что позволяет в итоге создать единую картину диалога-спора писателей двух столетий.
Практическая значимость выполненной диссертации заключается в том, что её основные положения и материалы могут применяться в лекционных курсах по истории русской литературы, при разработке спецкурсов и спецсеминаров, посвященных творчеству Ф.М.Достоевского и В.Т.Шаламова, а также особенностям функционирования мифопоэтических текстов в отечественной культуре.
Апробация работы осуществлялась на V и VII региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области (Волгоградский государственный педагогический университет; 2000, 2002), на Международной научной конференции «Антропоцентрическая парадигма в филологии» (Ставропольский государственный университет, 2003), на II и III Международной конференции «Русское литературоведение в новом тысячелетии» (Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова; 2003, 2004), на региональной научной конференции «Художественно-историческая интеграция литературного процесса» (Адыгейский государственный университет, 2003), на Международной научно-практической конференции «Обучение иностранцев на современном этапе: проблемы и пер- спективы» (Волгоградский государственный технический университет, 2003), на конференции «Актуальные проблемы современной филологии» (Волгоградский социально-педагогический колледж, 2001), на Международной научной конференции «История языкознания, литературоведения и журналистики как основа современного филологического знания» (Ростовский государственный университет, 2003). Основные положения работы представлены в 9 публикациях, составляющих 1,9 п.л.
Структура и объем работы. Диссертация общим объемом 235 страниц состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, который содержит 303 наименования.
На защиту выносятся следующие положения;
Ведущие принципы «новой прозы» Варлама Шаламова восходят к «Запискам из Мертвого дома» Ф.М.Достоевского. В «Колымских рассказах» актуализируются форма и сюжеты одной из первых книг о «русском остроге», что обусловлено частичным сходством писательских судеб, общностью художественного объекта и некоторых мировоззренческих установок.
Преемственность шаламовской прозы с наследием Ф.М.Достоевского первоначально носит характер контактно-психологических связей. Контрастное отношение к творчеству классика возникает на уровне изображаемого материала: лагерь не сопоставим с «каторжным» миром по степени антигуманизма. В силу этого общий для писателей отрицательно-скептический подход к плоско-оптимистическим антропологическим теориям может принимать в «Колымских рассказах» форму конфликтной оппозиционности.
Гуманистическая направленность творчества Шаламова определяется законами мифопоэтики, ранее «оживленными» в романах Достоевского. Мифологический архетип светопорождающей тьмы лежит в основе мотива духовного воскресения героев, осуществленного автором «Колымских рассказов» в аспекте классической традиционности.
В парадигме «"Апокалипсис" - Достоевский - Шаламов» евангельская история воскресения выступает общим источником художественных «вариантов» «Откровения», представленных в произведениях писателей. Отступления Достоевского от канонического текста оказались наиболее приемлемыми для отражения апокалиптических реалий и в лагерной прозе Варлама Шаламова (сближение с фотографическим жанром, ахроматизм художественного мира, акцентное значение мотива нравственного холода, архетип войны как «небратского» состояния человечества и др.) «Иов-ситуация», преломленная в «новой прозе» через творчество Достоевского, ведет к снятию оппозиции «искуситель - санкционер». Пространственный образ «каменной могилы», подменивший образ дома, темы сиротства, обманутого ожидания Страшного Суда - все эти мотивы, привнесенные Достоевским в литературу, нашли свое отражение в «Колымских рассказах». Повествование Варлама Шаламова воспроизводит множество судеб в «свете единого авторского сознания» (М.Бахтин), но с явными элементами полифонизма, что соотносится с субъектно-объектной организацией произведений Достоевского.
«Записки из Мертвого дома» как предтеча «Колымских рассказов»
«Записки из Мертвого дома» Ф.М.Достоевского в XIX в. стали новым словом о «русском остроге». Критика оценила документальную, фактографическую сторону книги. Тем не менее, автор огорчался, когда видел, что «Записки из Мертвого дома» интерпретируются лишь в контексте литературы о тюрьме и каторге. С тревогой писал он в 1876 году: «В критике «Записки из Мертвого дома» значит, что Достоевский обличал остроги, но теперь оно устарело. Так говорят в книжном магазине, предлагая другое, ближайшее, обличение острогов» (Литературное наследство: Т. 83, 1971; 605). Только немногими было понято истинное значение произведения.
А.Битов назвал Достоевского «первооткрывателем как материала, так и формы». Писатель полагает, что книга проложила «путь целой литературе о каторге, на каторжную тему» (Битов А., 1987; 223), т.к., по его мнению, «в последующих описаниях тюрем и концлагерей - от появления новичка в бараке, через опыт наказаний или трудовых процессов, до побега или освобождения - мы всегда узнаем предшествие Достоевского» (Битов А., 1987; 223). Насколько это утверждение справедливо в отношении «Колымских рассказов», предстоит выяснить.
«Давним моим желанием, - вспоминал Варлам Шаламов, - было написать комментарий к «Запискам из Мертвого дома». Я эту книжку держал в руках, читал и думал над ней летом 1949 года, работая фельдшером на лесной командировке. Дал я себе тогда и неосторожное обещание разоблачить, если можно так сказать, наивность «Записок из Мертвого дома», всю их литературность, всю их устарелость» (Шаламов В., 1997; 12). Результаты предпринятых попыток по развенчанию «каторжного» авторитета Достоевского лег ко обнаруживаются в текстах «Колымских рассказов» («Татарский мулла и чистый воздух», «В бане», «Красный крест» и др.).
Между тем, несмотря на отмеченную Шаламовым «литературщину» «Записок из Мертвого дома», форма книги о каторге оказалась актуальной в XX столетии. «Современные писатели, - как полагает Ю.И.Селезнев, - все более тяготеют к таким синтетическим жанрам, которые позволяли бы слить «невымышленную» правду жизни с глубочайшими обобщениями, соединить документальность и художественность в единое органическое целое» (Селезнев Ю.И., 1975; 116). Одним из таких писателей, вслед за Достоевским, обратившимся к теме человека в условиях несвободы, стал Варлам Шаламов, который не мог не учитывать литературного опыта предшественника. В письме к О.Н.Михайлову автор «Колымских рассказов» высказал ту же мысль, что и Ю.И.Селезнев: «Сближение документа с художественной тканью - вот путь русской прозы XX века - века Хиросимы и концлагерей, всех войн и революций» (Михайлов О.Н. // Российские вести, 1993, № 216; 2).
В критической литературе жанр «Записок из Мертвого дома» понимается неоднозначно, В.Б.Шкловский считал произведение Достоевского «романом особого рода», «документальным романом» (Шкловский В.Б., 1957; 107, 123). Наиболее распространено определение этого жанра как «книги очерков». К очеркам «Записки из Мертвого дома» относил Г.М.Фридлендер (История русского романа, Т. 1, 1962; 427). А.Г.Цейтлин определял их как «цикл физиологических очерков» (Цейтлин А.Г., 1965; 290). Н.М.Чирков называл произведение Достоевского «художественными мемуарами» (Чирков Н.М., 1967; 16). В.Я.Кирпотин полагал, что «Записки из Мертвого дома» «нельзя отнести ни к мемуарам, ни к очеркам», вместе с тем в них нет и «сюжетного построения, нет вымысла, который позволил бы отнести книгу к романам» (Кирпотин В.Я., 1959; 120). Сходную с исследователем позицию в данном вопросе позднее занимал В.Я.Лакшин, считая, что произведение Достоевского - «это не очерки, не мемуары, не роман в строгом смысле слова» (Лакшин В.Я., 1988; 241). В.Н.Захаров в терминологии не отступает от авторского оп ределения: «Жанровая форма повести о каторге - "записки"» (Захаров В.Н., 1985; 182), - доказывая через отрицание «романического» содержания, мемуарного начала и очерковости (Захаров В.Н., 1985; 175). В.Этов, напротив, говорит об энциклопедизме, свойственном большим эпическим жанрам: «Несомненно, есть здесь родство с дорогой для Достоевского традицией, традицией «Мертвых душ», с гоголевским замыслом показать всю Русь, хотя бы с одного боку» (ЭтовВ., 1993; 166).
«Колымские рассказы», близкие по теме и воплощению книге Достоевского, определяются Е.А.Шкловским как композиционно единое произведение, в котором присутствует «очерковое, документальное начало, первопроходче-ский этнографизм и натурализм, пристрастие Шаламова к точной цифре, ещё более усиливающей достоверность повествования» (Шкловский Е.А., 1991; 35). По мнению МТеллера, это - «одновременно рассказ, физиологический очерк, этнографическое исследование» (Геллер М. // Шаламовский сборник, 1994; 220), И.В.Некрасова считает, что «привязать» произведения Варлама Шаламова к конкретному видовому термину невозможно и вряд ли необходимо» (Некрасова И.В., 2003; 52).
Как и в книге Достоевского, ни мемуарность, ни романность, ни очерко-вость не являются достаточными для отнесения «Колымских рассказов» к собственно мемуарам, рассказам или очеркам. «Записки из Мертвого дома», -выстраивает свое доказательство В.Н.Захаров, - не есть роман - в них нет «романического» содержания, мало вымысла, нет события, которое объединило бы героев, ослаблено значение фабулы (каторга - состояние, бытие, а не событие)» (Захаров В.Н., 1985; 175). Варлам Шаламов предупреждал: «Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа» (Шаламов В., 2004; 836). Рассказ изустен, однако лагерную эпопею И.В.Некрасова не относит к произведениям, в которых стилизуется устная речь: «В прозе Варлама Шаламова же форма повествования от первого лица не является сказовой» (Некрасова И.В., 1995; 85). Автор «Колымских рассказов» разрушает традиционный жанр, «подменяя» его дру гими, как, например, привнесение в историю майора Пугачева элементов героической баллады (Михайлик Е., 1997; 215) или построение рассказа «Инжектор» в форме донесения. Г-Герлинг-Грудзинский даже обнаруживает в каждом (курсив - Е.М.) рассказе «форму как бы стихотворения» (Герлинг-Грудзинский Г., 1996; 94).
Примечательно, что и ослабление жанровых принципов в шаламовских произведениях проходит по пути, проложенному Достоевским. Отмеченное В.Н.Захаровым ослабление фабулы как признак «нероманного» содержания характерно и для «новой прозы», автор которой отрицал наличие сюжета в своих творениях (Шаламов В., 2004; 843). Бессюжетность - ещё одно сопряжение с Достоевским. Как каторга не является событием, а скорее состоянием, то тем же состоянием оказывается и лагерь, о чем упоминает и В.Ерофеев: «Шаламовский ГУЛАГ стал скорее метафорой бытия, нежели политической реальностью (Ерофеев В., 1993; 4).
Бог в колымском аду: теодицея Достоевского и апофатика Варлама Шаламова
Ложной идеей, повлекшей за собой национальную катастрофу, стало провозглашение «смерти Бога», приписываемое и создателю «новой прозы». Действительно, в одном из своих манифестов Шаламов повторил ницшеанское изречение, что для многих явилось знаком писательского безверия, декларировал «смерть Бога». Но автор «Колымских рассказов» использовал известную фразу с определенной метафизической логикой, которая требует объяснения. Смысл, который вложил в данную формулу Варлам Шаламов, становится понятным при анализе художественного мира его произведений.
Реальность лагерной прозы часто воспринимается как сверхъестественная. Так, А.СКарпов пишет: «... невероятна та действительность, которую изображал в своих «Колымских рассказах» В.Шаламов, настойчиво подчеркивавший строгую документальность своей прозы...» (Карпов А.С., 1994; 86). М.Гелл ер говорит о синтезе фантастики с бытом: «На Колыме фантастика стала бытом. Реальность фантастики была более фантастичной, чем все то, что мог вообразить автор романа «Мы» (Геллер М., 1994; 219).
Читателю трудно поверить в возможность что-либо делать, когда «плевок замерзает на лету» («Плотники») [1; 16]. А описание работы бульдозера в рассказе «По лендлизу» напоминает отрывок из пушкинского «Гробовщика» или из рассказа Ф.М.Достоевского «Бобок»: «Все было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног - культи после обморожений, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза» [1; 356]. Поэтому критики сравнивают колымское измерение с классическим художественным приемом: «На кошмарный, чудовищный сон похожа действительность, в которой работают и умирают герои «Колымских рассказов» (Геллер М., 1994; 218). Однако праздник мертвецов у Андрияна Прохорова - только фантазия героя, а для персонажей Шаламова будущий пушкинский сюжет -сама реальность: «И я, и мои товарищи - если замерзнем, умрем, для нас найдется место в этой могиле, новоселье для мертвецов» [1; 356]. Автор «Колымских рассказов» словно создает интертекстуальный парадокс: грядущее не вызывает сомнений, в то время как прошлое оказывается выдумкой.
Подобный алогизм шаламовской прозы объясняет Н.Лейдерман использованием приемов современного искусства: «... чем конкретней и достоверней описание, тем ещё более ирреальным, химерическим выглядит этот мир, мир Колымы. Это уже не натурализм, а нечто иное: здесь действует тот принцип сочленения жизненно достоверного и алогичного, кошмарного, который вообще-то характерен для «театра абсурда» (Лейдерман Н., 1992; 174). Несомненно, в «Колымских рассказах» можно найти черты антиромана. Например, в прозе и публицистике Варлам Шаламов повторил главный постулат абсурдистов о том, что мир не имеет смысла: «Разумного основания у жизни нет вот что доказывает наше время» (Шаламов В., 2004; 842). Однако даже этот вывод писателя оказывается логичным с точки зрения мифопоэтики, к которой обращались и представители «театра абсурда», т.к. именно в мифологическом первоисточнике словесного искусства «категория причинности, здравого смысла снята» (Голосовкер ЯЗ., 1987; 21).
Можно сказать, что Шаламов, создавая лагерную эпопею и произведение с характерным для современного направления названием «Вишерский антироман», вернулся к пратексту мировой литературы. Действительность «Колымских рассказов» сопоставима с фантастическими сюжетами классиков примерно так же, как противопоставлены миф и сказка. Главное различие, как считает Е.М.Мелетинский, заключается в строгой достоверности первого и в нестрогой достоверности его производного (Мелетинский Е.М., 1986; 34). Поэтому писатель отказывается от романной формы: в данном жанре «повествование выстраивается в качестве чисто художественного вымысла, не претендующего на историческую или мифологическую достоверность» (Мелетинский Е.М., 1986; 124). Не случайно в лагерной эпопее часто повторяется воровская поговорка «Не веришь - прими за сказку», которая всегда сопровождается её отрицанием: «Верю. Знаю обычай» («Букинист») [1; 339], или «Я не расспрашивал и не выслушивал сказок» («Сентенция») [1; 358]. Ведь сказка является фольклорным эквивалентом романа (Мелетинский Е.М., 1986; 124), который так любят «тискать» презираемые Шаламовым представители блатного мира.
Таким образом, именно логикой мифа, реализованного в «Колымских рассказах», можно объяснить антирелигиозные выпады автора «новой прозы». М.Евзлин формулирует первый закон бытийности Божественной Ипостаси: «Для человека «мифопоэтической» эпохи боги не существовали абстрактно, т.е. как отвлеченные принципы, но вполне конкретно. Существование мира зависело от существования бога, также как существование бога - от существования мира» (Евзлин М., 1993; 108). С этой точки зрения, действительность шаламовских произведений достоверна, ибо, как пишет один из современных прозаиков Евг. Попов, «время создало такие сюжеты, которые кажутся продуктом гротесковой фантазии, а присмотришься - жизнь. Жизнь более фантастичная, чем вымысел» (Цит. по: Карпов А.С., 1994; 86). Иными словами, Бог реален настолько же, насколько реален мир «Колымских рассказов». Если нельзя поверить в существование лагерного ада, изображенного Шаламовым, то и бытие Бога после этого невозможно.
Доказательство данной теории можно также найти у Достоевского. Иван Карамазов произнес: «Я не Бога... я мира... Божьего не принимаю...» [14; 214]. Но, отринув несовершенство божьего творения, герой отказался поверить в бессмертие, которое отсутствует там, где забыли о добродетели. Безбожие привело его к вседозволенности: Иван Карамазов отрекся от Христа, став наставником убийцы. То есть герой романа «Братья Карамазовы» оказывается отделен как от Бога, так и от мира; безумие, охватившее Ивана Федоровича, изолировало его от общества, для которого он перестал существовать.
Нечто подобное происходит и с другим героем Достоевского, вознамерившимся стать выше Бога, с Раскольниковым. Он, совершив преступление, был выброшен из окружающего социума: долго лежит в бреду в собственной каморке. Как пишет Д.Полянин, герой «губит [...] и собственную способность общения с другими людьми. Ибо отныне нет у него ничего общего с ними; всё, чем живут они, он видит иначе» (Полянин Д., 1996; 22). Но различия начинаются не с утратой коммуникативных способностей. Т.А.Касаткина утверждает, что «во время романного действия отец мертв, «мертв» и Бог в сердце Раскольникова» (Касаткина Т.А., 1992; 55), Здесь следует уточнить: мертв не Бог в сердце героя, мертво само сердце без Бога. Об этом говорит В.Медведев, сравнивая главного героя романа «Преступление и наказание» с евангельским Лазарем (Медведев В., 1993; 161).
Апокалиптика по Достоевскому и «Откровение» Варлама Шаламова: поиски «новых путей» богопознания
Архетип тьмы лежит в основе христианской истории Спасения, дарующей надежду воскресения для человека. Как и в мифе об Иосифе, явление Христа Иоанну Богослову в «Апокалипсисе» сопровождается сильным свечением: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в поддир...» (Откр. 1: 12-13). Сначала возникает мотив первичного неузнавания голоса, и лишь последующие световые символы сопровождают окончательное приобщение к тайне семи звезд. Но главное, что объединяет библейский и апокрифический варианты архетипа светопорождающей тьмы, идея человеческого спасения, перенесенная из истории Воскресения Бога. Именно идея воскресения человека и обусловила обращение Достоевского и Шаламова к тексту «Откровения», наложившего отпечаток на творчество писателей.
Проблема «Достоевский и Апокалипсис» не нова для современного литературоведения. Подробный анализ апокалиптической традиции в романе «Идиот» представляет С.В.Клименко, утверждая, что тема «Откровения» «усиливает свое звучание по мере развития сюжета - от размышлений о смертной казни, затем о картине Гольбейна «Мертвый Христос» в доме Рогожина к пророческому ощущению Рогожина будущим убийцей, величаво-мистическим описаниям учащающихся припадков эпилепсии у князя, наконец, толкованию Лебедевым «Апокалипсиса» и «Исповеди» Ипполита с настойчиво звучащим рефреном «Времени больше не будет» (Клименко СВ., 1992; 64). «Кульминация темы, - продолжает исследователь, - в «Исповеди» Ипполита. Его личность и даже имя его, означающее в переводе «распрягающий коней» или «растерзанный конями», напоминает о четырех всадни ках из «Откровения Иоанна» и о последнем из них: «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним...» (Откр. 6: 8). Навеяны «Апокалипсисом» и сон Ипполита с чудовищем, напоминающим апокалиптическую саранчу, и настойчиво повторяющаяся тема Солнца в его «Исповеди» (VIII, 323, 345)» (Клименко СВ., 1992; 64).
Основная причина обращения Ф.М.Достоевского к тексту «Апокалипсиса» скрыта, по мнению С.В.Клименко, в образе князя-Христа, пришедшего в грешный мир, чтобы напомнить об истинном Спасителе и о Его втором пришествии, «о вечных христианских ценностях, которые всем известны, но по-прежнему отсутствуют в жизни большинства людей» (Клименко СВ., 1992; 64).
Повествованием о втором пришествии Спасителя в мрачную эпоху средневековья стала поэма Ивана Карамазова. Возможным проникновением Христа в омертвевшую душу Раскольникова завершается роман «Преступление и наказание». Апокалиптическая картина предстает и в «Бесах». Таким образом, как обобщает Г.Г.Ермилова, «... почти все герои Достоевского соприкасаются с миром Апокалипсиса» (Ермилова Г.Г., 1993; 63). Лишь Д.Баротти не считает творчество Достоевского единым текстом, восходящим к «Откровению»: «Присутствие Бога в «Бесах» остается тайным и кажется недейственным; иная ситуация в «Братьях Карамазовых»: повествование как будто возвещает будущее искупление, которое может свершиться без чудесного вмешательства Бога» (Баротти Д., 1999; 108). А между тем, «Преступление и наказание» - предупреждение Бога семи церквам о спасении в вере: «побеждающему дам вкушать от древа жизни» (Откр. 2: 7). Второй роман «Пятикнижия» Достоевского повествует о пришествии Агнца в мир, где никто не «достоин раскрыть сию книгу и снять печати её» (Откр. 5:2). Главный герой «Бесов» оказывается лжепророком. Образ Алеши, окруженного мальчиками в конце последнего романа, символизирует царство избранных, установившееся после победы над внутренним зверем, произошедшей ещё в «Подростке». Т.е., как справедливо полагает Г.Л.Черюкина, каждое произведение «Пя тикнижия» Достоевского - «этап в восхождении к идее бессмертия, к Граду Небесному» (Черюкина Г.Л., 2001; 140),
Отмечены в работах литературоведов и некоторые художественные решения Достоевского, выполненные в традициях апокалиптического текста. Например, характерная для писателя остановка времени в романах и сознании героев является аллюзией из «Откровения». В «Преступлении и наказании» Раскольников продает отцовские часы. «Это событие, - как комментирует Р.Кацман, - проявляется в личностной истории героя как «устранение времени» (Кацман Р., 1999; 169). В романе «Бесы» возникает аллюзия с атрибуцией, когда Кириллов цитирует Иоанна Богослова: «В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет... Время не предмет, а идея. Погаснет в уме» [7; 251]. На остановку времени в «Легенде о Великом Инквизиторе» указывает В.В.Борисова, однако считает, что «статическое время - не единственное временное измерение романа: на эмпирическом уровне сюжета время в определенных пределах движется, оно динамично, соотносится с движением истории, авторским, читательским временем. Но и на линии эмпирического времени на всем протяжении романа реальность поддерживается Достоевским на уровне кульминации в настоящем» (Борисова В.В., 1978; 67-68). А.Ф.Седов находит свои определения апокалиптическому времени Достоевского: «Писатель не «аннулировал» чувство времени, но сумел отразить в своих произведениях иное, новое чувство времени [...]. Не последовательное, плавное эпическое время, а время «катастроф», кризисов и перерождений, включающее в себя сиюминутность, индивидуальное прошлое героя и эстетически осознанный путь человечества, - таково время развития героя Достоевского» (Седов А.Ф., 1979; 23). Но кульминационное время, или время «катастроф», по мнению психологов, замедляется в сознании, приостанавливает свое эпическое течение. А потому данная классификация не имеет смысла, т.к. время в момент кризисов и катастроф «погаснет в уме».
С остановкой времени связана другая особенность творчества Достоевского, восходящая к Священному Писанию. Американский исследователь J.Myrry пишет о читательском восприятии романов следующее: «Мы читаем его как во сне, и сами мы как во сне [...]. В его произведениях нет ни дня, ни ночи, солнце не всходит и не заходит...» (Мулу J.M., 1966; 28). Действительно, снов в романах писателя необычайно много. Анализу структурообразующей роли и символических функций сновидений в мифопоэтике Достоевского посвящены монографии Б.С.Кондратьева, Н.Ю.Тяпугиной, Л.В.Карасева и других исследователей.
Эксперимент сатаны, или Кому дано право на проверку человеческой природы
«Человек Варлама Шаламова, - пишет В.Камянов, - хоть краем души да соприкасается с бескрайностью, хочет пробить глухоту молчаливого и угрюмого мира: «Ты звал меня? Я вот он. Зачем звал-то - на муку и поношения?» (Камянов В., 1989; 234). Этот же вопрос задавал библейский Иов Богу. Иными словами, исследователь определил в качестве основного мотива «Колымских рассказов» ветхозаветную историю страдальца, которая включает «новую прозу» в многовековую литературную традицию, и, прежде всего, сближает с Достоевским.
«Подлинное значение мотивов «Книги Иова» глубинно связано с пророческим потенциалом творчества Достоевского по отношению к дальнейшему развитию русской истории и культуры», - пишет Л.А.Левина, подчеркивая особую актуальность темы искушения человека дьяволом и остроту проблемы безверия в литературе последних двух столетий (Левина Л.А., 1994; 204). Исследователь делает справедливый вывод о влиянии произведений русского классика наряду с такими шедеврами мировой словесности, как «Фауст» Гете, на весь последующий литературный процесс: «Трактовка ветхозаветного памятника русским писателям и мыслителям XX в. во многом предопределена Достоевским в романе "Братья Карамазовы"» (Левина Л.А., 1994; 204).
Несмотря на множество «ситуаций Иова» в русской литературе, рассматриваемых в работах С.Г.Бочарова, И.В.Немировского, А.Е.Тархова, И.Ю.Юрьевой, «вечный образ» библейского страдальца, воплощенный в творениях Ф.М.Достоевского, предвосхитил религиозно-философский кризис русской культуры XX века. «Каждый из великих писателей имеет какую-либо преимущественную черту, которая выделяет его среди других и обосновывает право его художественной традиции на самостоятельное значение в последующем литературном развитии», - так А.С.Бушмин формулирует понятие «традиция Достоевского», «традиция Чехова», «традиция Толстого» (Бушмин А.С., 1975; 133). Обращение к «Книге Иова» и ее переосмысление в романах «Пятикнижия» позволяет говорить о преобладании «традиции Достоевского» в произведениях XX столетия, повествующих о нечеловеческих муках, что и доказывает Л.А. Левина, определяя связи современных творений с романом «Братья Карамазовы» и с библейским первоисточником, возраст которого исчисляется тысячелетиями.
Другие писатели почти не рассматриваются в парадигме Иова, хотя в этом плане можно говорить о Пушкине, Лермонтове, Толстом. «У Достоевского, -пишет Е.Г.Буянова, - такая привязанность к «вечному образу» в его размышлениях о природе личности выражена еще более явно, чем у Толстого, причем на его огромное значение в собственном духовном мире указывал сам писатель» (Буянова Е.Г., 1997; 94). В литературоведческой науке отмечается иная, екклесиастическая, сущность толстовского творчества (Буянова Е.Г., 1997; 93). Тем более не представляется возможным определение связей лагерной прозы, для которой образ Иова многострадального стал ведущим, с духовными исканиями писателя, обвиненного Шалимовым в порождении ужасов Освенцима и Колымы.
В настоящее время в исследованиях «новой прозы» появились попытки сопоставления «Колымских рассказов» с «Книгой Иова», однако подобные заявления носят скорее ассоциативный характер, не претендуя на подробный анализ традиции. Е.С.Полищук уподобляет Шаламова праведному библейскому герою, считая, что «его «Колымские рассказы» — честный отчет перед Богом и одновременно недоуменный вопрос Ему, своего рода "Книга Иова"» (Полищук Е.С., 1994; 108).
На доминирующее влияние традиции Достоевского в проекции «Книги Иова» на лагерную прозу в литературоведении внимания не обращено вовсе. Так при всей пестроте жанров, форм и имен в перечне явлений русской культуры XX столетия, отразивших положение человека в исключительных условиях, парадигма «"Книга Иова" - Достоевский - Шаламов» в исследовании Л.А.Левиной отсутствует. Подобная ситуация объясняется не пренебрежением автора статьи «Новый Иов в творчестве Ф.М.Достоевского и в русской культуре XX века» к прозе «Колымских рассказов», а сложностью и неизученностью вопроса, его многогранностью.
«Читаю книгу Иова, - писал Достоевский жене из Эмса в 1875 году, - и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это - одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!» [29, Кн. 2; 43]. Библейский текст наложил отпечаток на все творчество писателя. «Это любимая надрациональная логика близких ему героев - Зосимы, Маркела, Алеши, Смешного», - считает А.Н.Хоц (Хоц А.Н., 2001; 51). Тем не менее, детальному анализу в исследованиях в связи с темой страдания подвергался только один роман «Пятикнижия». «Книга Иова упоминается им и в «Подростке» и в «Братьях Карамазовых», но следует видеть за этим нечто большее, чем одно лишь упоминание, в особенности, это касается последнего романа Достоевского», - пишет Е.Г.Буянова (Буянова Е.Г., 1997; 94). «Присутствие темы Иова в творчестве Ф.М.Достоевского, и в первую очередь - в романах «Братья Карамазовы» и «Подросток», общеизвестно», - такова позиция Л.А.Левиной (Левина Л.А., 1994; 204). Поэтому в предстоящем анализе ветхозаветных параллелей у Достоевского и Шаламова следует рассматривать итоговое произведение классика, оказавшее влияние на литературу XX века и, в частности, на «Колымские рассказы». Тем более, что «Иов, - как считает Е.Г. Буянова, - основа художественного построения всего романа (во всяком случае той его части, которую писатель успел завершить)» (Буянова Е.Г., 1997; 94).
Рассматривая параллель «Шаламов - Достоевский» в библейской парадигме, мы выделяем несколько основных мотивов (или микросюжетов): разрешения, бездомья, болезни,, глумления и др.
Ветхозаветный источник «Братьев Карамазовых» и «Колымских рассказов» начинается с разговора сатаны с Богом, финалом которого становится разрешение на экспериментальную проверку безбожной идеи, т.е. на искушение. Целью подобного опыта является доказательство того, что истинная справедливость - иллюзия, а отношения Бога и человека - не более чем сделка по принципу «ты - мне, я - тебе»: «И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром богобоязнен Иов?» (Иов. 1; 9). В последнем романе Достоевского диалог Ивана и старца Зосимы на «неуместном собрании» представляет собой благословение героя, «одержимого» дьяволом, на «решение» [14; 65] вопроса бессмертия и правда ли, что «злодейство не только должно быть дозволено, но даже призвано самым умным и самым необходимым выходом из положения всякого безбожника» [14; 65]. Е.Г.Буянова соотносит с завязкой «Книга Иова» известную цитату из «Братьев Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей» [14; 100] (Буянова Е.Г., 1997, 94). И далее, как считает В.Кантор, «огромный роман строится как система соподчиненных искушений, переживаемых в разной степени разными героями» (Кантор В., 2002; 160).