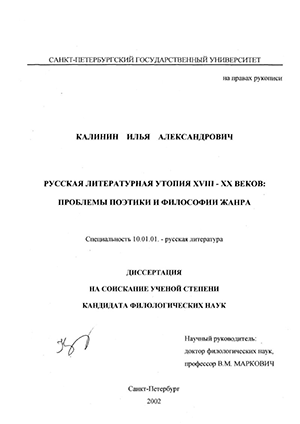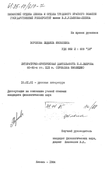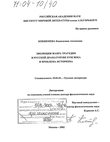Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Утопия и риторическая культура слова
1. Утопия и утопическое сознание 10
2. Истоки утопической традиции ("Государство" Платона и "Риторика" Аристотеля) 19
3. Утопия и риторическая культура слова 22
4. Литературная утопия: утопия и литература 28
Глава 2. От политической утопии к утопии литературной
1. Литературная утопия: между панегириком и элегией (топос и модус русской литературной утопии XVIII века) 34
2. Петербург в панегирических жанрах и литературной утопии XVIII века 59
3. Мифологическое пространство историографического дискурса XVIII века (риторика построения истории России) 71
4. "Путешествие в землю Офирскую Г-на С... швецкаго дворянина" М.М. Щербатова и риторическая организация утопического повествования 85
4.1. Диалог как основа утопического дискурса 85
4.2. Утопическое повествование: между образом и понятием 96
Глава 3. Утопия и история ("4338 год" В.Ф. Одоевского).
1. От петербургского панегирика к петербургской утопии 106
2. Конфликт и проблема наррации 120
3. Литературная утопия: между "полезным" и "забавным" 132
Глава 4. От утопии к антиутопии (от Века Просвещения к Fin de Siecle). 1. Риторическая культура и эпоха модернизма 153
2. Утопия и интертекст ("Республика Южного Креста" В Я. Брюсова") 155
3. "Обнажение приема": исторический авангард и новые утопические перспективы ("Мы" Е. Замятина и эстетическая теория русского формализма) 172
Глава 5. По "ту сторону" утопии и антиутопии (политический язык и язык желания) 187
1. Утопический субъект: между центром и периферией (повесть А.Д. Синявского "Любимов") 190
2. Утопический субъект: между Воображаемым и Символическим (язык желания в поэме В. Ерофеева "Москва - Петушки") 198
Заключение 222
Список использованной литературы
- Утопия и утопическое сознание
- Литературная утопия: между панегириком и элегией (топос и модус русской литературной утопии XVIII века)
- От петербургского панегирика к петербургской утопии
- Утопия и интертекст ("Республика Южного Креста" В Я. Брюсова")
Введение к работе
Проблема утопии стоит в одном ряду с центральными социально-философскими проблемами XX века. Но актуальность этой проблемы в области социально-политической жизни вывела на передний план изучение утопического мышления как такового, независимо от того, где оно находило выражение (в утопическом трактате или в романе-путешествии), изучение же жанровой природы литературно-утопического творчества долгое время оставалось в стороне от main-stream научной мысли. Если же литературная утопия и становилась объектом филологического интереса, то этот интерес ограничивался, как правило, описанием социальной конструкции утопического общества или, максимум, реконструкцией происхождения отдельных социально-утопических принципов у данного автора и, наконец, сопоставлением его произведения с теориями философов или социологов, оказавших на него влияние. *В таком случае литературоведение выступало как вспомогательная дисциплина, выполняющая предварительный анализ, после которого в руки историка попадало уже не сложное литературное целое, а интересующая его утопическая модель. И все это при том, что именно изучение литературной утопии как жанра, с его законами и конкретной практикой, имеет наибольшие шансы стать объективно-научным. Ведь анализ социальных взглядов отдельного утописта всегда будет иметь подоплеку в виде политических пристрастий исследователя-историка. А попытки проникнуть в природу утопии как типа мышления (с его особым отношением к действительности) 'См.: [Чечулин 1900]; [Кизеветтер 1901]; [Сакулин 1912]; [Горфункель 1969]; [Штекли 1978]; [Шестаков 1995]. зависят от того, как данный философ или философская школа, к которой он принадлежит, решают для себя проблему самой возможности достижения общественного совершенства, придерживаются ли они традиционных ценностей или ратуют за их радикальное изменение. Таким образом предубеждение предшествует исследованию. Напротив, строго литературоведческий анализ, хотя и не ставит перед собой задачу разрешения мировоззренческих проблем, зато позволяет ответить на некоторые вопросы, связанные с проекцией утопического дискурса в нетождественную ему область литературы, и, следовательно, способен более четко его охарактеризовать.
Главную трудность литературоведческому анализу создает наличие множества в равной степени авторитетных философских, социологических, социопсихологических и т.д. подходов к проблеме утопического мышления. Более того, по сей день все еще не поставлен вопрос о соотношении утопической идеологемы и жанра литературной утопии (хотя многочисленность текстов, относящихся к данному жанру, а также очевидная взаимосвязь между уровнем его продуктивности и различными культурно-историческими эпохами, казалось бы, должны давать к этому повод). Отсутствие теории, чья объяснительная сила распространялась бы одновременно и на установки утопического сознания и на принципы их оформления в литературном произведении, вызвало необходимость предложить в качестве собственной рабочей гипотезы подход, который, возможно,
Например, противоположные взгляды на роль утопии в истории общественного сознания, которых придерживались К. Мангейм [Мангейм 1994, С.52-95], видевший в утопии творческое начало, и К. Поппер ЦТоппер 1992], находивший в ней истоки тоталитаризма. намечает некоторые возможности перехода от изучения утопии как типа сознания к её изучению как литературного жанра.
В основе этой методологической гипотезы лежит идея о зарождении утопического сознания внутри мифо-риторической культуры слова, позволяющая возвести генезис утопии не только к «Государству» Платона, но и к «Риторике» Аристотеля. Такой подход дает возможность преодолеть идеологическую размытость и вариативность утопии (во многом и являющиеся причиной возникновения конкурирующих определений утопического сознания в рамках социальных наук), размещая её внутри определенной и исторически локализованной языковой и текстуальной парадигмы и указывая тем самым на более продуктивный, на наш взгляд, путь к пониманию природы утопии и механизмов её культурного функционирования. В контексте нашей работы утопия и риторика будут рассматриваться как глубоко взаимосвязанные феномены, чья история - это история взаимных обменов и взаимных отражений: с одной стороны, текстуальная реализация конкретного утопического проекта невозможна вне сферы действия риторического сознания (системы представлений о языковом знаке и совокупности правил текстопорождения); с другой, - любая классическая риторическая программа3 имплицитно включает в себя работу утопического сознания (структурированного через систему представлений об исторической динамике и совокупности правил построения идеального общества, идеального государства, идеального текста, 3 Т.е. риторика, традиционно распределяющая статус содержания и статус средств выражения и дожившая по сути до позднего- и постструктурализма (а в качестве «школьной» риторики существующая и сейчас), рассматривающего смысл как риторический эффект и, таким образом, полностью перераспределившего «базис» и «надстройку» классической риторики. идеально функционирующего знака) и метафорически может быть рассмотрена как утопический языковой проект.4
Одновременно с решением проблем общетеоретического характера данная эпистемологическая предпосылка включается в разрешение историко-типологических проблем, связанных с механизмами инкорпорирования утопического дискурса в пространство художественной наррации, т.е. с механизмами воплощения утопического сознания в жанре литературной утопии.
Кроме теоретической (поместить феномен утопии в новую аналитическую перспективу) и историко-типологической (описать специфику жанра русской литературной утопии) задач, исследование также осуществляет попытку проследить, фиксируя некоторые важные вехи, эволюцию или, точнее, логику эволюции данного жанра. И в этом случае избранная нами «риторическая» перспектива позволяет не просто включить историю жанра в более широкий контекст, но и объяснить посредством этого включения собственно внутрижанровую эволюционную логику литературной утопии, мотивировав её изменением представлений о языковом знаке и высказывании, и развитием рефлексии повествования над риторической организацией утопического текста.
Материалом анализа послужат тексты литературных утопий, фиксирующие, на наш взгляд, переломные моменты эволюции данного жанра. Это: «Нума или процветающий Рим» М.М. Хераскова (1768г.), «Путешествие в землю Офирскую Г-на С... швецкаго дворянина» М.М. Щербатова (сер. 1780-х гг.), «4338 год» В.Ф. Одоевского (1840г.), «Республика Южного Креста» В.Я. 4 Подробно об этом см. разделы 2 и 3 первой главы.
Брюсова (1905г.), «Мы» Е.И. Замятина (1918г.), «Любимов» А.Д. Синявского (1963г.) и «Москва - Петушки» В. Ерофеева (1969г.).
Несмотря на предпринимаемую в работе попытку описать историческую динамику жанра, данное диссертационное сочинение никоим образом не является «Историей русской литературной утопии»5: история жанра использовалась нами скорее как возможность постановки и разрешения проблем, возникающих в связи с доминированием на том или ином этапе развития жанра того или иного эволюционного фактора. Поэтому анализ последовательного ряда утопических текстов не носит «сквозного» поуровневого характера, когда на каждом этапе описываются все уровни текста, а затем особо отмечается уровень (или уровни), на котором зафиксирована какая-либо историческая мутация. Напротив, предпринятый нами анализ вначале описывает некую каноническую, нейтральную, с точки зрения истории жанра, модель (в этой роли выступает прежде всего утопия М.М. Щербатова), а затем акцентирует внимание исключительно на тех уровнях, на которых регистрируется основной эволюционный сдвиг.6 Следуя за вектором этих сдвигов, анализ воспроизводит движение литературной утопии от «сильного», авторитарного и избыточного жанра к внутренне 5 Речь идет даже не о неуместности претензии, а об иной исследовательской стратегии. 6 Подобный вид анализа, кроме «экономии средств», делает возможной более гибкую композицию исследования. Так, например, материалом для анализа инвариантного для утопии типа отношений между утопическим дискурсом и художественным нарративом послужил не текст Щербатова, а более поздняя, но сюжетно более развитая и дифференцированная утопия В.Ф. Одоевского, хотя на других уровнях повесть «4338 год» использовалась для демонстрации внутренней противоречивости литературной утопии, чреватой активной и опасной для жанра исторической динамикой. 7 О концептуализации авторитарных жанров в качестве избыточных высказываний, многократно перекодирующих одну и ту же идею см.: [Suleiman 1983]. нестабильному жанровому образованию (пытающемуся приостановить нарастание внутренней энтропииности через создание новой сильной модели, - своего негативного варианта, - антиутопии) и затем к его распаду на отдельные элементы, продолжающие функционировать уже за пределами жанра. Таким образом, история жанра инициирует серию теоретических проблем, последовательность возникновения и способ разрешения которых вновь возвращает нас к исторической логике.
Утопия и утопическое сознание
Феномен утопии по своей природе крайне многоаспектен и далеко выходит за пределы литературы. Сложность придает ему и то, что никоим образом терминологически не разведены его различные значения: утопия - это и литературный жанр, и конкретный социальный проект, и его (проекта) возможная реализация, и установка сознания вообще.1 Поэтому в освещении взглядов на этот феномен целесообразно будет двигаться от самых общих дефиниций, относящихся к области сознания, к определению конкретно-исторических границ этого явления (утопии Нового времени). Нас в данном случае будет интересовать не отражение всего разнообразия современных концепций утопического, а лишь те свойства утопического сознания, наличие которых признается большинством ученых.2
Наиболее авторитетна и одновременно наиболее всеобъемлюща трактовка утопии, предложенная К. Мангеймом [Мангейм 1994, С.7-277]. Логика его рассуждений такова. Утопическим является то сознание, которое не находится в соответствии с окружающей реальностью. Это несоответствие постоянно проявляется в том, что подобное сознание в переживании, мышлении и деятельности ориентируется на факторы, реально в действительности не содержащиеся. Но не каждую ориентацию, трансцендентную по отношению к бытию, следует считать утопией. Утопия не просто не соответствует действительности, но и, преобразуясь в действие (полностью или частично) или хотя бы надеясь на такую реализацию в будущем, взрывает существующий в данный момент порядок вещей. Это её качество и устанавливает главное различие между утопией и идеологией. Идеология может ориентироваться на далекие от действительности факторы и тем не менее стремится к репродуцированию существующего образа жизни. В ходе истории чаще всего так и происходит: общество ориентируется на внеположные, а часто и противоречащие действительности установки и, на них же опираясь поддерживает порядок, им не соответствующий [Мангейм 1994, С. 164-180]. Идеологию, таким образом, можно назвать как угодно: картиной мира, системой координат или ценностей. Это, скорее, - критерий для оценки, нежели руководство к действию.
Утопия и идеология характеризуются различным отношением к миру. Идеология рассматривает мир как результат, утопия же -как процесс. «Действительность - это процесс. Он представляет собой разветвленное опосредование между настоящим, неоконченным прошедшим и - самое главное - возможным будущим», - утверждает один из теоретиков современной утопии Э. Блох [Блох 1991, С.50].
Но такое творческое отношение к окружающему не перманентное состояние утопии. По отношению к своей собственной действительности утопия проявляет иные консервативные тенденции, ведь достижение совершенства отменяет ход истории, «репродуцируя существующий (в данном случае -идеальный с точки зрения автора утопии - И.К.) образ жизни», а такая установка, согласно К. Мангейму, характеризует идеологию. Однако его теория, построенная на противопоставлении идеологии и утопии, разрешает это противоречие, утверждая возможность взаимного перехода. Следовательно, утопия и идеология противоположны не столько по сути, сколько по модальности. В действительности и утопии, и идеологии сущностно противостоят «адекватные представления», представления, которые соответствуют окружающему миру. Если принимать во внимание отношение идеологии и утопии к действительности, утопия несравненно ближе к ней, так возможна и реализация утопии, тогда как идеология не реализуется никогда. Утопия при своем активном отношении к бытию способна приблизить его к собственным идеалам. То есть в зависимости от стадии развития утопия может становиться действительностью. «То, что было утопией сегодня, может стать действительностью завтра» (Мангейм 1991, С. 121]. Но последовав за этой логикой, можно развить диалектику взаимного перехода и продолжить: и стать идеологией послезавтра. Тогда возникает закономерный вопрос: что происходит с утопией, если она реализуется, то есть происходит её локализация в конкретном историческом времени и культурном пространстве (а это все же у-топия\ не изменяется ли при этом её суть? Да и безупречное с логической точки зрения противопоставление идеологии и утопии приводит в конце концов к смешению этих явлений, они теряют свои индивидуальные черты. Очевидно, что одного критерия, - характера отношения к действительности, - не достаточно для определения утопии как типа сознания.
Литературная утопия: между панегириком и элегией (топос и модус русской литературной утопии XVIII века)
Крайне интересная проблема возникает в связи с появлением и начальным этапом развития русской литературной утопии: с одной стороны, была использована уже сложившаяся жанровая модель европейской утопии, с другой, она оказалась вписанной в совершенно иной литературный контекст, нежели тот, в котором была сформирована. Это связано с тем, что к 60-м гг. XVIIIB. (времени первых отечественных оригинальных утопий) в русской литературе сложилась обширная панегирическая традиция, осмысливавшая послепетровскую российскую действительность как уже реализованную утопию} «Утопичность» в этом смысле была характерна как для литературной утопии, так и для других жанров (ораторского слова, торжественной оды, эпиталамы, стихотворного сопровождения придворных маскарадов и т.д.).2 Этот риторико идеологический контекст и закрепленный за ним репертуар тропов и фигур (топики «золотого века») делает проблематичной ту критическую функцию, которую, с точки зрения большинства исследователей, должна выполнять утопия. Применение устоявшегося набора поэтических средств, используемых для восхваления совершенного государства, с целью контрастно противопоставить его идеальную организацию окружающей реальности, должно было актуализировать более сильную панегирическую традицию. В такой ситуации утопия начинает являть собой скорее особый случай национальной мессианской историософии, нежели утопию как таковую.
Возникает несоответствие между уже сложившейся панегирической топикой, которую использует литературная утопия, и той критической модальностью, которая входит в её функциональное дискурсивное задание. Это несоответствие топоса (понятие, используемое здесь не в пространственном, а в риторическом смысле - «общего места», «средства аргументации») и модуса (то есть «образа действия» - modus operandi). Если первый утопия заимствует из панегирических жанров, то элегия оказывается тем жанром, внутри которого формируется необходимая утопии модальность. Панегирик описывает уже достигнутое совершенство, прославляет идеал, реализованный здесь и сейчас; в то время, как элегия описывает утраченное совершенство, идеал, существовавший там и тогда. Литературная утопия совмещает две эти тенденции. Мало отличаясь от торжественной оды с точки зрения риторических средств и описывая совершенную реальность в терминах «здесь» и «сейчас», утопия помещает их в фиктивный план повествования, тогда как реальный план, - место, где автор пишет, а его аудитория читает, - ассоциирует с утратой идеала (в панегирике же фиктивный и реальный планы совпадали в аллегорическом изображении). Литературная утопия, т.о., выступает в роли своеобразного медиатора, совмещающего созданное с помощью панегирической топики идеальное пространство и реальное пространство, связанное с элегическим осознанием настоящего как «потерянного рая».
Т.В. Адорно и М. Хоркхаймер в своей известной книге «Диалектика Просвещения» писали: «В любом произведении искусства его стиль представляет собой не что иное, как обещание. В силу того, что благодаря стилю им выражаемое приобщается к господствующим формам всеобщего, к музыкальному, живописному, вербальному языку, намечается перспектива его примирения с идеей правильной, настоящей всеобщности. Это обещание произведения искусства установить истину путем запечатления образа в социально признанных формах является столь же необходимым, сколь и лицемерным.
От петербургского панегирика к петербургской утопии
Конструируя символическую систему имперского политического мифа, панегирическая литература представляет российское государство как пространство реализации универсального идеала («золотой век» или «рай на земле»)1; одновременно с этим панегирик утверждает миметическую природу своей репрезентации, исключающую какие-либо семиотические трансформации на пути от референта к знаку. Петербург становится центром и источником распространения этого идеала, выступая как символический атрибут своего творца. Петр Великий - град Петров -«дело рук Петровых», под которым понимается вся новая империя2, приобретают в панегирике характер единой и непрерывной символической реальности, творение и его исток оказываются идентичны друг другу, и более того, - укореняются в непосредственной природной эмпирии, так как наделяются статусом новой космогонии. Одновременно выстраивается и соответствующая историческая парадигма, устанавливающая субстанциональную эквивалентность Греции Перикла и Александра, Рима Ромула и Нумы с одной стороны и России Петра и Екатерины, - с другой; мифологический парадиз рассматривается здесь в качестве уже достигнутого предела этой исторической парадигмы. «Демонтаж панегирического красноречия», который с 1760-х гг. начал производиться прежде всего в рамках элегии, а также внутренняя смысловая инфляция самой придворной культуры, привели к тому, что репрезентируемый панегириком универсальный идеал перестал восприниматься в терминах буквального значения, переместясь в сферу поэтического переноса: мимесис уступил место семиозису, символ - аллегории.
Если элегия «деконструирует» символические претензии панегирика, критическая утопия радикализует этот процесс, не только лишая символического статуса панегирическую топику, но и демистифицируя символическую органичность репрезентируемого этой топикой референта, - фигуры Петра и его деятельности. Так в утопии М.М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую...» (сер. 1780-х гг.) преобразования императора Переги (Петра) и прежде всего основание им новой столицы Перегаба (Петербурга) денатурализуются через указание на механический характер их креативности, укорененной не в природе вещей или в эсхатологическом мессианстве российской истории, а исключительно в воле самого монарха, в произвольности его желания: «Он (Перега) основал новую столицу и вскоре сей град из болота, протиеу чаяния и протиеу естества вещей, возвеличился. Власть монарха не соделывает города, но физическое или политическое положение мест, или особливые обстоятельства» [Щербатов 1896, С.796]. Таким образом разрушается органическая связь между эмпирическим миром и его знаковым преображением: Петербург у Щербатова становится аллегорией, тематизирующей насилие символического языка над реальностью как насилие истории над природой (под природой здесь понимается не столько физический мир, сколько исходное, социальное status quo).
Вальтер Беньямин (чьи идеи относительно философии знака во многом развивал П. Де Ман) в своей работе «Происхождение немецкой барочной драмы» (1925г.) писал о том, что низведение знаковых форм до уровня аллегорий, отрицающих саму возможность полноценной субстанциальной репрезентации, свидетельствует и о негативной концепции истории, «...история моделируется, изображается не как процесс вечной жизни, но скорее как процесс неуклонного упадка» [Benjamin 1985, Р. 191]. Визуализацией такой историософии становится в европейской культуре язык руин, которые также, как и аллегория, отличаются фрагментарной, «метонимической» связью с выражаемой ими идеей.3 По замечанию В. Беньямина: «В области мысли аллегории суть то же самое, чем руины являются в области вещей» [Ibid.]. Именно такой пространственной метафорой аллегорической структуры знака становятся у Щербатова руины, оставшиеся от былого архитектурного великолепия Перегаба.
Утопия и интертекст ("Республика Южного Креста" В Я. Брюсова")
В эпоху модернизма происходит окончательный сдвиг (наметившийся еще в поэтике романтизма) в восприятии поэтического знака и художественного высказывания. Произведение уже не "делается", но "рождается", оно не "вещь", довлеющая внеположной себе цели, а "организм", обладающий целью внутри себя. К этому времени слово перерастает системные связи, наложенные на него риторической традицией. Возникает новый словесный мир, "в котором риторическое слово распадается на три: научное слово-термин (лишенное внутренней формы), публицистическое слово, формально сохранившее двойственность риторического слова, в котором прагматика, однако, решительно возобладала над эстетикой, и художественное слово" (Лучников 1989, С.50).
Все эти изменения напрямую затрагивают основы литературной утопии, ее концептуальные предпосылки. Воспользовавшись художественным словом, не равным уже слову науки и философии, утопическое повествование перестает быть простым проводником идеологического дискурса, который являлся жанрообразующим началом литературной утопии. Повышается сопротивляемость повествования по отношению к организующей его мировоззренческой системе (определенной социально-утопической модели действительности). "Как только поэтическое слово утрачивает свою связь с истиной как таковой, оно теряет и свое свойство пребывать "между" истиной и ложью (вымыслом, фантазией)" [Михайлов 1988а, С.316-317]. А именно на этом свойстве слова пребывать между истиной и ложью строился текст литературной утопии, изображающий вымышленную реальность (уровень повествования), за которой стоит истинная система ценностей (уровень утопического дискурса). Художественный текст перестает нуждаться в оправдывающем его существование дискурсе, претендующем на обладание истиной и идеалом. Повествование начинает намеренно стилизовать различные виды дискурсивных практик, включая их в целое художественного высказывания. При отсутствии ценностной иерархии утопический дискурс теряет свою направленность к идеологическому воздействию на читателя, включаясь в общую смысловую игру.
Меняются и представления о механизмах формирования смысла высказывания и о роли автора в этом процессе. Если риторическая культура строилась на традиционной концепции знака, "вводящей в определение знака понятие референта" [Греймас, Курте 1983, С.494] и таким образом настаивающей на единстве знака и значения, (в утопической проекции, - слова и замысла); то модернизм переходит к концепции знака, отсылающего не столько к собственному значению, сколько к другим знакам, к культурному контексту.1 Но в ситуации, когда одно означающее отсылает к другому, релятивизируется само понятие "истины", на утверждении онтологического статуса которой в равной степени основываются и утопическое сознание, стремящееся воплотить свои представления об истине в определенной модели действительности, и утопический текст, создаваемый на уверенности в том, что его художественный мир способен абсолютно точно донести до читателя, заложенный в него смысл. Идеальная коммуникация, при которой информация, вкладываемая в сообщение, полностью равна воспринимаемой информации (а именно из такой идеальной возможности исходит утопический текст), наталкивается на модернистские представления о неопределенности смысла литературного произведения как основы его художественности.
Язык перестает быть нейтральным вместилищем смысла, "...судьба мысли, заложенной в произведении, начинает переплетаться с дополняющей ее, нередко ей противоречащей и всегда ее отягощающей судьбой формы" [Барт 1983, С.349].