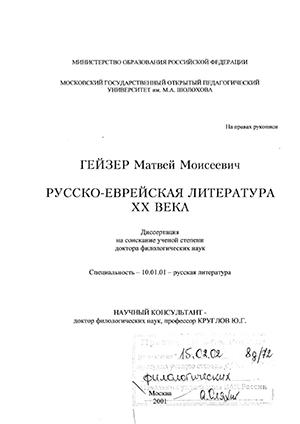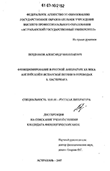Содержание к диссертации
Введение
Глава І Фруг, маршак, бабель и другие 11
1. С.Я. Фруг (1860-1916) 11
2. С.С. Юшкевич (1868-1927) 23
3. В. Е.Жаботинский(1880-1940) 31
4. С.Я. Маршак (1887-1964) 51
5. О.Э. Мандельштам (1891-1938) 87
6. И.Г. Эренбург (1891-1967) 112
7. Н.Э. Бабель (1894-1940) 128
8. М.А Светлов (1903-1964) 142
9. М.Н. Цеглин (1905-1994) 161
10. Л.Э. Разгон (1908-1999) 180
11. А.П.Межиров (родился в 1923) 187
12. Г.В.Саппир (1928-1999) 196
13. Ю.А. Карабчиевский (1938 -1992) 210
14. Г.И. Горин (1940-2000) 219
Глава II О русско-еврейских литературных связях в первой половине ХХ века
Поэт печали, гнева и любви хаиме нахмане бялике (1873 - 1934) 230
Влюбленней в жизнкл м. Квитко (1890 (189370 -1952)
У рек вавилонских (незапоздалые размышления об одном русско-Еврейском литературном феномене) 267
Заключение 284
Библиография 290
- С.С. Юшкевич (1868-1927)
- М.Н. Цеглин (1905-1994)
- Поэт печали, гнева и любви хаиме нахмане бялике (1873 - 1934)
- У рек вавилонских (незапоздалые размышления об одном русско-Еврейском литературном феномене)
С.С. Юшкевич (1868-1927)
В русско-еврейской литературе XX века Семену Соломоновичу Юшкевичу принадлежит особое место. Он был одним из немногих, а, может быть, единственным из писателей РЕЛ, первые произведения которого были опубликованы не в русско-еврейской прессе, а в читаемых «толстых» русских журналах; то есть он был первым писателем-евреем, получившим общероссийскую известность. Можно без преувеличения сказать, что С.С. Юшкевич был первым русско-еврейским автором, о творчестве которого писали самые видные литературоведы того времени (если собрать воедино все написанное о нем только В. Розановым — получится брошюра). Рецензии на его книги писал Корней Чуковский. С.С. Юшкевича печатали в своих сборниках М. Горький, Л. Андреев. Кроме публикаций в популярных журналах, сборниках, его пьеса «Miserere» была поставлена в 1910 году в Московском художественном театре, а до этого была настрого запрещена цензурой его пьеса «Король» (1906). И все же и она была поставлена в Москве в театре братьев Аделыейм, а позже и в других городах России. Пьесы С.С. Юшкевича были переведены на многие языки мира. Переведенные на идиш, они шли в еврейских театрах России. Пожалуй, С.С. Юшкевич был единственным «реловским» писателем, пьесы которого ставились в русских театрах (пьесы Шолома Аша, поставленные в театрах России, были переведены с идиш).
Есть в драме Юшкевича «Король» такие слова: «Такого времени я не запомню, чтобы еврей шел против еврея. Этого никогда не было...». Семен Юшкевич был первым русско-еврейским литератором, отважившимся откровенно сказать об этом явлении («еврей против еврея») в литературе, хотя борьба между евреями (хасиды и ортодоксы не всегда «понимали» друг друга) имела место в России уже давно. И. Бабель, быть может, сам того не подозревая, был в этом смысле учеником и продолжателем С. Юшкевича. Достаточно вспомнить его «Короля» (Беню Крика), который «восстал» против собственного отца, «воевал» с евреями из других сословий (Эйхенбаум, Тартаковский). В этом С. Юшкевич и И. Бабель, да и другие писатели РЕЛ — Л. Леванда, Н. Осипович, С. Ан-ский — близки к социалистам, считавшим, что вражда социальная опаснее вражды национальной. Да и сегодня евреи, играющие в политику, лицемеря, лицедействуя, продолжают идеализировать быт еврейских местечек, обвиняя в его исчезновении Октябрьскую революцию, советскую власть. Все не так просто, но нуворишам, проникшим в русско-еврейскую культуру, этого не понять.
Так уж случилось, что ранние публикации С. Юшкевича появились в общероссийских журналах («Русское богатство» и др.), а первая большая рецензия на сборник его рассказов - в русско-еврейском журнале «Еврейская жизнь» № 6 (1907). Рецензия умеренно хвалебная. А немногим позже К. Чуковский написал большую статью в еженедельнике «Утро» (29.09.1908), озаглавив ее очень метко: «Чужой кошелек и Семен Юшкевич». Воспроизведем отрывок из этой рецензии: «Еврейский же интеллигент, оторвавшийся от своего родного народа, отрывается и от единственно доступной ему правды; приставая к народу русскому, к русскому языку и русскому искусству, он новой правды не обретает; он усваивает, но не творит; он копирует, но не рождает. Это страшная трагедия еврейского интеллигента, очутившегося в духовном плену у пушкинской, у толстовской, у чеховской культуры - и пусть он будет гениален, как десять Шекспиров, он не создаст ничего, он беспомощен и бессилен, потому что русский пафос - не его пафос» (98. С. 136). Но такая рецензия К.И. Чуковского выглядела бы более естественной, если бы ее написал кто-нибудь другой, скажем, литературовед-антисемит, а таких было немало. Что побудило К.И. Чуковского (антисемитом он никогда не был, да и не мог быть) написать такую рецензию? Впрочем, тогда, в 1908 году, уже назревал знаменитый «чириковский инцидент», который и состоялся в 1909 году. То есть активное вхождение евреев в русскую литературу начало вызывать не только раздражение, но и протест со стороны русских литераторов.
По мнению В.Л. Львова-Рогачевского РЕЛ начала века, то есть до появления прозы Юшкевича, не «замечала» новых веяний, новых настроений, новых героев, появившихся в последней четверти XIX века в еврейской среде. И самым неожиданным среди этих новых явлений была попытка многих уйти от своей религии. В драме С.С. Юшкевича «Голод» 60-летний глубоко верующий сторож Сем указывает на еврея-рабочего и называет его «врагом своего народа», ибо всякий, кто забыл Тору, уже не еврей.
Огромно было желание С. Юшкевича показать, что в начале XX века в большинстве своем евреи, бывшие местечковые фантазеры, «люди воздуха», переселившись в города, сделались людьми неуемного труда и трудолюбия. И это при всех страданиях, которые приносит им новая жизнь. Для героев С.С. Юшкевича город - тот же молох, что и для героев И. Куприна.
О таких писателях, как О.А. Рабинович, С.Я. Фруг, С.С. Юшкевич, Д.Я. Айзман, Л.О. Леванда, не скажешь, что они - заметные русские писатели. Но эти писатели - истинные и искренние таланты, преисполненные любви к своему народу и к русской словесности. И если их можно назвать классиками, то именно той части русской литературы, той ее ветви, которая называется РЕЛ.
«Заслуга С. Юшкевича в том, - пишет В.Л. Львов-Рогачевский, - что он показал всю гниль, всю мерзость запустения в старом здании, весь ужас социальной несправедливости. Некоторые страницы его книг (конец «Иты Гайне», конец «Евреев») производят потрясающее впечатление...
У него (Юшкевича — М.Г.) как и у героев «толпа в душе». С его стихийным талантом, лишенным всякой интимности, с его особенной манерой кричать, точно на площади, с его особенным, размашистым, хочется сказать, митинговым стилем, с его вечной темой о городе, он явился истинным художником большого города. В его творчестве встает «улица грозная, улица красная»» (138. С. 156). И далее, подробно останавливаясь на темах творчества С. Юшкевича, Рогачевский обратил внимание на желание автора выразить «нечеловеческие муки», постигшие евреев России в начале XX века, то есть в пору «распада» местечек, оказавшегося трагедией для многих его обитателей. Наверное, прав Рогачевский, заметив, что С. Юшкевич попытался «написать божественную комедию современности с ее адом, создать настроение, заставить прислушаться к проклятиям и стонам, и воплям, которые несутся из жилищ-склепов...». Многие читатели и почитатели творчества С.С. Юшкевича не могли пройти мимо того, что в творчестве его слишком много «агитоюьречей, иногда лозунговых, но чаще - назидательных, дабы вызвать сочувствие к евреям, покинувшим местечки и оказавшихся в городах. Вот цитата из его очерка «Евреи»: «Погруженные по сердце в труд, измученные, в длиннополых сюртуках, как армия бессмысленных рабов (не самое оригинальное сравнение — М.Г.), служившая неведомому хозяину, - никто не бросал на миг дела. Что им был весь прекрасный труд? Что им была жизнь?..
И то, что казалось он начинал свыкаться (один из персонажей очерка «Евреи» - М.Г.) с неизбежностью безумного труда, который раздавил и рассек его, что со всех сторон чужая жизнь билась в его душу и вырвала у нее участие, он сам пришел к норме, как приводится к правильному бегу молодая лошадь, если перегрузить ее тяжестью...».
М.Н. Цеглин (1905-1994)
Предок С.Я. Маршака в седьмом колене, отец Аарона Самуила — Израэль (он родился в Кайданове близ Минска), был человеком блистательной и трагической судьбы: спасаясь от бунтующих казаков, он вместе с семьей бежал в Люблин, но и здесь его настигли тяжелейшие испытания — на его глазах убили двух дочерей и сожгли бесценную его библиотеку. Только и эти испытания не убили в нем веру — человек, всю жизнь любивший книгу Иова, передал преданность Богу старшему сыну Аарону Самуилу, будущему раввину Франкфурта на Майне и Кракова. Смерть Аарона Самуила отмечена печатью святости — он умер, произнося молитву на съезде раввинов в Хмельнике.
Сын Аарона Самуила -— Цеви Гирш — написал немало книг, издал во Франкфурте сочинения своего отца. (Как повторяется история! Даже в кругу одной семьи! Спустя 200 лет, сын С.Я. Маршака — Иммануэль Самойлович подготовил после его смерти к изданию восьмитомное собрание его сочинений!) За книгу «Честная мера» Цеви Гирш угодил вместе с семьей в Виленскую тюрьму. Выйдя из тюрьмы после четырехлетнего заключения, он воскликнул: «О, человек, если бы ты знал, сколько дьяволов жаждуг твоей крови, то подчинился бы всецело и телом и душою Господу Богу!». Своим потомкам, среди них и будущему деду Самуила Яковлевича, он внушал вечные заповеди, подаренные Всевышним народу Израиля. Заветы эти передавались потомкам рода Маршаков из поколения в поколение и навсегда входили в их сердца. И в этой неразрывной преемственности, наверное, также истоки еврейской темы в творчестве Маршака.
В своей книге «В начале жизни», написанной Маршаком уже на склоне лет, есть немало страниц о его еврейском детстве. О своем отце Я.М. Маршаке поэт вспоминает: «Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность... Книжная премудрость считалась в его среде почетным делом...»; однако по пути своих предков Я.М. Маршак не пошел — «...не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу» — но именно такую дорогу выбрал отец Маршака. С.Я. Маршак родился в 1887 году в Воронеже, а в начале 1893 года семья Маршаков переехала в Витебск, где жил его дед по матери Б.А. Гительсон, занимавший пост казенного раввина при губернаторе. Маршак вспоминает, что дед по утрам долго молился и «читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги... Когда наши занятия понемножку наладились, дедушка осторожно предложил добавить к ним еще один предмет — древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого учителя, который будет с нами терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много» (152. С. 36).
Несмотря на детский возраст, Маршак довольно хорошо запомнил Витебск: «... С первых же дней я почувствовал, что все здесь какое-то особенное: ... много узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков... В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестянщиков, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь... Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски...» (152. С.26).
Все это — подтверждение ранее высказанной мысли о «генетическом» происхождении библейской (ветхозаветной) темы в творчестве Маршака. Сын С.Я. Маршака Иммануэль Самойлович рассказывал мне, что отец в юности прослыл не только знатоком иврита, но и Священного писания; он был одним из переводчиков поэтических текстов книги «Дом молитвы», изданной в !907 году в Вильнюсе, где издавалось много книг по иудаизму. Мне удалось разыскать эту книгу; к сожалению, имена переводчиков стихов в ней не указаны, — указан лишь переводчик всего текста — Вол., но приведу здесь не полный текст, а отрывок стихотворения «Песнь о козице». Обычно стихи такие, как и предпасхальные агады, читали и распевали в канун Пасхи:
По возвращению из Ялты в Петербург (1906 год) Маршак познакомился с одним из лидеров движения «Поалей Цион» (так называлась революционная организация молодых еврейских рабочих-сионистов) И. Бен-Цви. Как известно, пути И. Бен-Цви и С.Я. Маршака в дальнейшем разошлись: первый стал президентом Израиля (1952 год), второй —русским поэтом. Но тогда, в 1906 году, под влиянием своего старшего друга, Маршак перевел гимн еврейского рабочего движения «Клятва» (даже и по тем временам это было не совсем безопасно!); в различных изданиях он печатал стихи на еврейскую тему: «О, рыдай», «Инквизиция», «Песня скорби».
Стихотворение «Инквизиция» было написано в 1912 году и опубликовано в Петербурге в брошюре под рубрикой «Библиотека еврейской семьи и школы». Может быть, это не самое лучшее его стихотворение, но мы приведем его полностью, ибо оно буквально проникнуто пророческим духом — говоря об инквизиции, Маршак за три десятка лет предчувствует, описывает Холокост:
Это стихотворение, забытое в СССР на долгие годы, произвело огромное впечатление тогда, когда было опубликовано. Мне рассказывала сестра Самуила Яковлевича Юдифь Яковлевна, какое впечатление произвело это стихотворение на Сашу Черного. Я вспомнил об этом, когда, спустя много лет после беседы с сестрой поэта, прочел стихотворение Саши Черного «Легенда», написанное им уже в эмиграции в 1920 году.
Стихи и другие произведения на библейскую и еврейскую тему написаны Сашей Черным не без влияния Маршака, с которым его в молодости связывала дружба. Но в отличие от Маршака Саша Черный (псевдоним Александра Михайловича Гликберга) перешел в другую веру - принял христианство, побывал после февральской революции заместителем комиссара Северного флота. В жизни Маршака ничего подобного не было.
Свидетельств тому, что Маршак не изменил своей вере немало. Достаточно вспомнить полные любви и ностальгии по Витебску его детства удивительные страницы из его книги «Начало жизни». Помню, Юдифь Яковлевна рассказывала мне, что вскоре после войны Маршак осуществил перевод «Песен гетто» и продолжал работать над переводом «Еврейских мелодий» Байрона; мечтал перевести 136-й Псалом Давида, но почему-то бесконечно в ту пору перечитывал стихотворение Лермонтова «Плач Израиля» и после каждого чтения откладывал работу над переводом 136-го Псалма.
Итак, от библейской и еврейской темы Маршак никогда не уходил. Что же заставило его «скрывать», утаивать свои произведения? Можно ли осуждать его за это? Во времена поэта С.Я. Надсона (конец XIX века) слово «еврей» «в устах толпы» звучало «как символ отвержения». Во времена же поэта С.Я. Маршака это «отвержение» стало иным — оно от «толпы» перешло к вершителям судеб, и едва ли даже «Маршак Советского Союза» мог себе позволить повторить вслух слова Надсона «Дай скромно встать и мне в ряды твоих борцов, народ, обиженный судьбою!». В отличие от С.Я. Надсона, С.Я. Маршак не должен был «скромно встать в ряды» народа, его породившего, — он навсегда оставался с ним.
Поэт печали, гнева и любви хаиме нахмане бялике (1873 - 1934)
Я, конечно, предполагал, что поэтические судьбы Маршака и Мандельштама пересекались. В архивах Маршака, в его опубликованных сочинениях подтверждений этому я не нашел, но, когда читал библейские стихи Мандельштама, то уловил в них отзвук «Сионид» Маршака и его стихов из цикла «Палестина». Это отдельная тема, ожидающая своего исследователя, а сейчас позволю утверждать, что учителем был Маршак, хотя старше О.М. он был всего на 3 года, но библейские стихи написал задолго до того, как их создал Мандельштам.
О непростых отношениях, сложившихся между Маршаком и Мандельштамом, я прочел в воспоминаниях Надежды Яковлевны. Позже, читая письма Мандельштама, я понял, что во второй половине 20-х годов, положение Маршака в литературе было уже каким-то стабильным и от него что-то зависело (Маршак заключает договор с Мандельштамом на биографию Халтурина -плотника-народовольца...: «Это очень легко, я напишу за пять дней», — пишет он жене 7 февраля, 1927 года).
В письме к Надежде Яковлевне от 22 февраля по этому же поводу он сообщает: «Детский договор отвергнут. Не люблю Маршака»... (Думаю, и даже уверен, что «признание» это сделано О. Мандельштамом «в пылу гнева». Не понимал он тогда, что нож сталинской гильотины висел над ними обоими. Маршаку просто повезло...).
Из письма 23 октября 1926 года: «Но я хочу, мой родненький, взять работу от «Прибоя» и от Маршака и приехать к тебе. Я не знаю, удастся ли это без продажи какой-нибудь меблишки? Но ведь стоит, милый. Зачем нам вещи, когда мы не вместе?..».
Все попытки встретиться с Надеждой Осиповной в Крыму не осуществились. Из письма (ноябрь 26-го года): «А что ты скажешь о моем плане встретиться в Москве? Мне безумно хочется». И снова, сообщая о своих делах, О.М. сообщает о том, что Маршак ему предлагае осуществить пересказ Тартарена (повесть Доде. - М.Г.) по 80 рублей с листа (это чепуха: турусы (-пустая болтовня. — М.Г.) на колесах) и редактуру у него же по 50 рублей».
В воспоминаниях Н.Я. Мандельштам я прочел: «У О.М. был долгий период молчания. Он не писал стихов - прозы это не коснулось — больше 5 лет: с 1926 по 30-й год. То же произошло с Ахматовой — и она какое-то время молчала, а у Бориса Леонидовича это длилось добрый десяток лет. Можно ли считать случайностью, что трех действующих поэтов постигло временное онемение?.. Первым из троих замолчал О.М... Это случилось, вероятно, потому, что... отношения с эпохой стали основной движущей силой его жизни и поэзии. «Что-то, должно быть, было в воздухе, — сказала Анна Андреевна, и в воздухе действительно что-то было — не начало ли общего оцепенения, из которого мы и сейчас не можем выйти...».»
В своей «Второй книге» в главе «Несовместимость» Н.Я. Мандельштам пишет: «Про его публичные выступления я только слышала от тех, кто на них присутствовал. Ни меня, ни Ахматову на вечера стихов и на публичные выступления он не пускал. Наше присутствие в зале стесняло бы его... При мне лишь однажды... Мандельштам выступал очень резко ь оспаривал самое понятие «научная поэзия»... Вообще резкость суждений у нас осуждалась всеми кругами без исключения. На смену базаровщины 20-х годов пришло «изысканное» обращение, полутона, воркование. Самый доходчивый тон нашел Маршак, который, задыхаясь, говорил о любви к искусству, о Поэзии. На эту удочку клевали все. Называть вещи своими именами считалось неприличным, жесткая логика воспринималась как излишняя грубость...
Редактор, чтобы не скучать за чисто запретительными занятиями, возомнил себя стилистом, блюстителем языка и вдохновителем новых жанров. Одним из первых на этих ролях стал подвизаться Маршак. Хрипловато-вдохновенным голосом он объяснял авторам (у него были не писатели, но авторы), как они должны писать, развивая и украшая сюжет, выбиваясь в большой стиль. Поэзия в руках Маршака становилась понятной всем и каждому: все становились поэтичными, и голос у него дрожал... Он хотел превращать в писателя всех и каждого, кому хотелось писать, и у кого был хоть какой-нибудь опыт в какой-нибудь области... всякий ведь обладает опытом, и он-то и есть материал литературы, если его изложить хорошим языком... Сейчас еще ходят по земле писатели, с которыми работал Маршак. Они с умилением вспоминают его советы: знать про героя решительно все... Искать по газетам сюжеты для повести, чтобы по свежим следам воспроизводить опыт великой эпохи.
Поганый век - поганые книги, лишь бы они не одевались в приличное обличив. Я предпочитаю коммерсантов, загребающих деньги на детективах Маршакам.
Маршак исключительно умело избегал мысли и реальной действительности, которые были запрещены, предпочитая говорить обо всем «поэтическом»... Для души он завел целую коробку гладкой мудрости, вызывающую умиление даже у начальства. Он придумал литературный университет для школьников, вызвавший возмущение Мандельштама, который не переносил инкубаторов. Маршак—характернейший человек своего времени, подсластивший заказ, создавший иллюзию литературной жизни, когда она была уничтожена... Он нанес бы больший вред, если бы существовала неокрепшая мысль, которую можно было бы задушить, но мысль исчезла, и он ничего не уничтожил и не испортил, даже детей из кисло-сладкого университета. Дети эти принадлежали к обреченному поколению и погибли, кто на войне, кто -после войны... » (141. С. 335-336).) Вполне естественно, что оценки Н.Я. Мандельштам субъективны. С.Я. Маршак сделал так много доброго в русской литературе, не только детской, многим людям помог по жизни, стольких спас от неминуемой гибели, что имя его заслуживает истинного уважения. Трагедия Маршака в другом. Если бы не революция, Великая Октябрьская, то Маршак стал бы поэтом совсем другим, и, быть может, его место в русской поэзии было бы рядом с Ахматовой, Пастернаком, Мандельштамом. Ведь ранние стихи Маршака высоко ценил Блок, Саша Черный, да и сама Анна Андреевна. Но после революции Маршак, испугавшись собственных «Сионид», где были его стихи библейской силы, пошел другим путем... Но эта трагедия не зависела от его характера. Здесь уместно вспомнить слова Надежды Яковлевны Мандельштам: «Такой была не я, а то, что сделала из меня эпоха». И Маршак стал таким, каким сделало его время. «Именно в 1920 году ушел из РЕЛ (русско-еврейская литература) самый многообещавший поэт... С. Маршак». И как бы прощаясь с «Сионидами» и вообще с еврейской темой, в 20-м году Самуил Яковлевич урезал до неузнаваемости свое замечательное стихотворение «Мы жили лагерем в палатке» из цикла «Палестина», напечатанное за три года до этого полностью в сборнике «У рек Вавилонских». И все же после Маршака, Мандельштама остались стихи, записки, а о театре Михоэлса, да и о нем самом только воспоминания. Есть у Маршака такие стихи, посвященные Тамаре Габбе: Люди пишут, а время стирает, Все стирает, что может стереть. Но скажи, - если слух умирает, Разве должен и звук умереть? .. (155. С. 127)
У рек вавилонских (незапоздалые размышления об одном русско-Еврейском литературном феномене)
Спустя какое-то время Ирина Ильинична вдруг спросила: "Так как фамилия нашего гостя? Глейзер?" - "В том-то и дело, что не Глейзер, а Гейзер!" — сказал Константин Лазаревич.— "Гейзер... Гейзер... - повторила Ирина Ильинична, - почему-то знакомо". - "Наверное, потому что фонтанирует", - пошутил Константин Лазаревич.
Разговор затянулся надолго. Мы много курили. За весь вечер я, кажется, не произнес ни одного слова. Уходя, К.Л. Рудницкий спросил хозяйку, можно ли Матвею Моисеевичу ей звонить. — "Безусловно", - ответила она.
Поздно вечером мы поднялись к Константину Лазаревичу пить кофе. В тот день он подарил мне свою книгу "Всеволод Мейерхольд". Об Ирине Ильиничне Эренбург я знал из мемуаров ее отца "Люди, годы, жизнь". Мне порой хогелось позвонить ей, но повода не было, а без повода... В доме, где жила Ирина Ильинична, даже в том же подъезде, я бывал часто. Кроме К.Л. Рудницкого там жил Александр Петрович Межиров, поэт, с которым я дружил и которого боготворил. От него я впервые услышал стихи раннего Эренбурга. В чтении А.П. Межирова стихи эти потрясли меня, и я тогда решил, что Эренбург - прежде всего большой поэт своего времени, начавшегося, как известно, еще в пору Серебряного века. Писатель, публицист - это уже производные. Правда, позже я уже не был так категоричен.
Весной 1990 года вскоре после знаменитого "еврейского погрома" в ЦДЛ (надо же такому совпасть!) вышла моя первая книга "Соломон Михоэлс". Я подарил ее Ирине Ильиничне. Недели через две я встретил ее на улице Усиевича. Она не узнала меня, но я вновь представился, и она живо все вспомнила. Потом сказала: "Книга ваша, в особенности добросовестный труд, вложенный в ее создание, заслуживают похвалы. Вы уже человек взрослый, и похвала вас не испортит, но книга-то - не годится! В ней сотни, боюсь, тысячи ошибок, описок, опечаток. Так нельзя! Попросили бы меня. Я бы стала корректором этой книги из уважения к памяти Михоэлса и Анастасии Павловны". Я растерялся, даже испугался. Видимо, Ирина Ильинична поняла это и, прощаясь, сказала, что верит в переиздание книги и тогда ошибки эти можно будет устранить. "Когда будете в нашем доме, обязательно зайдите ко мне. Я покажу вам что-то для вас интересное и неожиданное".
Прошло какое-то время. Я позвонил Ирине Ильиничне, и мы условились о встрече. Когда я пришел к ней, она, приподняв очки и внимательно посмотрев мне в глаза, спросила: "Вы все помните из своей юношеской жизни?" Я растерялся. Она открыла папку. В ней — письма, написанные моим почерком. Тут я совсем опешил. Но мигом вспомнил. В начале 60-х я зачитывался мемуарами Ильи Эренбурга. В Аккермане мы записывались в очередь на "Новый мир", чтобы получить журнал на ночь из читального зала домой.
Никогда не забуду: зимой 1963 года в "Известиях" я прочел разгромную статью о мемуарах Эренбурга. Автором ее был сам В.В. Ермилов - "генерал" в области разгромных статей в период "борьбы с космополитизмом". Статья называлась: "Необходимость спора". Когда я прочел ее, и, в особенности, отклики на эту публикацию в следующих номерах газеты, мне показалось, что времена разгромов (погромов), имевшие место в конце 40-х - начале 50-х — возродились. Возмущались мемуарами И.Г. Эренбурга рабочие, служащие, даже крестьяне. Все кричали: "Ура, Ермилов!" и никто даже не попытался сказать доброе слово об Эренбурге, так много сделавшего для своей страны не только в области литературы... Статья Эренбурга, помещенная в этом же номере газеты, показалась мне ненужным оправданием. (Стоит ли метать бисер перед свиньями?)
Я решил принять участие в этой "полемике", написал письмо, в котором восхищался мемуарами Эренбурга, и отправил его в "Известия". Дабы показать свою "эрудицию", я процитировал Энгельса, который "из книг Бальзака узнал о французской истории больше, чем из учебников". Ответа из редакции, разумеется, не получил, но Александр Степанович Огородник, директор щколы, в которой я работал, замечательный человек, сказал мне тихо: Зачем тебе понадобился этот Эренбург, или как там его зовут? Смотри - доиграешься, мамка будет плакать. О нем плохо написал сам Ильичев, секретарь ЦК, наш главный идеолог. И все же я отважился написать письмо И.Г. Эренбургу, но, не имея его адреса, письмо отправил через С.Я. Маршака.
Прочитав в доме Ирины Ильиничны это, почти тридцатилетней давности письмо, я удивился своей смелости. Впрочем, тогда были времена, названные с легкой руки Эренбурга, "хрущевской оттепелью ". Я был не единственный, кто поверил в то, что свобода нам дарована. А вот, что в 1963 году она уже заканчивалась (или закончилась) - не заметил. Ответ от Ильи Григорьевича я получил. С годами и переездами письмо это затерялось. И только у Ирины Ильиничны я прочел его: "Уважаемый товарищ Гейзер, мне переслали Ваше письмо - спасибо Вам за него. От души желаю Вам всего доброго. Москва, 10 мая 1963 г."
Следующее мое письмо к Илье Григорьевичу было полно гнева и злости к правителям Западной Германии, за их намерение в 1965 году выдать "индульгенцию" бывшим фашистским палачам. Я помнил наизусть слова Ильи Григорьевича: "Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, это мнимые добряки - они готовят смерть миллионам невинных", Я просил Илью Григорьевича опубликовать мое открытое письмо в центральной прессе. Вскоре получил ответ: "Уважаемый товарищ Гейзер, благодарю Вас за письмо и за доверие, но у меня нет ни малейшей возможности опубликовать, как Вы просите, Ваше "открытое письмо" - я не состою в редколлегиях наших газет. Кроме того, решение об оттяжке до 1969 года в Бонне уже принято. Желаю Вам всего доброго. 3 апреля 1965 года".
Ирина Ильинична рассказала мне, как беспокоился Илья Григорьевич о молодых провинциальных интеллигентах. "Хоть бы им не досталось за то, что пишут мне..." И. Эреябург отвечал на каждое письмо, хотя он задыхался от недостатка времени и сил. В это время, то есть в пору публикации мемуаров, для него, как говорила мне Ирина Иьинична, была важна любая поддержка. Она почему-то напомнила мне слова Эренбурга, сказанные им еще в 1959 году. Я записал их: "Мы слишком часто бываем в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий;... мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств... Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги..."