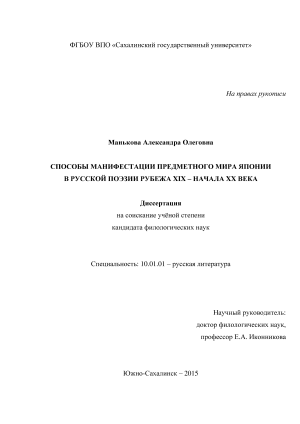Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Понятие предметного мира в отечественном и зарубежном литературоведении. Ориентальное как часть предметного мира 14
1.1. История изучения понятия предметного мира 14
1.2. Понятие предметного мира в литературоведении XX - начала XXI века 24
1.3. Ориентальное в предметном мире русской поэзии рубежа XIX - начала XX века 48
Глава 2. Предметный мир Японии в русской поэзии: от Иннокентия Анненского до Андрея Белого 66
2.1. Японизмы в поэзии Константина Бальмонта и Валерия Брюсова 66
2.2. Тематическое расширение традиционных японских образов в поэзии Иннокентия Анненского и его последователей 91
2.3. Классические жанры японской поэзии как отражение ориентального в поэзии Константина Бальмонта и его современников 117
Глава 3. Предметный мир Японии в творчестве отечественных поэтов: от Велимира Хлебникова до Владимира Маяковского 145
3.1. Японизмы в поэзии Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и Игоря Северянина 145
3.2. Традиционные образы и классические жанры японской поэзии как способы воссоздания ориентального предметного мира 172
Заключение 190
Список литературы 202
- Понятие предметного мира в литературоведении XX - начала XXI века
- Ориентальное в предметном мире русской поэзии рубежа XIX - начала XX века
- Тематическое расширение традиционных японских образов в поэзии Иннокентия Анненского и его последователей
- Традиционные образы и классические жанры японской поэзии как способы воссоздания ориентального предметного мира
Понятие предметного мира в литературоведении XX - начала XXI века
Предметный мир как объект научного познания начал оформляться ещё со времён античности. При этом философы и критики исследовали его в контексте более ёмких категорий, часто избегая номинации или давая индивидуально-субъективное обозначение. Вследствие этого стало известно значительное количество определений, отражающих сущность предметного мира. В современной науке предметный мир воспринимается как одна из актуальных дефиниций, которая активно исследуется философами , искусствоведами и литературоведами3.
О содержании предметного мира задумывались античные мыслители и именитые европейские философы: Платон («Государство», 360 г. до н. э.), Аристотель («Поэтика», 335 г. до н. э.), Г.В.Ф. Гегель («Эстетика», 1744-47), П.А. Флоренский («Обратная перспектива», 1919), Г.Г. Шпет («Внутренняя форма слова», 1927), Р. Ингарден («Двухмерность структуры литературного произведения», 1940-47), Н. Гартман («Эстетика», 1945) и др.
К предметному миру обращались представители отечественной критики: СП. Шевырёв («Словесность и торговля», 1835; «Похождение Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н.В. Гоголя», 1842), В.Г.Белинский («Горе от ума... Сочинение А.С. Грибоедова», 1839), П.В. Анненков («Характеристики: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой», 1855; «Русская беллетристика в 1863 году», 1963) и др.
При этом в философском восприятии понятие предметного мира как таковое представлено неполно. Существуют сходные по значению понятия предметность, предмет, вещь и др. Под предметом с точки зрения философии понимается вещь, объект в самом широком смысле, любое сущее, которое, благодаря наглядному образу или внутреннему смысловому единству, выступает как ограниченное и завершённое. В этом смысле предметом является «всякое данное, (противостоящее) простому переживанию (сознанию) нечто, имеющее индивидуальную форму»l. В качестве основных предметов можно различить: вещь (физический, принадлежащий внешнему миру предмет), понятие (логически мыслимый предмет) и состояние как предмет (общие состояния чувств или духовная направленность, например, дух времени).
Также часто в философии предмет рассматривается как антипод объекту и представляет собой «категорию, обозначающую некоторую целостность, выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания» . В философии XX века под предметностью понимается «свойство объекта (явления, процесса, действия, состояния) выступать в качестве предмета практической или теоретической деятельности человека»3.
Предметность знания и связанных с ним гносеологических категорий основывается на его объективном характере, благодаря которому знание служит отражением материального мира. Обособленно в философии рассматривается понятие вещи как «отдельного предмета материальной действительности, обладающего относительной независимостью и устойчивостью существования»4.
Древнегреческие философы Платон (428/427-348/347 до н. э.) и Аристотель (384-322 до н. э.), рассуждая о сущности поэтического искусства, говорили о зависимости слов от предмета речи, или от предмета подражания. У Платона в работе «Государство» (книга III) (360 г. до н. э.) подражание трактуется как «область субъективных выдумок человека искусства, не имеющая ничего общего с объективным бытием, которое в божественном мире отличается благородством и достоинством, не впадая в чисто человеческие слабости и не лишаясь выдержки и умеренности»1.
Философ так определил место подражания в системе поэтического искусства: один род поэзии целиком складывается из подражания (трагедия, комедия), другой род состоит из высказываний самого поэта (дифирамб), третий род - эпический, соединивший рассказ и драматическую речь2. Решающим моментом становится даже не само подражание, а его предмет. Истинное подражание, по Платону, даже нельзя назвать подражанием, так как оно есть «творчество самих вещей, а вовсе не творчество только одних образов вещей» .
По Аристотелю, подражание есть творчество, к которому человек склонен по своей природе: «Подражать присуще людям с детства: люди тем ведь и отличаются от остальных существ, что склоннее всех к подражанию, и даже первые познания приобретают путём подражания»4 . Согласно Аристотелю, существуют три различия в способе подражания: чем подражать, чему и как. Бытие, которое является предметом подражания, есть прообраз художественного произведения, которое «имеет своей целью не просто буквально воспроизвести тот или иной первообраз; оно должно заставить нас всё время сравнивать художественный образ с художественным первообразом» 5 . Искусство, по убеждению Аристотеля, не просто копирование. Это творческое воссоздание того, что могло бы быть с позиции вероятности или необходимости. В свою очередь художественный предмет не является предметом обиходного восприятия: он становится обобщённым построением «в противоположность тем единичным вещам и предметам, с которыми имеет дело историк при изучении им отдельных фактов, и с которыми мы имеем дело в быту и в обыденной жизни» .
Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) в «Эстетике» (1818-29) писал о точках видимой поверхности - «телесная форма, выражение лица, жесты и манера держаться, ... поступки и события, модуляции голоса, речи и звука» , - которые выражают душу художественного образа. Специального, искусствоведческого обозначения этих «точек поверхности образа» у Гегеля нет, но, как позже утверждал Г.Н. Поспелов, «это не точки, это детали предметной изобразительности» .
В 1821 году в России вышел первый словарь литературоведческих терминов, создателем которого стал Н.Ф. Остолопов (1783-1833). «Словарь древней и новой поэзии»4 состоял из трёх частей, при этом статьи, посвященные предмету, вещному или предметному миру, в нём не заявлены.
В статье СП Шевырёва (1806-1864) «Словесность и торговля» (1835) рассуждения критика сконцентрированы вокруг состояния словесности середины XIX века. Так же, как и другие предшественники, СП. Шевырёв указывал на различные элементы предметного мира. В обращении к некоему другу критик спрашивал: «И ты, в счастливом заблуждении, воображаешь себе, что романисты наши в своих произведениях, стремятся выразить век, характер народа или эпохи, живую картину человечества в известное время5, в известном быту, в известном состоянии; ты думаешь, что вдохновение, согласно с характером эпохи, обращает их перо на роман, а не на драму, не на поэму?»6.
Ориентальное в предметном мире русской поэзии рубежа XIX - начала XX века
В современном литературоведении назрела необходимость в подробном описании фактов проникновения восточной культуры в отечественную поэзию. Процесс интеграции и взаимообогащения художественного опыта разных стран на примере литературных произведений воспроизводит интерес к детальному рассмотрению этого феномена. Приобретённые знания, полученные при знакомстве поэтов с неизвестными ранее реалиями, утверждаются в понимании и впоследствии воплощаются в литературе. Полученная информация о жизненном укладе других народов, их языке и обычаях естественным образом влияет на поведение, возникновение в речи других слов, а в некоторых случаях корректирует мировоззрение. Можно сказать, что обновлённое восприятие жизни из реальности перетекает в художественный замысел и воплощается в предметном мире литературного произведения, которое становится способом передачи новой информации. Так происходит знакомство одного народа с культурой другого, а лексический состав и образная система языка обогащаются благодаря освоенным реалиям. Стержневым элементом в этом процессе является субъект передачи информации - автор с его индивидуальной точкой зрения. Пропуская всё происходящее через собственное восприятие, он фиксирует то, что видит «здесь» и «сейчас». В этом смысле автор является независимой стороной.
Вместе с тем интерес представляет соотнесённость описанного предметного мира с принадлежностью произведения той или иной национальной литературе. Под национальной литературой понимается «совокупность художественных произведений, созданных на одном языке чаще всего в пределах единой государственной системы, общей территории» l . К таким произведениям относятся тексты, написанные представителями разных этносов на национальном языке территории создания. Например, в русской литературе национальным языком является русский. Однако произведения русской литературы могут создаваться людьми всевозможных национальностей, но владеющих русским языком и выражающих своё представление о мире именно по-русски.
В таком ракурсе интересны произведения, в которых описана культура чужой страны на родном языке, например, русскоговорящего автора. Так, в ориентированном на отечественных читателей рассказе Бориса Пильняка «Олений город Нара» (1927) описываются отдельные особенности Японии. Подобные сочинения входят в состав русской национальной литературы. Отражённый в таких произведениях предметный мир по-прежнему будет принадлежать культуре представленной нации (японской). То есть неважно, на каком языке написано произведение, и к какой национальной литературе в конечном итоге оно будет относиться. Понятие предметного мира остаётся свободным от стороннего влияния. Автор при этом является объективным носителем полученной и индивидуально освоенной информации.
В мировой литературе известны феномены, когда результаты творчества одного человека принадлежат разным культурам. Например, Владимир Набоков и Иосиф Бродский писали и по-русски, и по-английски. При этом созданные на русском языке произведения этих авторов - это достояние русской литературы, а произведения на английском языке относятся к англоязычной культуре.
В начале XX века интерес отечественных поэтов к Востоку способствовал появлению возможности сравнивать новые для себя знания с известными западными реалиями. В представлении русских художников слова появились
Иконникова Е.А. Литература Сахалина и Курильских островов в контексте национальной и мировой культуры (на примере стран Азиатско-Тихоокеанского региона) // Коды русской классики: «провинциальное» как смысл, ценность и код. Самара: Издательство «Самарский университет», 2008. С. 70. предметы и явления, которые постепенно становились доступными для понимания. При этом часто между восточными государствами не проводилось никаких различий, а передавалось только общее впечатление от экзотических стран. По словам Л.А. Колобаевой, к концу XIX столетия «во всём угадывалось предвестье нового литературного века - тот момент истории, когда Запад вспомнил о Востоке, а Восток потянулся к Западу, когда поэты уловили потребность человечества представить, обозреть, осознать себя в целом. Совершался поиск методов глобального художественного обобщения» l. Для отечественных поэтов творческие поиски, направленные в область Востока, были подчинены их теоретическим убеждениям. Представители каждого из существующих литературных течений в индивидуальной манере воссоздавали особенности культуры Востока в соответствии с выбранным курсом поэтического творчества. Ориентальное, включающее в себя совокупность мотивов и стилистических приёмов восточного искусства, исторических и бытовых сюжетов Востока в культурах европейского типа , нашло безусловное отражение в отечественной литературе и способствовало знакомству русских людей с экзотической культурой.
Русские писатели и поэты использовали восточный колорит, исходя из задач литературных течений. Символизм, согласно своей концепции, был тесно связан с «кризисом искусства» и «кризисом познания». Именно в творчестве символистов впервые появились попытки выработать иные принципы поэтической изобразительности. Связывая свои онтологические поиски с Востоком, символисты стремились создать особый тип художественного самосознания. Акмеисты, в свою очередь, описывая Восток, пытались сделать его более понятным и отчасти лишённым свойственной символизму таинственности. Для футуристов восточная непознанность становилась антиподом уже известному и пришедшему к определённому тупику Западу.
Тематическое расширение традиционных японских образов в поэзии Иннокентия Анненского и его последователей
Иногда поэт использовал лексику, которая одновременно соотносится с национальными и религиозными особенностями отдельных стран. Например, слова «Будда», «циновка» и «чай». По национальному признаку эти элементы причастны к японской, китайской и индийской культурам, а с точки зрения религиозной принадлежности - к буддийской. Причинами этого можно назвать распространение одной религии на территориях нескольких государств, заимствование предметов или одновременное их возникновение в разных странах.
Ещё одним поэтом, проявившим интерес к Японии, стал Валерий Брюсов (1873-1924). На его творчество значительное влияние оказала Русско-японская война, которая способствовала развитию «гражданской» лирики. Военные события, связанные с Японией поэт воспринял как выполнение исторической миссии России. В письме от 19 марта 1904 года он писал товарищу по литературному цеху П.П. Перцову (1868-1947): «Пусть вся Япония обратится в мёртвую Элладу, в руины лучшего и великого прошлого - а я за варваров, я за гуннов, я за русских! Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке!». Эта позиция отчётливо отразилась в стихотворениях «К Тихому океану» (1904), «К согражданам» (1904), «Цусима» (1905), «Да! Цепи могут быть прекрасны» (1905). В рукописи последнего стихотворения Валерий Брюсов сделал помету: «По поводу заключения мира с Японией и по другим поводам»1. Демонстрируя активную гражданскую позицию, Валерий Брюсов не оставался в стороне от геополитических событий на Востоке. Япония воспринималась им как соседствующее с Россией государство. Такое обстоятельство давало возможность культурного диалога и художественного обогащения русской поэзии. Как и другие отечественные поэты, Валерий Брюсов проявлял интерес
Вот почему он написал стихотворение «Проснувшийся Восток» (1911) и включил в свою незаконченную книгу стилизаций на темы восточной поэзии «Сны человечества» (1913) несколько так называемых «танок» и «хай-кай». В примечаниях к этой книге Валерий Брюсов писал: «Танка, любимая форма старояпонских поэтов, стихотворение в тридцать один слог, расположенный в пяти стихах, по характеру японского языка - без рифм. Хай-кай - как бы укороченная танка, её три первых стиха» \
Следует отметить, что более глубоко Валерий Брюсов был сосредоточен на жанровом сходстве своих стихотворений с японскими поэтическими формами, чем на воссоздании японской культуры через поэтические образы. По словам А.А. Долина, отсутствие указаний на источник и авторство нескольких танка, помещённых в книгу стилизаций «Сны человечества» свидетельствует о том, что «все стихи являются вольными переложениями либо импровизациями на темы французских, немецких и русских переводов (поскольку японского языка поэт не знал). Но в первую очередь, разумеется, Брюсов рассматривал эти миниатюры как свою авторскую работу» . Вместе с тем при рассмотрении в творчестве Валерия Брюсова особенностей предметного мира Японии можно выделить специфические географические реалии и слова, представляющие культуру этой страны.
В цикле стихотворений «Японские танки и ута», предположительно написанном в 1913-1915 годах и относящимся к книге «Сны человечества», поэт использовал географическое название «Икуто». В антологии японской поэзии «Манъёсю» («Собрание мириад листьев») (вторая половина VIII века) прописан эпизод, в котором рассказывается о девушке, не сумевшей сделать выбор между двумя мужчинами, претендующими на её руку. Не найдя правильного решения, девушка бросилась в реку Икута. Валерий Брюсов
Брюсов В. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. / под общ. ред. П.Г.Антокольского. М.: Художественная литература, 1974. С. 545. В традициях японских пятистиший Валерий Брюсов, используя приём параллелизма, соотнёс чувство одиночества лирического героя с опавшими лепестками, которые подчинены воле ветра и реки.
В переводе памятника японской литературы Л.М. Ермаковой название реки представлено как «Икута». Валерий Брюсов предложил другой вариант написания - «Икуто». На современных картах Японии эта река находится в районе города Кобе, обозначается как Икутагава и пишется тремя иероглифами: «ику» ( Ё - быть живым), «та» (й- поле), «ґава» (ЛІ- река). Вариант, предложенный Валерием Брюсовым, можно рассматривать как возникший вследствие элементарной ошибки, отсутствия у поэта знаний по этому вопросу.
Приём диалогизации стал структурообразующим для трёхстишия Валерия Брюсова. Лирический герой как будто вступает с кем-то в разговор, смысл которого реализуется при помощи звуковой и световой организации стихотворения. Лирический эпитет, обращенный к девушкам, создаёт ощущение интимной приглушённости всего вокруг, усиливающееся настороженным призывом «Тише, что это?». Следующее за ним фееричное действие с участием музыкальных инструментов и яркой бутафории нарушает спокойную обстановку и создаёт шумную атмосферу праздника.
Валерий Брюсов, обращаясь к русской грамматике, употребил второе слово в приложении «мусмеи» во множественном числе. Формальным показателем выступает флексия и- и определяемое слово «Снежинки», также стоящее во множественном числе. Согласно правилам русского языка, приложение употребляется в той же форме, что и определяемое слово. Так, Валерий Брюсов продемонстрировал попытку освоения русским языком японизма «мусмэ». Однако ни это слово, ни какие-либо его варианты не нашли закрепления в современных отечественных словарях
Традиционные образы и классические жанры японской поэзии как способы воссоздания ориентального предметного мира
Константин Бальмонт в свойственной ему манере использовал приём цветописи. В стихотворениях очень много света: «Япония Основа Солнца, Корень Света», «весна светла», «лунный луч», «свечи храма», «светят хризантемы», «светят в небе звёзды», «ирис, как светильник». Часты употребления обозначений алого и розового цветов: «полураскрыты нежно губы», «нежнорозовый расцвет», «был расцвет махровых вишен», «Солнца ярко-алый шар», «чары вишни в цвету велики». Нередко можно найти и оттенки синего: «синий небосклон», «синий цвет владеет мной», «были гроздья там глициний». В стихотворениях есть случаи противопоставления красного и белого цветов:
Был расцвет махровых вишен, Мгновенья белый ткут душе убор Были гроздья там глициний, С исподом красным. Алый в белом был утишен И смягчён был нежно синий. («В Камакуре», 1924) («В чайном домике», 1916) Красно-белое сочетание прослеживается через всю японскую историю: с давних времён государственный флаг Японии представляет собой белое полотно с большим красным кругом в середине, олицетворяющим восходящее солнце.
Стихотворение «Жемчужная раковина» (1923) метафорически обращает читателей к мифической истории о создании японских островов. Однажды бог Идзанаги (первый мужчина) стоял в океане с супругой, богиней Идзанами (первой женщиной), опускал копье в воду и вынимал его оттуда. Капли воды на копье загустели и, упав в океан, образовали первый из японских островов1:
Мне памятен любимый Небом край. Жемчужною он раковиной в море Возник давно, и волны в долгом хоре Ему поют: «Живи. Не умирай». («Жемчужная раковина», 1923) Таким образом, подобно поэзии Иннокентия Анненского, расширение пространства предметного мира в стихотворениях Константина Бальмонта происходило благодаря раскрытию новых значений привычных для русских читателей образов. В основном это проявилось на примере природных реалий и элементов национальной культуры. Вместе с тем такое расширение границ предметного мира происходило в неразрывной связи с уникальным творческим стилем автора. Эксперименты с цветом и светом, смелое использование всевозможных тропов - всё это усиливало восприятие и без того очень эмоциональных стихотворений поэта.
Иногда в лирике Константина Бальмонта наблюдается явное и несколько неуместное смешение образов, принадлежащих разным культурам (например, привязывание коня к вишне). Это создаёт комический эффект. Кроме этого, интерес представляет наблюдение за бытованием одного и того же образа (например, кукушки), помещённого в разные культурные контексты. В поэзии Валерия Брюсова (1873-1924) тематическое расширение привычных образов можно проследить на примере природных реалий. Этот процесс у поэта представлен небольшим количеством пятистиший подражаниям традиционным миниатюрам. Из явлений, характерных для предметного мира Японии, Валерий Брюсов использовал образы гор и вишен: По волнам реки Не весенний снег Неустанный ветер с гор Убелил весь горный скат: Гонит лепестки. Это вишни цвет! Если твой я видел взор, Ах, когда б моя любовь Жить мне как же с этих пор? Дожила и до плодов! (1913) (1913-1915)
Средняя полоса России и европейская её часть характеризуются отсутствием горных массивов. Исторически сложилось, что русские поэты, обращаясь к описанию гор, изображали Кавказ (см., например, произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова) или рельефы европейских стран. Известно, что творчество Валерия Брюсова тесно связано с Арменией. Под его редакцией в 1916 году вышел сборник «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней», в который вошли переводы из армянской поэзии, цикл оригинальных стихов об Армении, очерк «Летопись исторических судеб армянского народа» и ряд авторских статей. Валерий Брюсов активно выступал с лекциями об армянской литературе и сам неоднократно бывал в Закавказье. Это означает, что образ гор для поэта был очень близок. Известны, например, его стихи «К Арарату» (1916), «Тигран Великий» (1916), «Победа при Каррах» (1916) и др.
В древних поэтических текстах Японии существует немало стихотворений со схожими сюжетами. Например, содержащаяся в «Собрании старых и новых песен Японии» танка, автором которой является Ки-но Томонори (845-905):
Этот вишенный цвет, что в Ёсино горные склоны пеленою укрыл, обознавшись, принял я нынче за остатки зимнего снега1. (пер. А.А. Долина) При прочтении этого стихотворения легко улавливается связь с одним из пятистиший Валерия Брюсова, которое, в некоторой степени, является аллюзией к распространённому в японской культуре образу горных склонов, покрытых опавшими лепестками вишни. Горы Ёсино в японской культуре являются знаковым местом. Эти склоны изобилуют удивительными деревьями сакуры - считалось, что во время цветения это самое красивое место во всей Японии. Именно на горы Ёсино в течение многих столетий совершали паломничества императоры в поисках уединения. Авторская переработка Валерием Брюсовым известных в японской культуре сюжетов дала возможность русским читателям переосмыслить привычные образы. Л.А. Колобаева верно отметила, что важной особенностью творчества Валерия Брюсова является наличие «энергии в его лирическом голосе», присутствие «своеобразной предметной выразительности». Валерий Брюсов, по мнению литературоведа, «сознательно стремился широко раздвинуть пределы того, что мы называем "лирическим стихотворением"» . И действительно, свойственная всему творчеству яркая «предметная выразительность», активно проявилась и в поэзии, связанной с японской художественной традицией.