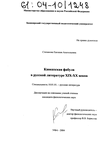Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I "Каторжная проза" русских писателей XIX века - прообраз "лагерной прозы" С. 19-110
1 Жанровое своеобразие «каторжной прозы» XIX века С. 24-40
2 Образ Мертвого дома в изображении Ф. М. Достоевского, П. Ф. Якубовича, А. П. Чехова С. 41-60
3 Проблема природы и свободы человека в «каторжной прозе» XIX в С. 61-85
4 Мотивы одиночества и парадоксы человеческой психики С. 86-97
5 Тема палача и палачества в «каторжной прозе» XIX века С. 98-110
ГЛАВА II Образ лагеря как образ абсолютного зла в «лагерной прозе» XX века С. 111-214
1 Жанровое своеобразие и особенности проявления авторской позиции в «лагерной прозе» XX века С. 114-127
2 Тема Мертвого дома в «лагерной прозе» XX века С. 128-165
3 Проблема нравственной стойкости человека в лагерном мире С. 166-184
4Проблема противостояния «социально-близких» и интеллигенции С. 185-198
5 Тема палачества в «лагерной прозе» XX века С. 199-216
Заключение с. 217-224
Список литературы с. 225-236
- Жанровое своеобразие «каторжной прозы» XIX века
- Образ Мертвого дома в изображении Ф. М. Достоевского, П. Ф. Якубовича, А. П. Чехова
- Жанровое своеобразие и особенности проявления авторской позиции в «лагерной прозе» XX века
- Тема Мертвого дома в «лагерной прозе» XX века
Введение к работе
В наши дни становится очевидным, что «лагерная проза» прочно вошла в литературу, как проза деревенская или военная. Свидетельства очевидцев, чудом выживших, спасшихся, восставших из мертвых, продолжают поражать читателя своей обнаженной правдой. Возникновение этой прозы - явление уникальное в мировой литературе. Как заметил Ю. Сохряков, эта проза появилась благодаря "напряженному духовному стремлению осмыслить итоги грандиозного по масштабам геноцида, который проводился в стране на протяжении всего двадцатого столетия" (125, 175).
Все, что написано о лагерях, тюрьмах, острогах - это своеобразные исторические и человеческие документы, дающие богатую пищу для размышлений о нашем историческом пути, о природе нашего общества и, что немаловажно, о природе самого человека, которая наиболее выразительно проявляется именно в чрезвычайных обстоятельствах, какими и были для писателей-«лагерников» страшные годы тюрем, острогов, каторги, ГУЛАГа...
Тюрьмы, остроги, лагеря - это изобретение не нового времени. Они существовали со времен Древнего Рима, где в качестве наказания применяли высылку, депортацию, «сопровождающуюся наложением цепей и тюремным заключением» (136, 77), а также пожизненную ссылку.
В Англии и Франции, например, весьма распространенной формой наказания преступников, за исключением тюрем, была так называемая колониальная высылка: в Австралию и Америку из Англии, во Франции - ссылка на галеры, в Гвиану и Новую Каледонию.
В царской России осужденных отправляли в Сибирь, позднее - на Сахалин. Опираясь на данные, которые приводит в своей статье В.
Шапошников, нам стало известно, что в 1892 году на территории России было
11 каторжных тюрем и острогов, где содержалось в общей сложности 5 335 человек, из них 369 женщин. «Эти данные, полагаю, - пишет автор статьи, - вызовут саркастическую усмешку в адрес тех, кто долгие годы вдалбливал в наши головы тезис о невероятных жестокостях царского самодержавия и называл дореволюционную Россию не иначе как тюрьмой народов» (143, 144).
Передовая, просвещенная часть русского общества XIX века страдала оттого, что в стране, пусть даже в далеких Нерчинских рудниках, людей содержат под стражей, заковывают в кандалы, подвергают телесным наказаниям. И первыми, самыми активными просителями за смягчение участи осужденных, были писатели, создавшие целое направление в русской словесности, которое было достаточно мощным и заметным, поскольку свою лепту в него внесли многие художники слова прошлого века: Ф. М.
Достоевский, П. Ф. Якубович, В. Г. Короленко, С. В. Максимов, А. П. Чехов, Л.
Н. Толстой. Это направление условно можно назвать «каторжной прозой».
Основоположником русской «каторжной прозы», безусловно, является Ф. М. Достоевский. Его «Записки из Мертвого дома» потрясли Россию. Это было как живое свидетельство из «мира отверженных». Сам Достоевский справедливо досадовал на то, что его произведение читают как непосредственное свидетельство жестокого обращения с арестантами, игнорируя его художественную природу и философскую проблематику. Д. И. Писарев был первым из критиков, кто раскрыл для читателей идейную глубину произведения и связал образ Мертвого дома с различными общественными институтами России.
Высокую оценку «Запискам из Мертвого дома» дал и Н. К. Михайловский. Относясь в целом к творчеству Достоевского негативно, он вместе с тем делал исключения для «Мертвого дома». Факт определения им «Записок» как произведения с «гармонической» и «пропорциональной» структурой требует от современных исследователей особого внимания и тщательного изучения именно с этой точки зрения.
Современный исследователь В. А. Недзвецкий в статье «Отрицание личности: («Записки из Мертвого дома» как литературная антиутопия)» отмечает, что Омский каторжный острог - «Мертвый дом» - из заведения для особо опасных преступников постепенно «трансформируется ... в миниатюру целой страны, даже человечества...» (102, 15).
Н. М. Чирков в монографии «О стиле Достоевского: Проблематика, идеи, образы» называет «Записки из Мертвого дома» «подлинной вершиной творчества Достоевского» (140, 27), произведением, равным по силе «только дантовскому «Аду». И это действительно в своем роде «Ад», - продолжает исследователь, - разумеется, другой исторической эпохи и среды» (140, 27).
Г. М. Фридлендер в монографии «Реализм Достоевского», останавливаясь на «Записках из Мертвого дома», отмечает «внешнее спокойствие и эпическую обыденность» (138, 99) повествования. Ученый замечает, что Достоевский с суровой простотой описывает грязную, отупляющую обстановку арестантской казармы, тяжесть принудительного труда, произвол представителей администрации, опьяненных властью. Г. М. Фридлендер также отмечает, что страницы, посвященные тюремной больнице, «написаны с большой силой». Сцена с больным, умершим в кандалах, подчеркивает мертвящее впечатление от обстановки Мертвого дома.
В статье И. Т. Мишина «Проблематика романа Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» также акцентируется внимание на «мироподобии» каторги: Достоевский историями преступлений каторжан
6 доказывает, что и за стенами острога действуют те же законы» (96, 127). Шаг за шагом, аналимзируя произведение. Исследователь делает вывод, что нет возможности установить, где больше произвола: на каторге или на воле.
В исследовании Ю. Г. Кудрявцева «Три круга Достоевского: Событийное. Временное. Вечное» автор подробно останавливается на природе преступления. Ученый отмечает, что автор «записок» в каждом арестанте находит что-то человеческое: в одном - силу духа, в другом - доброту, мягкость, доверчивость, в третьем - любознательность. В итоге, пишет Ю. Г. Кудрявцев, в остроге есть люди, совсем не худшие, чем за пределами острога. И это упрек правосудию, ибо в острогах все же должны находиться худшие.
Этой же проблеме преступления и наказания посвящены монографии Т. С. Карловой «Достоевский и русский суд», А. Бачинина «Достоевский: метафизика преступления».
Обстоятельны и глубоки по содержанию и мыслям монографии О. Н. Осмоловского «Достоевский и русский психологический роман» и В. А. Туниманова «Творчество Достоевского (1854-1862)». О. Осмоловский совершенно справедливо заметил, что для Достоевского имела первостепенное значение психологическая ситуация, которую переживал герой, ее нравственный смысл и итоги. Достоевский изображает феномены человеческой психологии, ее исключительные проявления, чувства и переживания в крайне заостренном виде. Достоевский изображает героев в моменты душевных потрясений, предельных психологических проявлений, когда их поведение не подвластно рассудку и выявляет долинные основы из личности. В. А. Туниманов, подробно останавливаясь на анализе психологического состояния палача и жертвы, также обращает внимание на критическое состояние души палача и жертвы.
В статье исследователя Л. В. Акуловой «Тема каторги в творчестве Достоевского и Чехова» проводятся параллели между творчеством двух великих писателей в изображении каторги как реального земного ада. Той же проблеме омертвления человека в Мертвом доме посвящены статьи А. Ф. Захаркина «Сибирь и Сахалин в творчестве Чехова», 3. П. Ермаковой «Остров Сахалин» в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицына». Г. И. Принцева в диссертационном исследовании «Сахалинские произведения А. П. Чехова начала и середины 90-х гг. (Идеи и стиль)» перекликается с вышеуказанными исследованиями, что Сахалин - не место исправления, а всего лишь приют нравственных пыток.
Г. П. Бердников в монографии «А. П. Чехов. Идейные и творческие искания» дает подробный анализ произведения, раскрывает его проблематику. А. Ф. Захаркин также весьма четко прослеживает «справедливость картины каторги, ссылки, поселений, нарисованной Чеховым в очерках «Остров Сахалин» (73, 73). Своеобразием книги исследователь вполне справедливо считает «полное отсутствие в ней вымысла». Используя в качестве художественного приема раскрытие биографии персонажа, автор пытается «выяснить, определить социальные причины преступлений» (73, 80-81).
Каторжная проза отличается разнообразием жанров и особенностями проявления авторской позиции. Жанровым особенностям каторжной прозы и своеобразию проявления авторской позиции в романе Ф. М. Достоевского посвящены работы В. Б. Шкловского «За и против: Достоевский», Е. А. Акелькиной «Записки из Мертвого дома: Пример целостного анализа художественного произведения», диссертации М. Гиголова «Эволюция героя-рассказчика в творчестве Ф. М. Достоевского 1845-1865-х гг.», Н. Живолуповой «Исповедальное повествование и проблема авторской позиции («Записки из подполья» Ф. М. Достоевского)», статья В. Б. Катаева «Автор в «острове
Сахалин» и в рассказе «Гусев».
Влияние Достоевского на литературу XX века - одна из основных проблем современного литературоведения. Исключительно важным является также вопрос о влиянии творчества великого русского писателя на литературу XIX века, в частности, на творчество П. Ф. Якубовича.
К сожалению, современное литературоведение уделяет незаслуженно мало внимания роману Якубовича «В мире отверженных». Между тем в критике 90-х гг. XIX - 900-х годов XX века аналогия между произведениями Достоевского и Якубовича стала общим местом. Литературное родство произведений было отмечено сразу. «Для 95-96 годов они (очерки Якубовича. - Ю. М.) такое же литературное явление, какими были «Записки из Мертвого дома» Достоевского для 61-62 гг.... Мельшин..., подобно Достоевскому, лично вынес долголетнюю каторгу и, получив свободу, спешит поделиться с читателями «пережитым» в мире отверженных» (113, 67); или: «...очерки Мельшина-Якубовича после «Мертвого дома» Достоевского, бесспорно, принадлежат к лучшему, что только имеется в этой области»(116, 110). Амплитуда сравнений была широка: от утверждения превосходства Якубовича над Достоевским до констатации подражания последнему. В. Селивский, например, пишет: «Ценою тяжких страданий поэт вынашивал в своей памяти чудную картину жизни, «В мире отверженных», произведение, которое займет место в истории литературы, конечно, выше «Мертвого дома» Достоевского» (118, 126). Критик, подписавшийся инициалами В. Ф., проводит параллели между произведениями писателей и на основании этого анализа утверждает: «Г. Мельшин подражает слепо, до мелочей включительно, и позволяет себе только перетасовки скопированных мест» (55, 236).
Высокую оценку роману дал А. И. Богданович, отметивший, что произведение Мельшина-Якубовича написано «с поразительной силой» (39, 60).
Современный исследователь В. Шапошников в статье «От «Мертвого дома» до Архипелага ГУЛАГ», прослеживая на примере произведений Достоевского, Якубовича и Солженицына эволюцию от «Мертвого дома» до Архипелага ГУЛАГ, отметил, что образ начальника Шелаевской тюрьмы Лучезарова в романе Якубовича является прототипом будущих гулаговских «царьков».
А. М. Скабичевский, размышляя об отношении массы каторжан к дворянам, отметил большую интеллигентность Шелаевской шпанки, нежели арестантов Достоевского. Критик объясняет это реформами, проведенными правительством: отменой крепостного права, введением всеобщей воинской повинности, смягчением излишней суровости воинской дисциплины. Это привело также и к тому, что «в состав каторжан все меньше и меньше начинают попадать невольно пострадавшие люди, стоящие на более нравственной высоте» (121, 725). Свой тезис Скабичевский подтверждает следующими фактами из романов: Достоевский пишет о том, что в остроге было не принято говорить о своих преступлениях. Якубовича же поразило, насколько заключенные любили хвалиться похождениями, причем описывая их самым подробным образом.
Ориентацию на «Записки из Мертвого дома» особо подчеркивал и сам П. Якубович, считая его недосягаемой вершиной русской «каторжной прозы». Заимствуя готовый жанровый образец, который был разработан Достоевским, Якубович создал произведение, отражающее реальную картину русской каторжной действительности 80-90-х годов XIX века.
На долгие годы тема каторги и ссылки оставалась «достоянием» дореволюционной России. Появление в 1964 году в печати рассказа А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» ознаменовало, что занавес, скрывающий засекреченную область советской действительности, начинает приподниматься. Своим рассказом А. Солженицын положил начало новому направлению в советской литературе, названному позднее «лагерной прозой».
По нашему мнению, впервые термин "лагерная тема" был выдвинут В. Т. Шаламовым. В своем манифесте " О прозе " он пишет: "Так называемая лагерная тема - это очень большая тема, на которой разместится сто таких писателей как Солженицын и пять таких писателей, как Лев Толстой" ("О прозе"-17, 430).
После публикаций свидетельств узников сталинских лагерей на страницах периодических журналов, словосочетание "лагерная проза" начало использоваться в современном литературоведении. Например, существует ряд работ, в названии которых присутствует этот термин: в статье Л. Тимофеева, например, "Поэтика лагерной прозы", в исследовании О. В. Волковой "Эволюция лагерной темы и ее влияние на русскую литературу 50 - 80-х годов", в работе Ю. Сохрякова "Нравственные уроки "лагерной" прозы". Термин "лагерная проза " широко используется и в диссертационной работе И. В. Некрасовой "Варлам Шаламов - прозаик: (Поэтика и проблематика)". Мы, со своей стороны, также считаем вполне правомерным использование термина "лагерная проза".
Лагерная тема исследуется А. И. Солженицыным на уровне разных жанров - рассказов, документального повествования большого объема ("художественное исследование" - по определению самого писателя).
11 В. Френкель отметил любопытную, «как бы ступенчатую структуру» (137,
80) лагерной темы у Солженицына: «Один день Ивана Денисовича» - лагерь, «В круге первом» - «шарашка», «Раковый корпус» - ссылка, больница, «Матренин двор» - воля, но воля бывшего ссыльного, воля в деревне, немногим отличающаяся от ссылки. Солженицын создает как бы несколько ступеней между последним кругом ада и «нормальной» жизнью. А в «Архипелаге» собраны все те же ступени, и, кроме того, открывается измерение истории, и Солженицын ведет нас вдоль цепи, приведшей к ГУЛАГу.
История «потоков» репрессий, история лагерей, история «органов»... Наша история. Сверкающая цель - осчастливить все человечество - обратилась в свою противоположность - в трагедию человека, брошенного в "мертвый дом".
Несомненно, что "лагерная проза" имеет свои особенности, ей одной присущие. В своей статье-манифесте "О прозе" В. Шаламов провозгласил принципы так называемой "новой прозы": "Писатель - не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли.
Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спустившийся в ад.
Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта" ("О прозе"-17, 429).
По определению В. Шаламова, его "Колымские рассказы" - яркий пример "новой прозы", прозы "живой жизни, которая в то же время - преображенная действительность, преображенный документ" ("О прозе"-17, 430). Писатель считает, что читатель потерял надежду найти ответы на "вечные " вопросы в беллетристике, и он ищет ответы в мемуарной литературе, доверие к которой -безгранично.
Писатель также замечает, что повествование в "Колымских рассказах" не имеет никакого отношения к очерку. Очерковые куски там вкраплены "для вящей славы документа" ("О прозе"-17, 427). В "Колымских рассказах" отсутствуют описания, выводы, публицистика; все дело, по мысли писателя, "в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы" ("О прозе"-17, 427). В. Шаламов написал рассказы, неотличимые от документа, от мемуара. По его мнению, автор должен исследовать свой материал не только умом и сердцем, а "каждой порой кожи, каждым нервом своим" ("О прозе"-17, 428).
А в более высоком смысле любой рассказ всегда документ - документ об авторе, и это-то свойство, замечает В. Шаламов, и заставляет видеть в "Колымских рассказах" победу добра, а не зла.
Критики, отмечая мастерство, своеобразие слога и стиля писателей, обращались к истокам русской «каторжной прозы», к «Запискам из Мертвого дома» Достоевского, как это делает А. Василевский. Он назвал Достоевского «знаменитым каторжанином», а его роман определил как «книгу, положившую начало всей русской «лагерной прозе» (44, 13).
Достаточно глубоки и интересны статьи о развитии «лагерной прозы» сопоставительного характера. Например, в статье Ю. Сохрякова «Нравственные уроки «лагерной» прозы» делается сопоставительный анализ произведений В. Шаламова, А. Солженицына, О. Волкова. Критик отмечает, что в произведениях писателей-«лагерников» мы постоянно встречаемся с «реминисценциями из Достоевского, ссылками на его «Записки из Мертвого дома», которые оказываются отправной точкой отсчета в художественном исчислении» (125, 175). Таким образом, происходит настойчивое сравнительное осмысление нашего прошлого и настоящего.
В. Френкель в своем исследовании делает удачный сопоставительный анализ творчества В. Шаламова и А. Солженицына. Критик отмечает своеобразие хронотопа у В. Шаламова - «в рассказах Шаламова нет времени» (137, 80), та глубина ада, из которой чудом вышел он сам, есть окончательная гибель, между этой бездной и миром живых людей нет никаких мостов. В этом, - считает В. Френкель, - высший реализм шаламовской прозы. А. Солженицын же «не согласен отменить время» (137, 82), в своих произведениях он восстанавливает связь времен, что «необходимо всем нам» (137, 82).
Нельзя не отметить статью В. Шкловского «Правда Варлама Шаламова». Главное внимание критика уделено проблеме человеческой морали, отраженной в произведениях Варлама Шаламова. Е. Шкловский говорит о нравственном воздействии его прозы на читателей, останавливаясь на противоречии: читатель видит в В. Т. Шаламове носителя некой истины, а сам писатель усиленно открещивался от назидательности, учительства, присущих русской классической литературе. Критик рассматривает особенности мировосприятия, миропонимания В. Шаламова, анализирует некоторые из его рассказов.
Л. Тимофеев в своей статье «Поэтика «лагерной прозы» в большей степени останавливается на художественных свойствах прозы В. Шаламова. Критик справедливо считает смерть композиционной основой «Колымских рассказов», что и определило, по его мнению, их художественную новизну, а также и особенности хронотопа.
К сожалению, о романе О. Волкова «Погружение во тьму», мало работ. Среди них, прежде всего, хотелось бы отметить статью Е. Шкловского «Формула противостояния». Критик особо выделяет лирическую мягкость романа, в котором не присутствует «ни шаламовская ожесточенность,... ни сжимающая душу трагедийность солженицынского «Архипелага»... В ней -тонкое, подчас нескрываемо лирическое приятие жизни - вопреки судьбе! Прощение ей» (148, 198). По мнению Е. Шкловского, повествование, несомненно, смягчает отсвет порядочности, душевности, бескорыстия встреченных О. Волковым людей там, где тьма готова была сомкнуться над головой, его собственное умение радоваться небольшим удачам, посланным Судьбой, ценить их. В этом видит критик «формулу противостояния» патриарха нашей современной литературы О. В. Волкова.
Исследователь Л. Паликовская в статье «Автопортрет с петлей на шее» оценивает произведение О. В. Волкова как попытку объяснения и судьбы собственной, и судеб России. Автор делает наблюдения над образной структурой произведения. По мнению исследователя, слово «тьма» в названии многозначно: это "тьма" личной судьбы автора, «тьма» всеобщей нищеты и бесправия, взаимного недоверия и подозрительности. Но главное, «в лингвистической терминологии доминантное, значение - «тьма» как противоположность свету духовному» (107, 52). Главную мысль произведения исследователь определяет так: истоки всех будущих бед - в забвении общечеловеческой морали, утверждении примата материальных ценностей над духовными.
Актуальность работы обусловлена, прежде всего, кардинальными переменами, которые произошли в общественной, политической, культурной сферах российской действительности конца XX века. Подобно тому, как в первые годы советской власти пытались предать забвению достижения, исследования, открытия, сделанные в царской России, так и сейчас - особенно в конце 80-х - нач. 90-х гг. XX века - стало модным обличать с трибун и со страниц газет и журналов открытия и достижения, сделанные в годы советской власти. А между тем не все так хорошо и благополучно было в дореволюционной России. Остроги и тюрьмы существовали всегда и пребывание в них было таким же тяжелым, как и в любое другое время. Именно поэтому нам представилось возможным и интересным сопоставить произведения писателей XIX и XX века, найти общие точки соприкосновения выяснить, с помощью каких художественных средств автор передает нам изменение психологического состояния человека, оказавшегося по ту сторону колючей проволоки.
Произведения, на которых мы остановили выбор, характеризуют собою, по нашему мнению, целые эпохи нашей истории: 40-50-е гг. XIX века (предреформенный период). Этот период представлен в нашем исследовании романом Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». Произведениями П. Ф. Якубовича «В мире отверженных. Записки бывшего каторжника» и путевые записки А. П. Чехова «Остров Сахалин» характеризуют 90-е годы XIX века (пореформенный период), канун первой русской революции. И, наконец, 30-40-е XX века (расцвет культа личности И. В. Сталина) представлены произведениями А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымскими рассказами» В. Т. Шаламова и романом О. В. Волкова «Погружение во тьму».
Научная новизна предлагаемой диссертации состоит в том, что впервые делается попытка сопоставления произведений, посвященных каторге и ссылке с произведениями писателей - узников ГУЛАГа, а также эстетики и поэтики в изображении писателями человека, оказавшегося в подобных условиях.
16 Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили труды отечественных литературоведов, философов, критиков мыслителей, специалистов: Д. И. Писарева, М. М. Бахтина, И.
Ильина, Н. А. Бердяева, Л. Я. Гинзбург, О. Р. Лациса, Г. М. Фридлендера, В. Б.
Шкловского, В. Я. Кирпотина, Г. П. Бердникова, В. Б. Шкловского, В. С.
Соловьева.
В основу методологического подхода к изучению становления и развития «лагерной прозы» в русской литературе XIX-XX столетий положены методы изучения художественного произведения, связанные с использованием сравнительно-исторического, проблемно-тематического и историко- описательного подходов к изучению литературы. Использован лексико- семантический подход, который предполагает возможность через изучение средств художественной выразительности прийти к пониманию своеобразия творческого мышления писателей.
Научно-практическая значимость исследования определяется возможностью использования ее теоретических положений и эмпирического материала при изучении проблем современной русской литературы. Использование положений и выводов возможно при чтении курса лекций, при разработке спецкурсов, учебных и методических пособий и рекомендаций, при составлении программ, учебников и хрестоматий по русской литературе для вузов и учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Апробация работы проходила на кафедре Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. По теме исследования были сделаны доклады на XXIV,XXV и XXVI Огаревских чтениях, на I и II конференции молодых ученых, при проведении факультативных занятий в старших классах в гимназии и лицее.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является русская «лагерная проза» XIX-XX вв. Объект исследования - становление и развитие русской «лагерной прозы» XIX-XX столетий.
Цели работы направлены на создание целостной картины зарождения и развития русской «лагерной прозы» XIX-XX веков; выяснение точки зрения писателей на проблему возможного исправления арестантов в лагере (каторге, ссылке) и возможность его нравственного возрождения.
Реализации данных целей подчинены следующие задачи:
Определить истоки и дальнейшее развитие русской «лагерной прозы» XIX-XX столетий.
Раскрыть жанровое своеобразие «лагерной» прозы и особенности проявления авторской позиции в анализируемых произведениях.
Раскрыть позицию авторов произведений относительно проблемы преступления и наказания, свободы человека как главной жизненной необходимости.
Очерченный круг задач обусловил структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Во введении мотивируется выбор темы, отбор художественного материала, определяется научная новизна работы, задачи исследования.
Первая глава посвящена анализу произведений XIX века. Выясняются истоки "лагерной прозы", начало которой было положено романом Ф. М. Достоевского "Записки из Мертвого дома", определяется проблематика произведения, анализируется авторская позиция. Также мы проследили традиции Достоевского в последующих произведениях, посвященных царской каторге.
Во второй главе анализируются произведения писателей-"лагерников" XX века, выясняются основные темы и проблематика "лагерной прозы", раскрывается точка зрения писателей на лагерь как абсолютно отрицательный опыт человека. Выясняется, каким образом традиции русской «каторжной прозы» нашли свое отражение в произведениях, посвященных ГУЛАГу
В Заключении обобщены результаты исследования.
Жанровое своеобразие «каторжной прозы» XIX века
Наше время - время повышенного интереса к документальной литературе. И дело здесь не только в познавательном значении подлинности бытия (хотя и это немаловажно). Дело в том, что литература, не включенная в традиционный ряд, иногда необычным, неожиданным образом проникает в душевную жизнь, предсказывая будущие открытия художников.
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, другие великие романисты показали, чем может стать для духовной жизни человечества «вторая действительность», вымышленная гением. Толстой - участник Севастопольской компании, но он не писал о ней воспоминаний. Толстой - творец миров- свой военный опыт преобразовал в художественное откровение «Севастопольских рассказов», «Войны и мира». Достоевский - узник Омской каторжной тюрьмы - свой горький опыт воплотил в романе «Записки из Мертвого дома».
Вопрос о жанре "Записок из Мертвого дома" до сих пор остается спорным в современном литературоведении. Н. Чирков называет "Записки" художественными мемуарами; Г. Чулков - особым жанром, который граничит с художественной повестью с одной стороны, и с мемуарами - с другой. Г. М. Фридлендер и В. Кирпотин указывают на очерковую природу "Записок", В. Кожинов считает произведение Достоевского классическим образцом повести.
По мнению Е. А. Акелькиной, в "Записках из Мертвого дома" развертывается эпическое повествование нероманного типа, то есть "осваивающее не индивидуальное действие самоопределяющегося героя, а процесс бытия в его развитии, духовном обновлении жизни" (22, 8). Для Достоевского повествование в "Записках из Мертвого дома" является инструментом изучения народного сознания, и материальным в слове воплощением самого способа духовной жизни своих современников. Использование Ф. М. Достоевским, как и А. С. Пушкиным в "Повестях Белкина" так называемого "рассказа в рассказе", становится, по мнению Е. Акелькиной, "глубоко содержательным способом проникновения в действительность" (22, 11).
Само название "Записок" принадлежит не автору, а издателю. Горянчиков же называет свое произведение "Сцены из Мертвого дома", как бы подчеркивая отрывочность и фрагментарность своих наблюдений и в то же время сообщая им более драматический характер. Этим заглавием на первый план выдвигается собственный интерес действий героев, вероятно, такова была и первоначальная установка автора. Издатель воспринимает "описание десятилетней каторжной жизни" как законченное произведение, как результат, и названием выделяет момент документальности, достоверности этой хроники. Издатель еще сообщает о том, что "описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями...", как бы распространяя и эти жанровые определения на рукопись Горянчикова. Таким образом, природа жанра уже во введении выступает многогранно и однозначно неопределимой. Замечания о бессвязности повествования и не раз повторяемое слово "описание" можно истолковать как указание и на очерковый характер произведения.
Сопоставив все возможные варианты названия, Е. Акелькина делает вывод, что "Записки" являются наиболее богатым жанровым определением, носящим универсальный характер.
В. Б. Шкловский определяет "Записки из Мертвого дома" как документальный роман. Со словом "роман" обыкновенно связывалось представление о развернутом изображении жизни человека. Примером тому служит старый европейский роман, который был зеркалом буржуазной жизни.
В русской литературе уже были романы не семейные. Предтечей такого жанра Виктор Борисович считает "Героя нашего времени" М. Ю. Лермонтова, называя это произведение "системой повестей и очерков". К романам нового типа критик также относит "Записки охотника" И. С. Тургенева, "Севастопольские рассказы" Л. Н. Толстого, "Записки из Мертвого дома" Ф. М. Достоевского.
Исследователь доказывает, что в очерке Л. Толстого "Севастополь в мае", в рассуждении писателя о "герое моей повести", явно видятся сходные моменты рассуждения Лермонтова о его герое. Но главное, по мнению исследователя, было то, что из опыта М. Ю. Лермонтова было усвоено "построение произведения большого жанра из отдельных частей - произведений с разными событийными центрами и с разных точек зрения" (147, 229).
В тоже время В. Шкловский отмечает, что система повестей создавалась не одним только Лермонтовым, "но обрамляющая новелла только у Лермонтова переосмысливает все понимание произведения" (147, 229).
"Записки из Мертвого дома", по мнению В. Шкловского - роман, составленный из системы повестей или очерков; отдельные герои то выступают на передний план, то уходят, становясь фоном. Подводя итоги, исследователь определяет жанр "Записок из Мертвого дома" как "документальный роман".
Образ Мертвого дома в изображении Ф. М. Достоевского, П. Ф. Якубовича, А. П. Чехова
Ф. М. Достоевский справедливо досадовал на то, что его роман читают лишь как непосредственное свидетельство, игнорируя его художественную природу и философскую проблематику. Одна из важнейших проблем не только «Записок из Мертвого дома», но и произведений П. Ф. Якубовича и А. П. Чехова - проблема преступления и наказания. Обратимся к роману Достоевского. Писатель должен был самоопределиться по отношению к двум существовавшим в его (и в наше время) крайним точкам зрения. Одна - в преступлениях виновен не человек, а больное общество (пресловутое «среда заела»). Другая - общество, какое бы оно ни было, тут не при чем, все дело в дурной или доброй воле человека, который свободен и полностью отвечает за все. По мнению писателя, среда виновата, но и человек по природе своей ответствен. Достоевский старается убедить читателя в том, что жестокое обращение с преступниками способно еще более испортить, развратить их и в то же время человеческое обращение может «очеловечить даже такого, на котором уже давно потускнел образ Божий» (5, 309). В этом - надежда писателя. «Существом «Записок», по мнению А. Василевского, является «вовсе не «вся» правда о каторге (этого от книги ждать и не следует), а их нравственный пафос: никого нельзя отвергать окончательно и бесповоротно, ибо даже самые падшие - не какие-то особые преступные существа, а такие же творения Божий, как и все остальные» (44, 14). «Не тон, а точка зрения удивительна - искренняя, естественная, христианская», - писал Л. Н. Толстой в письме Страхову о «Записках из Мертвого дома» (132, 876). Он же в своем трактате «Что такое искусство?», перечисляя образцы высшего искусства, «вытекающего из любви к Богу и ближнему», указывает на Достоевского и его «Мертвый дом» (132,176). Уместно вспомнить, что настольной книгой Достоевского на каторге была Библия; писатель не только погружался в ее «идейный» мир, но и, конечно, в мир образный. И в своем произведении, в одном из множества ее идейно-смысловых уровней, Достоевский воплотил мотив перенесения в «потусторонний» мир; это по существу, миф о посещении царства мертвых. Однако повествование в «Записках» - это, конечно, изображение особой «потусторонности», это жизнь людей, как бы заживо погребенных, отрезанных «намертво» от действительной жизни запроволочного мира. Эта картина ужасного «загробного» мира в пределах обыденного, чувство нереальности происходящего потрясает и в произведениях писателей-«лагерников». Эти повествования так же что исходят из опыта их авторов, бывших, как и Ф. М. Достоевский, обитателями этого ужасного, нечеловеческого мира и в то же время вполне реального, а не «выдуманного». А. П. Милюков заметил: «Записки» производили потрясающее впечатление: в авторе их видели как бы нового Данте, который спускался в ад тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности» (95, 211). Если сравнить «Ад» Данте с романом Ф. М. Достоевского, то действительно можно найти точки соприкосновения в этих двух произведениях. В них представлена эпическая панорама изображения человеческих страданий, художественное воплощение проблематики «преступления и наказания» и конфликтов человека с обществом на основе конкретных исторических реалий, действительно происшедших событий. Однако если герои в художественном мире «Ада» изображены как пассивные жертвы неотвратимого наказания, то герои «Записок» сохраняют свою внутреннюю, нравственно-духовную способность к сопротивлению, хотя тоже во многом пассивному, против «умерщвляющего» воздействия Мертвого дома, каторжного «ада». Нельзя не отметить, что в отличие от аллегорического, во многом мистического мира, рисуемого Данте, Ф. М. Достоевский создал реалистическое произведение на документальной основе, в котором художественная символика вырастала из полнокровно реалистических образов и картин, над которыми ассоциативно «надстраивались» черты условного «потустороннего» мира, отражавшего неестественность и бесчеловечность, алогичность повседневной реальной действительности. Обобщенный художественный образ, возникнув на основе конкретных фактов, просвечивает в разных сферах жизни, организации принципов сцепления материала в очерках «Остров Сахалин». Он выполняет функцию, близкую к метафоре «мертвый дом» у Достоевского. Образ этот поддерживается в ходе повествования многими деталями: «все в дыму, как в аду». В этом смысле "Остров Сахалин" А. П. Чехова перекликается с произведением Ф. М. Достоевского в изображении каторги как реального земного ада. Этот образ неоднократно всплывает на страницах чеховского произведения. Описывая сахалинскую каторгу в северной части острова, писатель, передавая свои первые впечатления от этого гибельного места, констатировал: "Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою...» (15, 54). В другом месте, рассказывая о "перенаселенных" камерах, Чехов замечает: "...воображаю, какой ад бывает здесь зимою..." (15, 131). Каторжный ад писатель ставил, как и Достоевский, в прямую связь с "адом" современного общества, о котором писал, что в обществе всегда возмущались тюремными порядками, но стоило улучшить быт арестантов, так тут же начинали возмущаться уже по этому поводу. При строго объективной форме повествования не исключены размышления автора «Острова Сахалин», выражающие, хотя и не прямое, состояние его чувств, душевное состояние, настроение. Путевые записки строились не только как передвижение путешественника в пространстве, но и как духовное странствие, процесс поиска автором ответа на вопрос: что представляет собой этот остров, как он соотносится с российской действительностью. Основной вывод автора, основное его впечатление - ад.
Жанровое своеобразие и особенности проявления авторской позиции в «лагерной прозе» XX века
Как известно, открытие лагерной темы в русской литературе связано с именем А. Солженицына, с его рассказом 1962 года "Один день Ивана Денисовича". Появление рассказа именно в эти годы связано не только причинами субъективного характера (восьмилетнее заключение, освобождение, возможность писать), но и причинами объективными (XX съезд партии, развенчание культа личности, "хрущевская оттепель"). Солженицын обращается к истории обыкновенного заключенного, чья судьба является отражением судьбы многих советских людей. В фокусе авторского внимания оказывается "не сугубо единичное или индивидуальное (рельефно-масштабное), а типическое, если не однотипное" (47, 54). А. Солженицын изобрел такие жанровые формы, как «опыт художественного исследования», «повествованье в отмеренных сроках», «очерки литературной жизни» и т.д. В то же время он использовал традиционные: рассказ, повесть, миниатюра, пьеса, роман, киносценарий, поэма, комедия. Проблема жанрового определения возникает уже после появления первого рассказа Солженицына, который, как писали критики, «всегда будет красоваться над выходом из мрачного прошлого» ( 88,98), отмечая в том числе пограничность этого литературного явления. Сам писатель называл «Один день...» рассказом, правда, очень большим. Но редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский настоял на изменении жанрового определения. Отмечая художественные достоинства «Одного дня...», А. Т. Твардовский обратил внимание на будничную обычность и внешнюю непритязательность его формы. В этом замечании содержится представление редактора о специфике жанра повести как произведении, в котором должен быть показан обычный, самый рядовой случай. В то же время с развитием новейшей литературы стало ясно, что для повести, как и для рассказа, периоды общественных сдвигов чрезвычайно плодотворны. А «Один день...», безусловно, является порождением переломной литературной эпохи, и главное - первооткрывателем темы лагеря в отечественной литературе. Мы склонны относить произведение А. Солженицына к жанру, стоящему на стыке рассказа и повести. Новаторский характер «Одного дня...» как целостного художественного организма не позволяет анализировать его, отталкиваясь от устоявшихся принципов изучения малых жанров. Предпочитая хронологическую последовательность повествования, Солженицын использовал оригинальный прием структурной организации художественного произведения, который можно назвать пространственно-временным потоком. Художественная структура рассказа практически совпадает с распорядком одного дня из жизни Ивана Денисовича Шухова. Примат материала явственно обнаруживает себя уже в стиле, в словесной материализации неприглядных сторон лагеря. Новизна темы ставит перед писателем задачу в первую очередь «собрать», а затем «обработать» материал. Так был «собран» «Архипелаг ГУЛАГ». Но и «Один день...», как известно, едва ли не единственное из произведений Солженицына, в котором образ главного героя, Ивана Денисовича Шухова, не имеет одного реального прототипа, а сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором и никогда не сидевшего в лагере, общего опыта пленников и личного опыта автора в Особлаге. Таким образом, авторская позиция содержит в себе осознанную установку на реалистическую типизацию: в художественном произведении герой должен стать шире своих прототипов. Новаторство темы само способствует усилению авторского начала более широким использованием личного опыта, непосредственным проявлением конкретной авторской индивидуальности. В самом произведении намечается предельное сближение образа автора и его личности, обыденно-бытовые качества которой попадают в сферу художественного изображения. В начале рассказа пространственно-временная позиция автора вслед за звуком лагерного рельса сквозь стекла окон перемещается внутрь штабного барака. Выбор этого описательного ракурса диктуется необходимостью представить место развертывающихся событий. Сосредоточенность авторского взгляда на образе героя позволяет проникнуть в «грудь» персонажа, по выражению Солженицына, ничего не прибавлять от себя, но угадать, что откуда вытекает, что с чем связано. Постоянство авторской точки зрения позволяет Солженицыну сосредоточить внимание на внутреннем состоянии Шухова и передать его под конкретным углом зрения - отношение героя к законам лагерной жизни. Объективность повествования усиливается включением в него диалогической речи других героев.
Тема Мертвого дома в «лагерной прозе» XX века
A. Солженицын ввел в общественное сознание представление о ранее неведомом и табуированном; В. Шаламов привнес эмоционально-эстетическую насыщенность. Если проза Солженицына ориентирована главным образом на "обычность" - будь то лагерь, герой или обстоятельства, то Шаламов избрал для себя художественную установку "на грани" - изображение "ада", аномалии, запредельности человеческого существования в лагере. Если Солженицын избирает "средне-статистический" лагерь политзаключенных, где можно "выжить", то Шаламов изображает лагерь особого режима, с блатарями и уголовниками-рецидивистами, а внутри него концентрирует внимание на РУРе - роте усиленного режима. Солженицын останавливается на обычном, "почти счастливом" дне "одного зека", Шаламов же даже в обыкновенных днях выделяет эпизоды "крайние", выбивающиеся из череды однообразных событий, будь то пятидесятиградусный мороз, мытье в бане или убийство зеками оголодавшего "вора". Тем не менее, при всем внешнем отличии художественных текстов этих авторов, можно найти и общее, построенное на единых принципах поведение персонажей: "Не воровать, не бить товарищей, не доносить на них". Настаивая на невозможности сохранения в лагере человечности, Шаламов вспоминает о герое, который "делился последним куском", хотя добавляет - "еще делился", или рассказывает о человеке, который отдал свои "шесть обеденных талонов" оголодавшему более него товарищу. B. Т. Шаламов собственным своим примером доказал, что в лагере можно выжить и не сломаться и не потерять человеческого достоинства. Надо было обладать могучим воображением Достоевского, чтобы в его «Мертвом доме» (который, по нынешним меркам, и на ад-то не похож) увидеть то страшное, что едва тогда брезжило в идеях, увлекавших Ф. М. Достоевского: ужас насильственного общежития. Тогда-то Достоевский и начал понимать, что высшим достижением увлекавшей его ранее идеологии будет лагерь. Но новое время ставит новые задачи: и В. Шаламов, и А. Солженицын ставят вопрос: пусть (как и полагал Достоевский) страдание очищает, но непомерное страдание не ломает ли человека? Можно ли остаться человеком в лагерном аду? А. Солженицын, по примеру Достоевского, отвечает антиномией. В "Архипелаге ГУЛАГ" он пишет две главы на тему, причем в первой показывает, что человеком остаться в лагере нельзя, а во второй - что можно и должно, но и эту заканчивает так: «А в ответ я слышу хор голосов: хорошо тебе теперь говорить, ты жив остался» (11-6, 385). Для Шаламова же антиномии нет. Он убежден, что эта глубина ада, из которой чудом вышел он сам, уже есть окончательная и безусловная гибель, что-то совсем нечеловеческое, и не находит, даже не ищет мостов между этой бездной и миром живых людей. Вот почему «не должен видеть человек» лагеря - между двумя мирами нет и не может быть ничего общего. Потому-то В. Шаламов только свидетель. Он не задается вопросом: как это могло случиться, где начала и концы нашей национальной трагедии. У А. Солженицына все иначе. Он если и заглядывает на дно ада - не остается там навсегда, не верит, что возможен какой-то нечеловеческий круг, не имеющий отношения к обычной жизни и времени. "Чем мерить качественную современность произведения? - спрашивает А. Бочаров. - Успехом у современного ему читателя или глубиной проникновения в действительность?" (41, 243). Личная и писательская судьба В. Шаламова трагична. Нельзя сказать, что и сейчас его рассказы пользуются большим спросом. Тем не менее, его произведения не остались незамеченными, не прошли мимо читателя. Трудно сказать, чья судьба трагичнее: "художника, не оцененного в свое время или того, кто "потонул" в своем времени, так и не выбравшись на бесконечные валы истории" (41, 243). Ни художественному наследию В. Шаламова, О. Волкова, А. Солженицына, ни чьему-либо другому из писателей-"лагерников" эта участь не страшна. Их произведения, художественные свидетельства навсегда вошли в историю. Есть вещи в человеческой жизни, прикосновение к которым художника должно быть особенно сдержанным, "поскольку любая неосторожность вымысла, приблизительность беллетризма, искусственность конструкции способны легко обернуться невольным кощунством. Своего рода равнодушным соглядатайством" (148, 255). В. Шаламов всячески подчеркивал эту опасность в художественном освоении лагерной темы. Вот почему он утверждал, что писатель - не наблюдатель, а участник драмы жизни, участник не в писательской роли, не в писательском обличье. "Новая проза", по мысли В. Шаламова, должна быть непосредственно и нераздельно связана с судьбой писателя, причем не конструируемой произвольно, но равносильной року, как понимался он в античной трагедии. Не игра, но участь. Писатель должен постоянно помнить об одной участи, доставшейся не ему одному, но многим и многим. Он - их голос, голос живых и мертвых. Реальность, виденная и пережитая им, взывает к свидетельству, а не к художеству, к изживанию этого страшного опыта, а не к его эстетическому преображению.