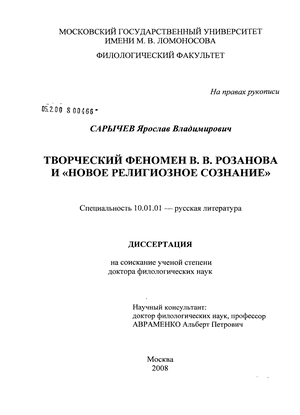Содержание к диссертации
Введение
Часть Первая. Логика творческого становления в. В. Розанова (1880—1890-е годы): путь к «Новому религиозному сознанию» 41
Глава первая. «Понимание». Универсально-синтетические по строения 1880-х — начала 1890-х годов как первоначальный этап мировоззренческого и творческого самоопределения В. В. Розанова 44
Раздел 1. Особая «схема разума»: трактат В. В. Розанова «О понимании» как гносеологический проект
Раздел 2. Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев в творческом сознании и критической интерпретации В. В. Розанова
Глава вторая. «Синтез будущего». Полемические статьи В. В. Розанова 1890-х годов: идеология и «стилистика» литературно-общественной борьбы 88
Раздел 1. «Вероисповедная» полемика 1894 года и ее идейно-творческие следствия
Раздел 2. Спор о «наследстве»
часть вторая. В. В. Розанов и «люди нового религиозного сознания»: метафизика. творчество жизни. «новые формы творчества» 135
Глава первая. «Метафизика пола» и «метафизика христианства» В. В. Розанова в контексте проблематики «нового религиозного сознания» 138
Раздел 1. «Две головы»: «Половая метафизика» В. В. Розанова в свете эротической гносеологии «Третьего Завета »
Раздел 2. Антихристианство В. В. Розанова: концепция «Темного Лика» 168
Глава вторая. «Разбойничий собор». Феномен Петербургских Религиозно-философских собраний 1901—1903 годов 185
Раздел 1. Предварительные замечания. Особенности литературного восприятия Религиозно-философских собраний
Раздел 2. «Содержательная форма» Собраний и «Записки Петербургских Религиозно-Философских Собраний (1902—1903)» как модернистский текст. «Религиозные личности» Д. С. Мережковского и В. В. Розанова
Глава третья. Новый Путь 238
Раздел 1. Религиозно-философская программа и идеология журнала «Новый путь» (1903—1904). Полемический контекст вокруг В. В. Розанова
Раздел 2. Литературная политика «Нового пути»: теория и «бельлетристика»
Раздел 3. «В своем углу». Творческий эксперимент В. В. Розанова в «Новом пути»
Глава четвертая. «Священное писание». Проза В. В. Розанова 1910-х годов 329
Раздел 1. «Уединенное» и «Опавшие листья»: идейно- композиционная организация. «Религиозный стиль»
Раздел 2. «Батальон и Элеватор»: общественная тема и проект «дру гой литературы» в прозе 1910-х годов. Проблема модернизма В. В.
Розанова
Заключение 389
Библиография 399
- Особая «схема разума»: трактат В. В. Розанова «О понимании» как гносеологический проект
- Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев в творческом сознании и критической интерпретации В. В. Розанова
- «Две головы»: «Половая метафизика» В. В. Розанова в свете эротической гносеологии «Третьего Завета
- Религиозно-философская программа и идеология журнала «Новый путь» (1903—1904). Полемический контекст вокруг В. В. Розанова
Введение к работе
Изучение литературы русского модернизма конца XIX — начала XX веков так или иначе, в той или иной степени, но неизбежно сопряжено с необходимостью рассмотрения феномена «религиозно-философского ренессанса», который существенным образом отразился на модернистском искусстве данного периода. В силу того перед литературоведческой наукой объективно встает проблема соотношения и диалектического взаимодействия религиозного и художественного модернизма как в духовных исканиях эпохи в целом, так и в творчестве конкретных русских писателей и мыслителей. Разрешение этой проблемы становится наиболее насущным в отношении тех из них, чья литературная деятельность самым непосредственным и очевидным образом соприкасалась с вопросами философии и религии, была насыщена напряженными духовно-мировоззренческими поисками.
Традиционно категория «литература» в России понималась расширительно, адсорбируя в себя не только изящную словесность (поэзию и беллетристику) и литературную критику, но и произведения философско-публицистических жанров (за вычетом так называемой «университетской» философии), причем — ив этом опять особенность национальной культурной ментальносте — строгую границу между «литературными» и «нелитературными» формами воплощения авторского сознания провести иной раз бывает затруднительно, а в ряде случаев ее просто не существует. Общепризнанный творческий синкретизм Серебряного века — яркое и наглядное тому подтверждение. Но в данном случае проблема может быть взята и более широко. В означенный период проявляли себя не только разнонаправленные индивидуальные поиски; «парадигматика» Серебряного века предполагала существование целых идейных течений, сложно коррелировавших с эстетическими направлениями (прежде всего с символизмом) и оказывавших существенное влияние как на тематику и проблематику последних, так и, что гораздо важнее, на саму структуру модернистского («символического») сознания, в силу чего целую ветвь модернистской словесности, исходя из ее гносеологической специфики, правомерно (и точнее) было бы именовать литературой религиозно-художественного модернизма.
Одно из таких идейных течений — «новое религиозное сознание», непосредственно связанное с именами В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, 3. Н. Гиппиус, Д. В. Философова и ассоциированного с ними круга писателей, мыслителей, культурно-общественных деятелей, включая литературных работников «второго» и «третьего» ряда. Напрямую соприкасаясь с символизмом и даже являясь его неотъемлемой составной частью, т. е. изобличая в себе преимущественную «литературность» содержания (см. об этом, напр., у Н. А. Бердяева: [94, № 2, с. 137], [95, с. 128]), «новое религиозное сознание» в силу этого и ряда иных обстоятельств было в наименьшей степени детерминировано какой-либо определенной, исторически установившейся философской, богословской, культурно-общественной традицией — в сравнении, допустим, с «софиологией» последователей Вл. С. Соловьева и прочими наличными в эпохе «идеалистическими» течениями. Размыкаясь в художественно-эстетическую плоскость, оно своеобразным и особенным образом преломляло и отображало основные тенденции национальной версии модернизма. А посему его многоаспектное изучение (гносеологическая специфика, теоретико-мировоззренческие основы, эстетико-художественные принципы, историко-культурный контекст) способно существенным образом развить, углубить и даже в чем-то скорректировать сложившиеся в науке представления относительно художественного модернизма в России конца XIX — начала XX веков.
В дискутируемом отношении первостепенное значение приобретает изучение творческих феноменов центральных представителей «нового религиозного сознания» и, едва ли не главным образом, — творческого феномена В. В. Розанова.
По характеристике Н. А. Бердяева, в известной мере отвечавшей общему впечатлению представителей «культурного ренессанса», Розанов в сравнении с Мережковским, «литератором до мозга костей», заложником «ментально-эстетического» конструктивизма, оказался «более первороден и оригинален» в религиозно-философских «темах» и в собственно художественном отношении: «Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе» (см.: [95, с. 133, 136—138]). Переводя подобные характеристики на язык научных понятий, правомерно утверждать, что как творческий феномен и фигура эпохи Розанов — наряду и в числе совсем немногих ее представителей — наиболее «синкретичен», полно вбирает в себя (в авторское «я») основные умственные, социокультурные, «ментально-литературные» тенденции века и весьма неоднозначно их преломляет в рамках уникального, единственного в своем роде, философско-творческого сознания. Иными словами, творчество Розанова — одновременно новое и типологически закономерное явление в отечественной культуре рубежа XIX — XX веков, без всестороннего анализа которого невозможно в полном объеме представить себе некоторые важные особенности развития литературы и особенности духовных исканий в России в указанный период. Наконец, с именем Розанова по преимуществу связывается в науке попытка сознательного эстетического моделирования новой литературной традиции, достаточно оригинальной на фоне существующих литературных направлений и течений. А если посмотреть на проблему «другой литературы» Розанова с исторической точки зрения, то опять обнаружится непосредственная смычка с платформой «нового религиозного сознания», в границах которого, помимо религиозно-теургических («третьезаветных») задач, ставилась и решалась — как тоже первостепенная — проблема «новых форм творчества» (см., напр.: [84 , т. I, с. 333—334], [451, с. 244] и др.).
Фактом, однако, остается то, что предметный научный анализ творческого феномена Розанова неизменно сталкивается с определенными трудностями, самая очевидная и «элементарная» из которых — проблематичность позиционирования писателя и мыслителя в рамках традиционно сложившихся представлений о философии и литературе Серебряного века. А это, в свою очередь, с едва ли не роковой неизбежностью влечет за собой разъятие внутренне целостного (цельного) розановского «я» на «философскую» и «литературную» составляющие и известную однобокость, даже редукционизм анализа. Иная трудность относится к постижению (осмыслению и описанию) творческой «феноменологии» Розанова в закономерной логике ее развития, развертывания; в некотором смысле Розанов, если использовать его характеристику по адресу К. Н. Леонтьева, до сих пор остается «неузнанным феноменом», несмотря на все многообразное обилие написанного на «розановскую» тему.
Таким образом, вынесенная в заглавие тема и проблема диссертационного исследования имеет очевидную АКТУАЛЬНОСТЬ и научную перспективу. Причем избираемый ракурс анализа — творческий феномен В. В. Розанова as sich и творческий феномен Розанова в приложении к феномену «нового религиозного сознания» (в диалектическом, историко-культурном и идейно-эстетическом соотношении с ним) — позволяет наиболее оптимальным и рациональным образом охватить весь комплекс непростых проблем, связанных с литературой религиозно-художественного модернизма. Следует также отметить, что, несмотря на огромное число работ, посвященных творчеству В. В. Розанова, до сих пор нет целостной концепции этого творчества, взятого во всем его объеме, а не в отдельных, пусть и крайне значимых фрагментах («метафизика пола», эссеистика 1910-х годов, литературная критика, биографический контекст и т. д.). Эту целостную концепцию невозможно дедуцировать и из суммы исследовательских подходов, поскольку нет устоявшегося и однозначного представления о логике творчества писателя, соответственно — о закономерностях смены периодов его литературной деятельности и структурирующих их гносеолого-эстетических установках. Общего сущностного стержня творчества Розанова пока не найдено, и единой, внутренне непротиворечивой «картины мира» — производной творческого сознания, не составлено.
Соответственно, на сегодняшний день не существует ни одной специальной монографии или диссертации, посвященной всестороннему анализу творчества В. В. Розанова в контексте «нового религиозного сознания»; более того, нет и монографического исследования литературной специфики «нового религиозного сознания» как явления отечественной культуры и совокупности творческих феноменов, движимых общими задачами и интересами. В данном смысле — по заявленной теме, по ракурсу анализа и характеру интерпретации объективно выступающих на первую очередь на учных проблем, не ограничивающихся в тенденции именами Розанова, Мережковского, etc., — настоящая диссертация представляет собой ПЕРВОЕ комплексное исследование подобного рода в отечественном и зарубежном литературоведении.
Дабы не показаться голословными, предварительно рассмотрим ИСТОРИЮ ВОПРОСА.
Творчеству Розанова посвящена обширная библиография (см., напр.: [146, с. 535—562] и наш библиографический список), как прижизненная, так и посмертная, где получили отклик и освещение едва ли не все значимые аспекты и составляющие литературного пути писателя. Более того, сегодня изучение Розанова переживает новый взлет: сложился едва ли не целый раздел гуманитарного знания (вкупе с примыкающими сюда полуэссеистиче-скими изысканиями и «мнениями»), который вполне ответственно можно окрестить «розановедением». Помимо с трудом поддающихся учету статей проблемного и ознакомительного плана, разного рода литературных справок, архивных разысканий и публикаций, тезисов, предисловий и комментариев к современным переизданиям розановских сочинений, с начала 1990-х годов вышел ряд монографий или исследований монографического плана, затрагивающих творческую личность Розанова в целом (А. Н. Николюкин [516], В. А. Фатеев [824], [825], С. Н. Носов [524]), либо актуализирующих специальные проблемы (стороны) розановского наследия (В. К. Пишун и С. В. Пишун [563], [564], В. А. Емельянов [251], Е. П. Карташова [322], автор настоящей диссертации [718], [719] и др.). Необходимо указать и на некоторые диссертационные исследования последнего времени, представленные на соискание ученой степени кандидата наук: а) философские (напр.: [714], [726], [340], [362]), Ь) филологические (см.: [247], [428], [318], [828]), с) культурологические (см.: [41], [814]), также отображающие довольно широкий спектр проблематики — от актуальных вопросов теоретической и религиозно-«эротической» философии Розанова до анализа журнально-публицистической и литературно-критической деятельности писателя, а также, разумеется, жанровой специфики его поздней прозы. Значимым показателем интереса к Розанову можно считать посвященные его жизни и творчеству представительные научные конференции: Первые розановские чтения в Ельце (сентябрь 1993 г.; см. отклики в научной и популярной прессе: [164], [422]) и международную научную конференцию «Наследие В. В. Розанова и современность (к 150-летию рождения писателя)» (Москва, май 2006 г.), проведенную под эгидой ведущих гуманитарных институтов РАН. Регулярно проходят розановские чтения в Костроме (проект И. А. Едошиной; см. материалы сборника [143] и научно-публицистического журнала «Энтелехия»). Готовится к выходу в свет «Розановская энциклопедия» (общ. ред. А. Н. Ни-колюкина и В. А. Фатеева). Наконец, невозможно не отметить отдельно имена таких значимых в отечественном розановедении фигур, как Е. В. Барабанов (составитель первого в СССР двухтомника основных сочинений Розано ва и автор академических комментариев к нему [680]), А. Л. Налепин (редактор «Сочинений» Розанова [682], исследователь, впервые поставивший проблему «Розанов и народная культура» [499]), А. Н. Николюкин (видный популяризатор творчества писателя и ответственный редактор наиболее полного на сегодняшний день собрания сочинений Розанова — свыше 20 томов), В. Г. Сукач (редактор «альтернативного» издания розановских сочинений), В. А. Фатеев (составитель антологии «В. В. Розанов: pro et contra» [146], автор первой в СССР монографии о Розанове) и др. Несомненно, что во многом именно благодаря названным лицам наследие Розанова прочно вошло в научный и вообще интеллектуальный оборот наших дней.
Однако наряду с самоочевидным количественным и, до известной степени, качественным ростом «науки о Розанове» достаточно обозначила себя и основная, ведущая т е н д е и ц и я современного розановедения, в рамках которой выдвинулось некое устойчивое концептуальное построение. Так, В. А. Фатеев в своем последнем фундаментальном труде, итоге (по собственному его признанию) тридцатилетнего «интереса» к Розанову, отправной точкой исследования берет такую мысль: Розанов — «рыжий парадоксалист» [825, с. 5]. На той же «мысли» (конечно, «научно» оформленной) держится, в существе своем, все нынешнее розановедение.
Действительно, тезисы о «многоликости», «противоречивости» и «парадоксальности» Розанова, свободной непоследовательности и «амбивалентности» (даже какой-то «вненаходимости») его мысли, творческом произволе и эклектизме («мозаичности»), своеобразной «игре с читателем» как ведущих писательских установках и слагаемых розановского «жанрового мышления» — все это давно стало общим местом.
Основы подобного подхода закладывались еще в дореволюционный (до 1917 года) период (см. ниже), но явственно обнаружили себя в границах формального метода — в знаменитой работе В. Б. Шкловского [879], где первостепенным у Розанова, как и в любой новаторской литературной традиции, безапелляционно был признан не смысл, а стиль — «соотношение материалов». Асистематизм розановского художественного и даже философского мышления утверждается и в не менее знаковой (в плане выработки методологического подхода, широко используемого в современной науке) книге А. Д. Синявского: «...Розанов не создатель какой-то стройной и законченной системы или концепции. Он оставил нам не систему, а самый процесс мысли... Процесс этот протекал у него очень органично, и вместе с тем неровно, разветвленно, зигзагообразно, резкими скачками из стороны в сторону. Внутренне Розанов... был целостен. Но если смотреть на внешний ход его мысли... то мы получим весьма пеструю и противоречивую картину» [736, с. 3]. Подобный взгляд (внутренняя цельность творческого типа и процесса при внешнем парадоксально-«зигзагообразном» движении мысли и строении формы), достаточно взвешенный сам по себе, между тем уэ/се предполагает выводы, которые делает, например, И. В. Кондаков в ряде статей, утверждая «амбивалентность» авторского «я» Розанова — писателя, для которого «вы явление противоречивости, конфликтности, химеричности смыслов» — якобы самоцель «творческого процесса», причем «это движущееся разнообразие не только не приближает нас к истине, но даже, напротив, последовательно удаляет от нее» [355, с. 15, 10]. Довольно внушительное число литературоведов считает проиллюстрированные положения эмпирически самоочевидными, не нуждающимися в особых доказательствах, взамен которых демонстрируется некая избранная хрестоматия «удобных» розановских текстов, взятых из поздней «исповедально»-эссеистической прозы, начиная с «Уединенного». В тенденции Розанов как писатель ограничивается одним жанром (жанром «опавших листьев», по определению А. Синявского) и последним пяти-семилетием более чем тридцатилетней творческой деятельности. Это не пустые слова: в одной недавно защищенной диссертации поистине «парадоксально» утверждается, что «Уединенное» относится к «раннему», а «Апокалипсис нашего времени» — к «итоговому этапу творчества» Розанова [41, с. 13]. Вероятно, предшествующего творческого процесса просто не существует или он не имеет никакого смысла. Временами такое «розановеде-ние» вызывает справедливое научное раздражение (см., напр., В. В. Бибихин [104, с. XXI]), но даже внушительный удельный вес предметной и узкоспециальной аналитики (помимо прежде отмеченных исследований см.: [103], [209], [367], [754] и др.) не меняет преимущественного вектора анализа. Более того, в последнее время прочно утверждаются позиции литературоведения, тяготеющего к идеологии постмодернизма (основоположники «дискурса», применительно к Розанову, — беллетристы Дм. Галковский, Вен. и Вик. Ерофеевы); причем не только изучаются типологические связи современной постмодернистской прозы с розановской «другой литературой» (В. А. Емельянов, Т. Н. Горичева [191], Ю. Б. Орлицкий [532] и др.), но и сам Розанов выставляется типичным «постмодернистом» (И. В. Кондаков, Н. Ф. Болдырев [113]). Не отрицая ценности некоторых постулатов и наблюдений, сделанных в рамках данной аналитической парадигмы, укажем на ее основной теоретико-методологический изъян: полное игнорирование исторического подхода к объекту анализа и абсолютную элиминацию философско-мировоззренческой составляющей творческого процесса.
Нелишне будет отметить, что и в историко-философских работах ближайших полутора десятилетий делаются попытки трактовать Розанова сквозь призму философии структурализма (В. М. Крюков [369]), постмодернизма (Л. Н. Голубева [188]), в духе мифопоэтического анализа (В. К. Пишун и С. В. Пишун в некоторых выводах и приемах интерпретации, см.: [563, с. 4, 10, 15, 22, 26—27, 106, 111]). По всей вероятности, определенную роль здесь играют, помимо «духа времени», такие, казалось бы, привходящие, но объективные обстоятельства, как наивность розановских прожектов и панацей в свете сегодняшнего дня, нереалистичность его мысли, и вместе — отсутствие в розановской «философии» прочной опоры на какую-либо известную философскую традицию. Все это, конечно, тоже в немалой мере способствует возникновению желания ограничить изучение Розанова вопросами «жанра и стиля», «парадоксами» творческого «самовыражения» и образно-мифопоэтическим строем идей (причем, опять же, почти исключительно на материале 1910-х гг.), обозначив эту «феноменологию» розановского творчества в качестве его вклада в историю русской литературы и культуры.
Во множестве разнохарактерных составляющих творчества Розанова, в сложных перипетиях этапов его литературно-философского пути, в динамике авторского замысла на каждом из этапов (и даже в конкретных тактических ситуациях) легко запутаться, отчего, как наиболее приемлемый выход, возникает соблазн списать все на «разноцветную мозаику розановской мысли» [255]. Однако подобное решение, на наш взгляд, ведет лишь к тому выводу, что Розанов понимал предмет своей деятельности (что, о чем и почему он пишет) гораздо хуже, нежели интерпретирующие его «розановеды». Противоречия и парадоксы у Розанова, разумеется, есть, как есть они у всякого пишущего, но писатель не раз давал и ог\енку (см., напр.: [680, т. 2, с. 434— 437, 621—622, 669—672], полемика с П. Б. Струве) своим разноречивым суждениям и «зигзагам» литературного пути, апеллируя к сложности и иррациональности человеческой природы. При всем том последовательно отрицался принцип «мозаичной культуры» [619], или же, следуя славянофильской методе, Розанов абсолютизировал внелогическую (сверхлогическую) многогранную полноту жизни и живого (не схоластического) сознания.
Все подобные замечания предполагают ни что иное, как постановку на очередь вопроса о логике творчества Розанова. Показательно, что сам Розанов вполне отчетливо видел контуры собственной критической «утилизации», сетуя на «непроницательность нашей критики»: «...все статьи обо мне начинаются определениями: «демонизм в Р.». И ищут, ищут. Я читаю: просто — ничего не понимаю. «Это — не я». Впечатление до такой степени чужое, что даже странно, что пестрит моя фамилия. Пишут о «корове», и что она «прыгает»... а главное... «по ночам глаза светят зеленым блеском». Это ужасно странно и нелепо, и такое нелепое я выношу изо всего, что обо мне писали...» [680, т. 2, с. 463]. Разумеется, куда проще и в данном случае сослаться на «игру с читателем», но исторически и теоретически веріїее будет окинуть целостным взглядом этапы «самодвижения» розановской «литературы», понять и оценить логику данного процесса.
Объектом диссертационного исследования, таким образом, выступят центральные и наиболее характерные произведения всех периодов идейно-литературного развития Розанова, рассматриваемые в их последовательной динамике (хронологии) и в полемическом контексте эпохи. Предмет работы составят логика творчества, эволюция и значимые параметры творческого сознания писателя, что, в свою очередь, предполагает прямое и аналогическое соотнесение феномена Розанова с данностью «нового религиозного сознания» в историческом и теоретическом разрезе.
ЦЕЛЬ диссертации — произвести системно-целостный анализ творческого наследия В. В. Розанова в свете имманентных установок авторского сознания и основополагающих теоретических (религиозно-метафизических и культурно-эстетических) посылов «нового религиозного сознания» — того духовного движения, с которым генетически (исторически и типологически) сомкнулся Розанов и в «фарватере» которого выстраивал «вектор» собственной творческой деятельности; на основе интерпретации получаемых по ходу исследования результатов определить логику творчества Розанова, а следовательно, — гносеологическую, эстетическую и художественную характерность розановской «другой литературы» в ее закономерной эволюции от первоначальных к итоговым текстам.
Цель исследования диктует следующие ЗАДАЧИ:
— охарактеризовать сложившиеся и преемственно эволюционировавшие теоретико-методологические подходы к творчеству и творческому феномену Розанова, а также феномену «нового религиозного сознания», выявив через то предпочтительное направление (методологию) собственного анализа;
— обозначить и проанализировать центральные этапы творческой эволюции Розанова, их идейно-эстетическую специфику и репрезентативный (для каждого из этапов) круг произведений;
— установить системно-методологические параметры розановского универса («картины мира»);
— соотнести индивидуальную розановскую «методологию» и «картину мира» с гносеологической конструкцией «нового религиозного сознания» (в частности, с «религией Третьего Завета» Д. С. Мережковского как инвариантным выражением русского «неохристианства»), показать основные точки сходства и пункты расхождения;
— на основе выявленной типологии творческого сознания Розанова вскрыть диалектику соотношения религиозно-философской и художественно-эстетической составляющих (иначе — религиозного и художественного модернизма) в рамках совокупной системы писателя, определив попутно место и значение этой системы в контексте литературы модернизма;
— детально проанализировать особенности и составные элементы проекта «другой литературы» и художественного мира Розанова а) в их имманентной данности, Ь) в аспекте генетическом (становления и развития) и функциональном, с) в связи с устойчивыми особенностями творческого сознания и самосознания писателя.
Жанр Введения предполагает реализацию первой из означенных задач.
Начнем с «внефилософской» традиции истолкования, вызревшей по преимуществу в лоне русской либерально-радикальной печати. Эта «направ-ленческая» линия критики нашла первоначальное воплощение в статьях Н. К. Михайловского (полемика с Розановым о «наследстве 60-х годов» [479], характеристики антиобщественного «изуверства» писателя [475], его «маха-нальности» и «философической порнографии» [477], [481], [482]) и подкреплялась в 1890-е годы выступлениями иных заметных литературных обозревателей прогрессивного лагеря — А. И. Богдановича [1], [2], [4], М. А. Протопопова [584], [585], Ю. И. Айхенвальда [20], В. М. Грибовского [196] и др.;
сюда же можно отнести известные статьи П. Б. Струве («Романтика против казенщины» [786, с. 203—220]) и С. Н. Трубецкого («Чувствительный и хладнокровный» [819]), а также материалы «нововременца» В. П. Буренина [133], [134]. Для отмеченной линии интерпретации, достигшей смыслового пика в 1910-е годы — в связи с рядом «антиобщественных» выступлений Розанова, а также выходом в свет «Уединенного» и «Опавших листьев» (по поводу чего звучали даже открытые призывы к бойкоту его печатной продукции; см: [185], [404], [529]), было характерно отвержение какой-либо идейной ценности розановских философско-теоретических построений и смещение акцента с предметной сферы «идей» в сторону психологии (и «патологии») личности Розанова и его творчества. Розанов предстал здесь «г о л ы м Розановым», странным «явлением» с «разлагающимся» сознанием, «органическим пороком» моральной сферы, без всяких «положительных мыслей», но с маниакальной жаждой оригинальничания, скандала и «самообнажения», — воплощенным носителем «карамазовщины» (=«смердяковщины», «передоновшины»), продуктом разложения «правого» лагеря. Показательна заданность и частотность «диффамационных» заголовков, ориентированных именно на создание определенного о браза Розанова в общественном и культурном сознании: «Голый Розанов» (В. Ф. Боцяновский [803]), «Голые люди» (А. А. Яблоновский [911]), «Обнаженный нововременец» (П. В. Мо-киевский [485]), «Совлеченные покровы» (С. Н. Петропавловский [552]), «Гнилая душа» (И. М. Василевский [847]), «Бесстыжее светило, или изобличенный двурушник» (А. В. Пешехонов [553]), «Неопрятность» (Ю. И. Айхен-вальд [22]), «Репейник» (Красный [366]), «Муки самопрезрения» (И. Н. Игнатов [295]), «Человек душевного мрака» (Н. П. Лопатин [397]), «Бобок», «Розановщина», «Розанов или пакостник» (С. Б. Любошиц [403], [405], [406]), «Опаснее врага» (П. А. Берлин [101]), «Черный бред» (П. Н. [568]), «Вместо демона — лакей», «В низах хамства», «Позорная глубина», «Пави-анство. — Всеобщее презрение и всероссийский кукиш. — Разложение литературы» (Н. П. Ашешов [528], [529], [44], [530]) и под. Многочисленные статьи и рецензии с «нейтральными» заголовками на «Уединенное», «Опавшие листья», другие книги 1910-х гг. выдерживались в той же тональности, предполагающей устойчивую концептуальную основу: «циничный аморализм», «беспримерная игра святыми понятиями», «паутинное плетение мелочей», «равнодушие» как «пафос души», возведенная «в принцип» «обывательщина», «атрофия чувства связанности, слияшюсти с человечеством» и т. п. (Вяч. Полонский, «Исповедь одного современника» [572, с. 241—242, 244—248, 250, 256]). В более мягком варианте трактовок (показательны «Фетишизм мелочей» А. Л. Волынского ([159], [160]) и «Религия быта» В. Гер-манова [146, с. 251—266]) указывалось и на те самые причудливые, нарочитые «противоречия» и «парадоксы» болезненного творческого «самовыражения».
В ряде моментов с означенной платформой типологически и тактически сомкнулась «философская» критика Розанова; начало здесь, если не учи тывать более раннюю по времени и во многом вызванную личными мотивами «Забвенную душу» Н. М. Минского [459, с. 240—245], положили П. Б. Струве своей знаковой статьей «Большой писатель с органическим пороком» ([791]; см. также комментарий Е. В. Барабанова: [680, т. 2, с. 647]) и антиро-зановские материалы Мережковского («Розанов» [448, с. 271—279], «Свинья Матушка» [436, т. XV], «Национализм и религия» [443], «Как В. Розанов пил кровь» [226] и др.), Философова (см.: [840], [843] и др.), 3. Гиппиус [365].
Однако исключительно сиюминутными целями тотального общественного остракизма литературного противника, которыми руководствовалось большинство авторов перечисленных материалов, дело не ограничивалось. Наряду с политическими мотивами, которые известны, в целом ряде случаев выступала и объективная потребность истолкования (разумеется, в приемлемых для «партийной» печати координатах) фигуры писателя как «любопытного культурного типа», отличного от признанных норм «общечеловеческого типа». Подобного рода целеполаганием, помимо статей представителей «религиозно-философского ренессанса», обусловлены, например, критические материалы Н. П. Ашешова или «Ал. Ожигова» (см.: [42], [43], [530]); «объективизмом» взгляда отмечены и иные заметные выступления, напр., П. С. Юшкевича [909]. Весьма широкое распространение получила концепция двух Розановых — гениального неординарного писателя, защитника прав семьи, обличителя церковного христианства, и вместе — «нововременца», прислужника политико-культурной реакции (наиболее отчетливо этот подход обозначен в памфлете «Новое время» и соблазненные младенцы» Н. Я. Абрамовича [8]). Втайне симпатизировавшие Розанову интерпретаторы (как, например, критик-обозреватель «Русского слова» А. А. Измайлов [45], [301] — [305], сделавший ряд ценных замечаний относительно проблематики и поэтики розановских произведений) также вынуждены были становиться на линию общей оценки [46], причем опять не только в силу корпоративной солидарности, но и по причине некоторого, так сказать, гносеологического недоумения относительно писательской характерности Розанова.
Подобное положение дел подтверждается и восприятием сотоварищей Розанова по «правому», консервативному лагерю. Творя в противовес либеральной «травле» нарочитый «апофеоз В. В. Розанова» [783], всецело солидаризируясь с полемической борьбой «правдолюбивого писателя» [741] — «правдивой души» [427], движимой «прогрессивной нетерпимостью» [740], публицисты «Нового времени», «Колокола» и др. изданий параллельно с тем отмечали в последних книгах Розанова «сырые мысли» (М. О. Меньшиков [435]), усматривали здесь «мало ясности» и много смутного (прот. Н. Дроздов [234], [237], [238]), непроизвольно смыкались с интерпретациями в духе «фетишизма мелочей» (А. Диесперов [225], Ал. Илецкий [308]) и столь же однозначно абсолютизировали (пусть и без негативных коннотаций) субъективно-психологический момент (принцип) творчества и творческого «самостроения» (см.: Б. Б. Глинский [71], Н. Вальман [142], И. К. Маркузе [427], П. П. Перцов [578] — [581], А. Ренников (А. М. Селитренников) [593], Н. Н. Ру сов [704], А. А. Столыпин [782] и др.). То же явление наблюдаем в известной биографической книге Э. Ф. Голлербаха [187], а также в эмигрантских работах А. М. Селитренникова [594] и М. М. Спасовского [763], тенденциозных идеологически, но вместе презентующих тот «интимный» и несколько парадоксальный образ Розанова, что хорошо знаком нам и по современным научно-биографическим «жизнеописаниям» А. Н. Николюкина, В. А. Фатеева и В. Г. Сукача [794].
Вся эта совокупная методология «понимания» творческого феномена Розанова и перешла, довольно плавно, в ряд пореволюционных концепций. Данный момент (процесс) остроумно отметил Л. Д. Троцкий, говоря о литературно-идеологической «канонизации Розанова» [146, с. 318, 320] в советской России (имелись в виду сторонники эстетики авангарда В. Б. Шкловский и В. Р. Ховин [852]) и в эмиграции, причем за то самое, что ранее подвергалось активной диффамации. В подтверждение основательности такого наблюдения можно указать и на рецензию по поводу «Уединенного» Гарриса [169] и книгу о Розанове М. Курдюмова [376]. Оба произведения принадлежат одному лицу — М. А. Каллаш, но если первое выдержано в стилистике «голого Розанова», то во втором уже вырисовываются определяющие подходы к изучению поэтики его поздней прозы, характерные и для современного розановедения. «Вместо некролога Розанову» в оісуриале П. Б. Струве «Русская мысль», издающемся теперь в Софии, возводится цитатный памятник из «Уединенного» и «Опавших листьев» (Л. И. Львов [415]). Наконец, в работах центральных критиков и мыслителей русского зарубежья (Г. В. Адамовича [16], [17], Ю. П. Иваска [294], В. Н. Ильина [312], К. В. Мочульского [491], Д. П. Святополк-Мирского [146, с. 348—351], Г. П. Федотова [827], Л. И. Шес-това [877] и др.) обнаруживается намерение экстраполировать идейно-художественные и социальные прозрения «позднего» Розанова в широкий культурологический план размышлений о судьбах национальной пост-«ренессансной» традиции. Нельзя не отметить и обширный розановедческий дискурс в западной русистике (см.: [146, с. 560—562]; см. также обзор А. Н. Николюкина [513]), аналика и выводы которой в значительной мере оказались предопределены названными отечественными программами изучения (наиболее содержательной и характерной здесь видится монография А. Л. Кроун [918]); в линии славистики до известной степени стоит рассматривать и работу А. Д. Синявского.
Итак, зародившись еще в 1890-е годы и обогатившись в продолжение XX века собственно литературоведческим инструментарием анализа жанро-во-стилевой специфики прозы Розанова, магистральная парадигма изучения и интерпретации его наследия (именно как писателя) вновь властно заявляет о себе в наши дни, в последние десятилетия. Вообще-то и постулат о «полном забвении» Розанова в советской научно-критической традиции не совсем точен: представление о тенденциях анализа и оценки дает статья А. Латыниной [383], а о подспудной функциональности розановского имени в идеологической и литературно-общественной борьбе — обзор И. А. Едошиной [248]. Собственно, претерпела изменения лишь аксиология подходов к Розанову: вектор оценочных характеристик из негативистского контекста сместился в сторону чуть ли не апологетики писателя со всеми его мыслимыми и немыслимыми «противоречиями», методология Dice анализа осталась, по большому счету, прежней.
Мы отнюдь не преследуем цель нигилистического ниспровержения более чем вековой приоритетной традиции изучения розановского наследия, в рамках которой произведены довольно ценные изыскания. Но вместе с тем совершенно необходимо отметить, что и былая «направленческая» критика Розанова, и современная наука о Розанове в основном покоятся на прочной базе философии позитивизма в исторически преемственных ее модификациях. А это, в свою очередь, предполагает отвержение всякой «метафизики» и вообще строгой гносеологической линии в анализе. Соприкасаясь с принципиально чуждым себе материалом (или типом творчества), с иным типом умозрения, и потому неизбежно отталкиваясь от «чужеродного» феномена, позитивистский метод вынужден доказывать саму свою состоятельность, верность, научную непререкаемость. Достигается это двумя способами: либо тотальной критикой, либо попытками выборочной ассимиляции «чужого» в приемлемой системе координат с игнорированием всего явно не вписывающегося в эти координаты как несущественного. В результате (применительно к нашему разговору) анализируется, критикуется и оценивается не сам Розанов в существе его творческих исканий, а некий «сконструированный» в сознании интерпретатора образ Розанова, по большей части неприемлемый психологический объект, условно называемый «Розановым». Оттого вместо творческого феномена Розанова мы по сей день имеем, в сущности, хорошо известную условную «toy model» «Розанов» — искусственную схему его творчества с вполне закономерным перекосом в сторону поздней эссеистической прозы в духе и стиле «Уединенного».
Таким образом, на первую очередь выдвигается, приобретая принципиальное значение, вопрос об изучении литературного наследия Розанова в диалектическом единстве его философских и художественных составляющих. Конечно, то и другое должно восприниматься в самом широком, роза-новском смысле, но и с непременным учетом данности Розанова-мыслителя и его религиозно-философской доктрины. А также — в ист о рич ее ком контексте культуры символизма и проблематики («метафизики» и идеологии) «нового религиозного сознания». В противном случае всякий разговор о Розанове грозит стать не только поверхностным (имеем в виду накопленный за сто с лишним лет изучения материал и научный аппарат, в последние годы тавтологично самовоспроизводящийся), но и вообще беспредметным.
Прочная теоретико-методологическая база для предполагаемого ракурса анализа уже заложена в трудах российских литературоведов о символизме (от Б. В. Михайловкого, Д. Е. Максимова, Л. К. Долгополова и 3. Г. Минц до Л. А. Колобаевой, А. П. Авраменко, В. А. Сарычева, А. В. Лаврова, М. В. Михайловой, О. А. Клинга, Н. А. Богомолова, И. Ю. Искржицкой и др.), в ис следованиях западных авторов (Т. Пахмусс, Б. Розенталь, О. Матич, Р. Вро-она, А. Ханзен-Леве, X. Барана, А. Пайман). Однако опыты целостного подхода к «неохристианской» и «символической» специфике розановского творчества (в таком «двуединстве») по большей части носят спорадический характер. Сама проблема поставлена еще в начале XX века в работах Волжского (А. С. Глинки) «Мистический пантеизм В. В. Розанова» [155] и А. К. За-кржевского «Религия. Психологические параллели» [264, с. 266—296], «Карамазовщина. Психологические параллели» ([262, с. 69—ПО, 123—133, 150, 159—160]; см. также рецензию на «Уединенное» [263]), отчасти — Б. А. Грифцова [206]. Одним из идейных «отцов» русского символизма Розанов неизменно признавался «детьми» этого литературного направления (А. Белым, А. Блоком, Евг. Ивановым, Г. Чулковым и др.), рядом «ренессансных» философов; этот факт принимался как должное и в отечественном литературоведении (например, Д. Е. Максимовым [421], А. Д. Синявским). В последнее время довольно ценный материал можно почерпнуть в исследованиях и научных комментариях к архивно-мемуарным публикациям М. М. Павловой, Е. В. Ивановой, А. В. Ваховской (см. библиографию). Но всего этого явно недостаточно. И не только в количественном отношении. Существует ряд нюансов, не позволяющих некритически прилагать достигнутые в изучении литературы символизма результаты к анализу феноменов Розанова и «нового религиозного сознания». Во-первых, связь с символизмом (в исторически сложившейся, устойчивой его форме) здесь предстает опосредованной: острота полемического напряжения между сторонниками «Третьего Завета» и символистами (равно «эстетами» и «теургами») общеизвестна. При этом фигура Розанова на фоне Д. С. и 3. Н. Мережковских, «безусловно» все же принадлежащих, по выражению Д. Е. Максимова, «культуре символизма», вновь выступает наименее удобным объектом аналитических обобщений. Во-вторых, сама наличная методология изучения символизма в нашем случае представляется далеко не универсальной. Возьмем для примера «панэстети-ческий» подход 3. Г. Минц, который, кстати сказать, контурно просматривается и в работах С. А. Венгерова начала XX века (см.: [147, с. 44—45, 63— 64], [149]). Принятая в рамках мифопоэтического анализа установка на интерпретацию идеосферы символизма исходя из «имманентных законов художественного творчества» закономерно приводит к тезисам об «экспансии ху-доэюественных методов познания в области, традиционно закрепленные за философией, наукой, публицистикой» и о попытке символистов «подчинить сам процесс познания законам художественного мышления, а фиксацию его результатов уподобить художественному тексту» [460, с. 80—81]. Однако возмоэ/сна ведь и другая направленность описываемого (действительно объективного!) процесса: экспансия философской проблематики и философских методов в собственно художественное творчество, и тогда уже нужно (правомерно) говорить не о «мифопоэтическом мышлении» в философии, а об особом гносеологизме в поэтике. Во всяком случае, применительно к «символической» литературе «нового религиозного сознания» этот последний вывод представляется более правомочным, нежели позиция «имманентного» искусствоцентризма.
Не менее сложный комплекс вопросов и проблем возникает и в связи с «новым религиозным сознанием»: точно так же, в силу своей особой «субъ-ектности», неохристиатт Розанов — далеко не идеальный объект для интерпретаций. Из дореволюционных интерпретаторов, «игнорирующих» Розанова в качестве одного из лидеров «нового религиозного сознания» или просто не упоминающих его при разговоре на заданную тему, можно указать на С. Л. Франка [848], свящ. Н. П. Розанова [698], А. А. Мейера [497, с. 280— 283], [425], на критиков-марксистов, концентрировавших полемическую энергию на круге руководителей Петербургского Религиозно-философского общества с Мережковским во главе (В. Базаров (В. А. Руднев) [48] — [50] и авторы «Литературного распада»; см.: [487], [570], [907] — [908]); в известной рецензии А. В. Луначарского [407] «богоискатель» Розанов также рассматривается автономно от каких бы то ни было религиозно-философских течений. На современном этапе эту тенденцию можно наблюдать в подходах О. Матич [920] — [922] и С. Н. Савельева [710], [711], равно отмеченных ощутимым «гиппиусоцентризмом» взгляда на феномен и проблематику «нового религиозного сознания». Вообще к настоящему времени по проблеме «Розанов и «новое религиозное сознание» имеется очень немного материала, а если руководствоваться качественным критерием — то и того меньше:
1) хорошо поставленная аналитика церковно-богословской школы (подробнее см. ниже), но этот источник носит очень специальный характер и мало что дает для уяснения литературной специфики «неохристианского» спектра творчества Розанова и его идейных единомышленников; впрочем, именно из богословской среды исходит мысль о проникновении символизма в публицистику — см.: [55, с. 4], [392], [120], [465], [469] и др.;
2) ситуативные высказывания деятелей «религиозно-философского» и «культурного ренессанса», комбинирующиеся с развернутыми характеристиками «метафизики пола» Розанова — прошлыми и нынешними;
3) сведения фактического характера (эмпирические данные), в том числе современные историко-архивные разыскания вкупе с их научной обработкой и комментированием.
На этом достаточно добротном фоне некоторые «концептуальные» заявки последнего времени (см., напр.: [41], [423], [531]) не выдерживают серьезной критики.
Определенную «проблемность» представляет собой и распространенный способ позиционирования Розанова — «метафизика пола» по отношению к писателю Розанову. Суть воззрения удачно показывает отклик одного из малоизвестных публицистов начала прошлого века: «Розанов — весь в поле, весь в браке, в производстве потомства ... Ведь это — уже поэма, прославление жизни, религиозный экстаз ее творчества. ... Розанов срывает покровы со сладкого, но стыдного предмета и... поет любовь, как новый вакхант, но осложненный философией. ... ...он — непричесан, дик, сумбурен, огромный талант рассыпается, как гранит — на мелкие булыжники... Но и в них — много оригинальности, остроумия, необычности. ... Пол, пол, пол — в этом смысл Розанова ... Язык притч, кроткий, образный, религиозный.
Религия пола и Розанов — пророк ее» [720, с. 10—11].
Этого же взгляда в его необходимом логическом развитии («пол» как жанрово характерный продукт — «поэма», «притча» — творческого самовыражения, «осложненного философией» и известными житейскими «обстоятельствами» Розанова) придерживается большинство розановедов, наиболее очевидным образом — А. Синявский и представители «биографического» (условно выражаясь) направления. Однако при внешней простоте и выигрышное™ подобной позиции в тенденции она чревата смысловой редукцией творческого феномена Розанова, ибо подспудно предполагает снятие центральных проблем розановского творчества через абсолютизацию тезиса (верного, но недостаточного) о многосоставном, полимерном характере литературного «дара» писателя. Вдобавок можно привести и чисто историческое возражение: «проблема пола» не возникает в розановском сознании изначально, и весь «ранний» этап творческого развития (1880-е -— середина 1990-х гг.) задается совершенно иной идейной и жанрово-тематической конфигурацией, видимым образом не предполагающей ни «пола», ни «самовыражения» по типу «Уединенного». Заметное игнорирование этой половины литературного творчества Розанова, не вписывающегося в предустановленные «эрото-мистические» рамки, — тоже характерная черта современного розановедения.
Между тем и в сугубо философских интерпретациях доминирует концепция «мистического пантеизма В. В. Розанова», обычно ассоциируемая с именем А. С. Глинки-Волжского, хотя в смысле хронологическом «поло-пантеизм г. Розанова» (название одной из статей Алексея Ив. Басаргина (А. И. Введенского) против «нового религиозного сознания» [65]) становится объектом богословской критики с конца XIX века, и развивается эта церков-но-догматическая критика вполне автономно от «персоналистических» воззрений на тот же предмет. Однако и в светской религиозно-философской, и в богословской среде равно возобладала тяга к схематизации, упрощенной рационализации розановской идейной доктрины: корпус «полометафизиче-ских», «христоборческих» [724] и «языческих» идей, постулатов, совокупных теоретико-философских построений Розанова излагался здесь с разной степенью полноты, последовательности и приближения к «оригиналу», но, как правило, без долоюного учета той скрытой «целесообразности» розановского творчества, что определяет его глубинные «внутренние течения» и поддерживает его целостность и органику. Проще говоря, творческий феномен писателя осмысливался слишком прямолинейно, а нюансировки в его трактовках сводились к минимуму. Так, «светские богословы», в том числе и идеологи «нового религиозного сознания» (Мережковский, Философов, Бер дяев и др.), критиковали Розанова за имперсонализм (впрочем, не все: на наличие нечетко выраженной «персоналистической» линии в его «метафизике» указывал Закржевский), презрение к «общественности», тяготение к ветхозаветным реалиям, за «родовой» характер эроса, непонимание «мысли» Христа и христианства о плоти, за игнорирование спиритуалистического (духовного) начала в человеке и в деле преображения мира и т. д., и т. п. Отмечая справедливость многих подобных соображений, все же подчеркнем, что они были куда более принципиальны для розановских критиков, нежели для него самого.
Остается сказать несколько слов по поводу научных концепций, полагающих в основу биографическую канву творчества писателя. «Виновником» такого подхода отчасти стал сам Розанов, точнее, его модернистское «мифотворчество». «По глубокой рассеянности, — пишет Розанов в «Литературных изгнанниках», разумея свой «семейный вопрос» и коллизию с церковниками, — я много лет этого не клал им «на счет», пока раздраженная переписка с Рачинским... не дала мне заметить: «А, так вот откуда мое несчастие, вот от каких благочестивцев, старающихся о возрождении Руси, о сиянии православия... Эта догадка через несколько лет (sic: отчего же не сразу! что помешало? —Я. С.) дала мне (в 1897 г.) толчок повернуть все «к язычеству» [693, с. 89]. Но это — воззрение, датируемое 1913 годом; параллельно же исканиям 80 — 90-х годов писатель давал совершенно иные объяснения и мотивации творческого процесса. Возьмем для примера суждения 1889 года (из письма Н. Н. Страхову относительно «Места христианства в истории»): «...по поводам, которые вызвали все те мысли (одна из самых крупных ссор с женой, женщиной болезненной и несчастной, и воспоминание о давно умершей матери, женщине тоже очень несчастной и, кажется, тоже болезненной): помню я переехал в гостиницу от жены, и вот когда ходил по коридору и все думал о своей жизни, детстве и вообще о людях — у меня вдруг вспыхнула мысль о христианстве, о христианском способе отношений как о последнем и вечном идеале истории; потом на эту мысль или, скорее, желание нанизывались в течение лет (sic! — Я. С.) другие мысли, основания исторические, психические наблюдения и пр.» [693, с. 221]. Комментарии здесь, как говорится, излишни: не «мистически углубленные» порывы к декадент-ско-модернистскому «жизнетворчеству» и не напряженное отстаивание в полемике с христианством права «честного» развода и «святой семьи», а мысль о христианстве «как о последнем и вечном идеале истории», — вот что выносит Розанов из «крупных ссор» и «несчастного брака» с А. П. Сусловой.
Факты творческой биографии лишь подтверждают именно такую «телеологию» литературной деятельности. Итак, 1880 год (либо самое начало 81-го) — брак с Сусловой, и тогда лее постепенно начинает кристаллизоваться и осуществляться возникший замысел книги «О понимании». Через «два года» [693, с. 209] — резкое охлаждение «отношений», фактически поддерживающихся лишь формально. Пишется «О понимании». С окончанием работы над этим трудом (1886 г.) совпадает окончательный разрыв и скандальный «разъезд» супругов (причем есть данные, что не исключительно по вине Сусловой [825, с. 72]). Поворотное знакомство с В. Д. Бутягиной (Рудневой) совпадает по времени с новыми творческими (и тоже вполне благочестивыми) замыслами, интенсивно и страстно реализуемыми, — «Местом христианства в истории» и «Легендой о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». Незаконно (тайно) венчанный брак с нею приходится на лето 1891 года — время увлечения К. Н. Леонтьевым и консервативной идеологией as sich. Появляются первые дети, Розанов переезжает в Петербург и здесь впервые вплотную сталкивается с проблемой «незаконнорожденности» (середина 1890-х). В статьях этого самого «обскурантистского» за все 90-е годы периода проводится бескомпромиссная апология христианства и православной монархии, проповедуется религиозная нетерпимость и право государства на насилие, отвергается демократическо-«эмансипационное» «наследство 60-х годов», с позиций крайнего «идейного консерватизма» ведется яростный поход на либерально-радикальный лагерь. И лишь под конец XIXвека обозначается и постепенно утверждается «половая» тема, возникают первые «ростки» антицерковной и антихристианской критики.
Наблюдения можно распространить и далее, на XX век. Появление новых «розановских» тем поразительным образом совпадает не с каким-то событием интимной биографии Розанова, а с личным знакомством с Д. С. Мережковским, 3. П. Гиппиус, 77. 77. Перцовым (конец 1896 — 1897 гг.), а затем, через них, — и с кругом «Мира искусства». Прямой «принудительной» связи здесь нет, на что указывает хотя бы факт публикации ряда «полометафизиче-ских» и полемичных по отношению к христианству статей в консервативных органах печати. Тем не менее, максимум творческой активности Розанова — в количественном и качественном измерении — приходится (если не брать теперь во внимание конец 80-х — начало 90-х) на 1897—1904 гг. Последняя дата — прекращение существования «неохристианского» журнала Мережковского — Гиппиус — Перцова «Новый путь», где Розанов принимал самое деятельное участие. Именно в обозначенные годы Розанов высказал все те мысли, с которыми обычно и ассоциируется его имя, и написал все значимые произведения «нового направления», кроме «Уединенного» {1912 г.) и дальнейших опытов того Dice жанра. Период 1905—1911 ГГ., очень успешный в семейном и имущественном отношении, напротив, самый творчески бесплодный (работа в сфере текущей газетной публицистики по большей части). «Биографические» события, предопределившие такое положение дел, хорошо известны — Первая русская революция и «пореволюционное» резкое охлаждение отношений с ведущими деятелями «нового религиозного сознания», закономерно закончившееся полным разрывом и... эстетикой «Уединенного».
Таким образом, чтобы традиционные мысли и каноны мышления, которыми пользовался Розанов в продолжение 1880 — 1890-х гг., приобрели иной, противоположный оборот, потребовалось не менее по л у тор а десятков лет постепенной и последовательной трансформации мышления и всей сферы сознания. Розанова, вопреки всем его заверениям, «озарило» не вдруг: подобному «озарению», стимулировавшему «поворот» от христианства «к язычеству», предшествовала напряженная, целенаправленная методологическая работа, постоянная корректировка наличных установок сознания, которая не прекратилась и с переходом на рельсы «нового религиозного сознания», приведя писателя в конце концов к закономерному творческому итогу.
Иными словами, чтобы прийти к «розаиовскгт» выводам, к «розанов-щине» в ее окончательном обличий, нужно было иметь склад мышления Розанова, сходный тип сознания. А оттого и научное изучение творческого феномена Розанова неизбежно предполагает анализ и оценку специфики творчества как устойчивой производной сознания самого писателя, т. е. работу, которая до настоящего времени практически не производилась.
И здесь предметный разговор о «новом религиозном сознании» вновь обретает особое, приоритетное значение, ибо именно эта религиозно-философская доктрина, идеология, а также общественное движение и эстетическая реальность Серебряного века становится для Розанова тем узловым моментом, «золотым сечением» и водоразделом, в «призме» которого «зеркально» отображаются (и до известной степени причудливо совмещаются) ранний, «консервативный» и итоговый, «уединенный» отрезки (этапы) творческого пути.
«НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ» КАК ПОНЯТИЕ И ФЕНОМЕН (необходимая историко-теоретическая справка).
Сама констатация появления особого религиозного движения, отличного от прежде бывших (соловьевского «направления» в том числе), исходит из церковной среды и предположительно датируется 1899 годом (выступление К. Н. Сильченкова против «полометафизической» и антиаскетической тенденций статей Розанова: [733, с. 651]). Такая же позиция последовательного содержательного отграничения двиэ/сения «нового религиозного сознания» от прочих явлений русской религиозной мысли отличает исследование (серию статей) А. Басаргина «Религиозное обновление» наших дней» ([55] — [68]). Это — фактически единственное на сегодня серьезное монографическое исследование проблематики «неохристианства» Мережковского — Розанова, взятой в широком общественном и культурном контексте эпохи (Петербургские Религиозно-философские собрания, журнал «Новый путь», параллельные религиозно-философские течения Запада и литература русского модернизма). Мнение русской богословской школы в плане предстоящего разговора особенно важно ввиду его научной основательности и надежности — в плане, разумеется, целостной догматической идентификации специфического религиозного учения, противостоящего православному. И то, что из массы разнородных деятелей «религиозно-философского ренессанса» были выделены и совмещены в основах воззрений (и определяющей их метафизики) лишь две фигуры — Мережковского и Розанова, равно как и то, что лишь одна их «ересь», к которой в полемических целях было приложено наименование «новое христианство » или «неохристианство», волновала церковное сознание начала XX века, — весьма показательно.
Вместе с тем не секрет, что к «новому религиозному сознанию» в разное время и на разных «условиях» примыкали, а то и непосредственно смыкались с ним, многие знаковые деятели культуры прошлого. Достаточно указать на имена Н. А. Бердяева, Н. М. Минского, П. А. Флоренского (относительно последнего как «неохристианина» см. интересное исследование Б. Г. Розенталь [925]), а также А. В. Карташева, В. А. Тернавцева, П. П. Перцова, Е. А. Егорова и др. Определенные симпатии и тяготения к «новому религиозному сознанию» временно проявляли А. Белый, Г. Чулков, С. Булгаков; сложные творческие взаимоотношения связывают с именами Мережковского и Розанова колоссальную фигуру А. Блока. В историко-литературном плане определенное взаимодействие с «неохристианством» также отличает позиции В. Брюсова, Вяч. Иванова, Евг. Иванова, С. Соловьева (см. у П. П. Гайденко: [165], [166]), Л. Семенова и некоторых других символистов. И это, конечно, неполный и выборочный перечень. В известном смысле можно утверждать, что ни личности, ни идеология творцов «новой религии» не минули своим, пусть и не всегда очевидным, соприкосновением ни одну из заметных фигур на горизонте русской литературы и философии 1900-х годов. А сколько в орбиту «неохристианства» было втянуто «рядовых» и ныне ведомых лишь узкому кругу специалистов работников культуры — вообще вряд ли поддается учету. Укажем лишь на одно прежде упоминавшееся имя — писателя и публициста Н. Я. Абрамовича (помимо изданий прогрессивного толка, он сотрудничал с журналом «Новый путь» и беллетристическим отделом «Русской мысли») и на его произведение с претенциозным названием «Религия земли и духа» (1917) [9], представляющее бессистемную адсорбцию идейных «продуктов полураспада» «нового религиозного сознания» и иных духовных «веяний» минувшей эпохи, притом удачно скомбинированных с хлыстовством и преподнесенных публике в довольно популярном изложении. Подобные вторичные продукты «религиозного творчества» не только демонстрируют «обратную сторону титанизма» (А. Ф. Лосев) «ренессансной» эпохи, но и показывают степень проникновения «нового религиозного сознания», адаптированного под конкретные идеологические нужды, в интеллигентную массу.
Или возьмем примеры иного плана. В пору Петербургских Религиозно-философских собраний 1901 — 1903 гг. на откровенно «неохристианских» позициях стояли (либо так или иначе тесно смыкались с ними) следующие персоны: Мережковский, Розанов, Карташев, Философов, Минский, В. А. Тернавцев, Вас. В. Успенский, Вл. В. Успенский, Е. А. Егоров, В. С. Миро-любов, В. П. Протейкинский, С. С. Радованович и др. Если окинуть взором журнал «Новый путь», то наблюдаем таких стойких адептов «неохристианской» веры (без учета поэтов-символистов): Мережковский, Розанов, 3. Гиппиус, Минский, Перцов, Философов, Карташев («Т. Романский»), Вас. Ус пенский («Бартенев»), Е. Егоров, Г. Чулков, П. Соловьева, А. Смирнов, Л. Семенов, Н. Абрамович, Е. Лундберг, И. Вернер, В. Яковлев, А. Устьинский, А. Кондратьев, Е. Иванов, Л. Денисов, Д. Фридберг и довольно внушительное число анонимов, а также «свободные» искатели, органично вписывающиеся в общий контекст; из наиболее заметных — В. Хлудов, А. Шмидт («А. Тимшевский») и В. Бородаевский. Но уже на момент 1906 г., как явствует из письма А. Карташева 3. Гиппиус, налицо лишь очень ограниченный круг сторонников Мережковских: «я» (т. е. Карташев), «Дмитрий Сергеевич», «Дмитрий Владимирович», «Вы», «Тата», «Ната» (сестры Гиппиус), «Кузнецов» (В. В.), «Серафима Павловна» [923, с. 662]. То есть фактически видим семью Мережковских и двух-трех «друзей семьи».
И это не случайно. При устойчивом и крайне ограниченном числе лидеров — идеологов и теоретиков, наблюдается прихотливое колебание и варьирование числа симпатизантов движения, что обусловлено не только временными всплесками или спадами активности «христиан Третьего Завета» (их общественной и литературной пропаганды), но и самой сутью доктрины: есть некое «метафизическое» ядро учения, и есть внешние уровни, бесконечные степени «приближения» к существу «тайного», обретаемого лишь в совместном «действии», «знания»; такова же структура всех «эзотерических» культов и «тайных доктрин». Если подходить к дискутируемому вопросу проще, то все, в сущности, сводится к банальным задачам идейно-литературной борьбы: лидеры «нового религиозного сознания» намеренно стремились представить движение гораздо шире и масштабнее, чем то было на самом деле.
Поэтому логичнее вести речь не о «составе участников», а о «составе» учения, базирующегося на определенном, фиксированном методе; только в таком случае, как представляется, все само собой выяснится и встанет на свои места.
В церковно-православной среде «новая религия» Мережковского — Розанова однозначно трактовалась как ересь — «ересь астартизма» и «ересь sexus a» (А. Басаргин [56] — [58], [65] — [66]); неоднократно указывалось на раннегностические, «манихейские» и «несторианские» источники «нового религиозного сознания», попутно отмечались элементы протестантизма, «че-ловекобожества», гуманизма и, применительно к Розанову, «полопантеизма». Как бесперспективные и соблазнительные, противоречащие не только Евангелию, но и логике, расценивались попытки «неохристиан» «искать Христа вне Церкви», противопоставлять «апокалипсическое христианство» церковному («историческому»); делались усилия вскрыть несостоятельность антиаскетических тенденций в «неохристианстве».
Особое место в полемике против «нового религиозного сознания» уделялось вопросу о разрушительном воздействии данной идеологии на традиционное церковно-православное сознание, соответственно, и на русский народ как носителя такового. Эту «практическую» линию в критике целенаправленно проводили, например, публицисты «Миссионерского обозрения» (В. Скворцов, Н. Гринякин, И. Айвазов, М. Лисицын и др.) и «Русского вестника» (Н. Я. Стародум (Стечкин), Скиф), а также ряд священнослужителей (И. Филевский, А. Дернов и др.). Беспокойство прежде всего вызывала растущая общественная популярность «неохристианских» идей: «...книги Р. и М. в год-два выдерживают по нескольку изданий», через центральные газеты их взгляды «проникают в самые мелкие издания и листки», «защитники культа плоти делаются модными писателями», и если у них все «вытекает из... мистико-философских принципов, то для толпы... взгляды указанных писателей доступны преимущественно своею соблазнительною стороною» [512, с. 193]. Довольно частотны были и своего рода печатные «манифесты» традиционного сознания, направленные против розановско-«неохристианской» диссоциации религиозно-нравственных ценностей; классический образец — статья Н. А. Лухмановой «Кто дал им право?» ([412]; см. также: [128], [210] и др.). «Порнографическое», «с ответственностью за делаемое», воздействие книг Розанова на «неподготовленные» умы вызывало неодобрительную реакцию даже у публицистов суворинского круга: «В книжных магазинах можно было наблюдать, что ее (книгу «В мире неясного и нерешенного». — Я. С.) покупали исключительно хотя бы ради письма № 21 и притом покупали с предвзятою целью получения раздражающего чтения во вкусе маркиза Де-Сада ... Нет, с такими приемами учительства далеко не уедешь, а если и уедешь, то в такие содомские страны, куда лучше и не ездить» [186, с. 1054-1055].
Определенный позитивный отклик «новое религиозное сознание», расцененное как призыв к необходимым реформам внутри церковного организма, нашло лишь в среде церковнообновленцев, хотя стоит отметить, что в пору Первой русской революции «неортодоксальные» материалы были не редкостью на страницах всех духовных изданий, и даже из уст последовательных ортодоксов звучала критика по поводу конкретных недостатков канонической и догматической теории и практики Церкви, ее «отставания» от запросов и нужд современной общественной жизни (см., напр., выступления А. И. Введенского [588] и Н. Стеллецкого [778]). Дабы не возвращаться к вопросу впредь, отметим факт кратковременного «романа» церковнообновлен-ческого движения с фигурой Розанова, что было вызвано понятным стремлением использовать розановскую антицерковную полемику и представления о «брачном», укорененном в «земле» и «плоти» христианстве в своих целях. Существует довольно многочисленный корпус позитивных откликов (статей, рецензий) обновленцев на творческую деятельность писателя, по большей части — на книгу «Около церковных стен» (М. Тареев [798], В. Мышцын [496], Е. Поселянин [576], Г. Петров [549], [550], С. Щукин [892] и др.). Дружеские или личные (отчасти и творческие) контакты Розанова с прот. А. П. Устьинским и свящ. Г. Петровым — известны. И все же всерьез говорить о следовании Розанова обновленческой программе или даже о существенном схождении с ней не приходится — здесь он был «как все» интеллигенты его времени. Единственный общественно значимый момент «обобществления» целей борьбы можно усматривать лишь в притязаниях Розанова на участие в подготовке Собора Русской Церкви, т. е. в деятельности так называемого Предсоборного совещания или присутствия (подробнее об этом органе и связанных с ним реалиях см. у Н. М. Зернова [277]), где обновленцы, исходя из внутрицерковных настроений времен Первой русской революции, рассчитывали получить большинство. Примечательно, что затея Розанова была горячо поддержана «Церковным голосом» (главным обновленческим органом, см. показательные материалы: [74] — [77], [502], [749]), равно как и то, что из двух «кандидатур» на предстоящий «Собор» — Мережковского и Розанова — однозначное предпочтение делалось в пользу последнего (см. материалы прот. 1-І. Дроздова — [231] и [232]). Подобное разведение «религиозных личностей», целей и задач Мережковского и Розанова само по себе показательно (кстати, принципиальной смычки между их доктринами не находил и М. Та-реев [800, с. 133—145]); проблема лишь в том, что этот взгляд не соответствовал действительности, ибо лидеры «нового религиозного сознания» рассматривали предстоящий (так и не состоявшийся) «Собор» отнюдь не в обновленческом — в специальном смысле слова — контексте, а как логическое продолжение Петербургских Религиозно-философских собраний 1901— 1903 гг., их смысловое и жизненное («вселенское») расширение (см., напр., «Борьбу за догмат» Мережковского [436, т. XIV], «И не пойду...» [661] Розанова). Вся сложно задуманная интрига, впрочем, закончилась ничем и довольно быстро: православная «общественность» сказала «И не нужно...» (см.: [574], [586], [727]).
Но это лишь эпизод; в целом же, как было отмечено, церковные и околоцерковные оппоненты «нового религиозного сознания» последовательно рассматривали его как общественное контрправославное движение и деструктивное сознание, базирующееся на неприемлемой для ортодоксально-религиозной и традиционно-моральной точек зрения платформе. В подавляющем большинстве серьезных богословских сочинений не только довольно точно излагаются взгляды Розанова, Мережковского и единомыслящих им, но и, главное, выявляется гносеологическая основа «нового религиозного сознания», которая справедливо видится религиозно-эротической — «гармонией глубин, т. е. исступлений духа и плоти», от чего «и произойдет то изменение существа человеческого, о котором говорил апостол...» (П. Никольский [512, с. 189— 193]). «Фокус мысли» и «центральная точка» «обновителей» христианства, по мысли Басаргина, — «в вопросе пола» [56, с. 3]: «современные богоискатели говорят, что Бог есть... Пол...» [63, с. 4], что Он предстает «.двуполым языческим бозісеством, теснящим в сознании Бога христианского» [56, с. 4]. Н. А. Заозерский в данной связи даже выдвинул оригинальную мысль о наличии у Розанова особой «гносеологической теории», предопределяющей особенности духовно-творческого типа автора [266]. Нередко «новое религиозное сознание» рассматривалось и как своеобразная гносеологическая реформация (см., напр.: [62, с. 4]).
Мало диссонируют с этими воззрениями авторитетные изыскания современных ученых. Так, согласно выдвинутой П. П. Гайденко концепции, генезис «нового религиозного сознания» понимается в смысле экзистенциального самоопределения внутри оппозиции Вл. Соловьев — Фр. Ницше (как и в случае с символизмом); указывается также на гностические источники данной традиции — на сложную комбинаторику «христианских и гностических умонастроений» [165, с. 75] в воззрениях «новых христиан». Затем в духе прижизненной церковно-богословской критики и ее «эмигрантского» продолжения (Г. В. Флоровский, И. А. Ильин и др.) исследователь изобличает «астартическое» смешение категорий духа и плоти; что же до гносеологических оснований теории, то П. Гайденко, смыкаясь с некоторыми западными исследователями проблемы (напр., О. Матич; см.: [921], [922]), видит здесь эклектическую идеологию, религиозно-«реформаторскую» по духу и целевым установкам, эротическую по содержательному наполнению: проповедуемая Мережковским «великая религиозная революция — это революция сексуальная», «Святой Дух, в трактовке Мережковского, тождествен Святой Плоти», а «Третий Завет» «как раз и возвещает... веру в Святую Плоть», есть «религия святого пола...» [165, с. 75, 89—90]. Более того, на фоне иных линий русской мысли, восходящих к наследию Вл. Соловьева, «новое религиозное сознание» предстает в глазах ученого самой авантюристичной и вне-философской по качеству доктриной. В. А. Кувакин, напротив, склонен рассматривать «новое религиозное сознание» как феномен исключительно философский, осложненный богословской материей; параметры «неохристианства» задаются именами Мережковского, Розанова, Бердяева, С. Булгакова и Л. Шестова, а последняя часть книги «Религиозная философия в России: Начало XX века» посвящена обновленческим тенденциям и течениям в современном (т. е. советского периода) православии. Очень интересна (единственный опыт в современной науке) представленная Кувакиным сводная таблица под названием «Позитивные» проблемы «нового религиозного сознания» [370, с. 39—40].
Вместе с тем и означенная «таблица», и вообще оба только что обрисованных репрезентативных подхода допускают неоправданное, на наш взгляд, смысловое расширение идеологических и «персональных» рамок движения за счет прочих параллельных явлений русской мысли. У Кувакина «новое религиозное сознание» вбирает в себя соловьевско-«софиологическую» идейность (в лице С. Булгакова) и экзистенциально-«персоналистическую» тенденцию (Бердяев и Л. Шестов); П. Гайденко в числе основоположников «неохристианства» усматривает, помимо того же Бердяева, Вяч. Иванова и некоторых «мирискусников» [166, с. 325, 327], что даже исторически не вполне точно, ибо Бердяев и Иванов примыкают к «новому религиозному сознанию» лишь в пору «Нового пути», не ранее 1904 года, причем со своими целями и достаточно сложившимися контурами оригинального мировоззрения; что же до «обсуждения» проблем «новой церкви» в контексте «Мира искусства», то известно, к какому плачевному итогу оно привело. Возможно и бо лее «простое» решение. Например, в монографии Н. М. Зернова «Русское религиозное возрождение XX века» [277], содержащей богатый и хорошо систематизированный материал, вообще не делается разграничений между «религиозным возрождением» и «новым религиозным сознанием» — оба понятия (феномена) предстают как аналоговые.
До сегодняшнего дня практически не существует научного определения (или хотя бы развернутой характеристики) понятия «новое религиозное сознание» — за исключением тех ситуативных, которые давались ему его же адептами, т. е. Мережковским, Розановым, Бердяевым, Минским и др. Современное литературоведение обходит стороной этот вопрос (видимо, считая все и без того очевидным или неактуальным ввиду яе-литературной специфики проблемы), в философской же науке последнего времени, как показано, отмечается стойкая тенденция к отождествлению «нового религиозного сознания» с религиозным модернизмом и едва ли не всей религиозной философией конца XIX— начала XX века.
В подтверждение тому приведем одно типичное «определение», точнее, расхожее научное мнение: «...«новым религиозным сознанием» является сам процесс религиозных исканий (sic! —Я. С), а не его конечный результат, добиться которого все-таки не удалось никому из мыслителей Серебряного века» (Ф. Т. Ахунзянова [41, с. 11]). «Общим местом в этих поисках» ученому видится «представление... о христианстве как о «религии аскетизма»... интерес к сущности пола», осуждение «религиозного догматизма», — иначе говоря, «творческая интеллигенция... неизбежно вовлекает в область сомнения Церковь как институт веры» [41, с. 12, 10]. Столь общо сформулированные тезисы немного дают для уяснения гносеологической, культурно-исторической и художественной (в смысле направления и литературного преломления «жизнетворческих» усилий) специфики «нового религиозного сознания», ибо могут быть применены едва ли не ко всем культурным феноменам, так или иначе соприкасавшимся со сферой религии.
Действительно, в арсенале главных теоретиков «нового религиозного сознания» наличествовал немалый запас общих постулатов, в той или иной мере разделявшихся религиозно-модернистским движением в России. Это и установка на «религиозные искания» as sich, и критика христианства с требованиями церковного обновления, и идея «породнения» традиционного христианского сознания Церкви с «религиозным сознанием» интеллигенции, и «задачи» «освящения» (или «религиозного творчества») жизни, и «апокалипсические» умоначертания, и прочие «соблазнительные» светские посылы в церковный адрес. Вместе с тем, как показывает даже предыдущее изложение, у «нового религиозного сознания» была и своя особая идейно-гносеологическая специфика, базирующаяся на «метафизике пола» («духа и плоти» — «гармонии глубин») и, сверх того, — на принципиальном разграничении «старого» и «нового» религиозного сознания, на «гносеологической реформации» в области традиционного сознания, к которой, надо от метить, и сами основоположники экстравагантного учения были ментально предопределены.
Так, по образной мысли Розанова, деятельность «неохристиан», будучи качественно отграничена от иных направлений религиозной философии, «поворачивает», в отличие от последних, «все религиозное сознание от мертвой воды к живой, определенно зная (sic. — Я. С), что она есть, определенно зная, где она...». «Нельзя было раньше этого начать, — характерно продолжает Розанов, — ибо, напр., ни Владимиру Соловьеву, ни кн. Сергею Трубецкому, несмотря на их,молсет быть, и более крупные таланты, чему Мереэюковского или у Розанова, — однако не было известно ничего о живой и мертвой воде, и они плыли еще в океане исключительно мертвой воды. Долго это объяснять, — кто интересуется, пусть читает вообще все труды гг. Мережковского и Розанова...» [687, с. 271].
Это «изречение» явно намекает на какой-то «потаенный» смысл в феномене «нового религиозного сознания», и потому в высшей степени неосмотрительно и научно бесперспективно было бы ассоциировать объективные тенденции эпохи, ее общие «веяния» и «требования», с «новым религиозным сознанием», размывая тем самым границы понятия и фактически делая его простой аллегорией духовно-религиозных процессов, происходивших на территории России в конкретный промежуток времени. Столь же недостаточно представлять «новое религиозное сознание» как некий культурологический дискурс Серебряного века, связанный с философской интерпретацией вопросов религии под углом «символического» мироощущения, ибо и в подобном случае можно говорить сразу обо всем и одновременно ни о чем. Не лучший выход — и отождествление «нового религиозного сознания» с «новым эстетическим сознанием», прослеживающееся в ряде литературоведческих работ (напр., подходы О. А. Дефье [223], [224] и С. Н. Носова [524]): «причинная» связь и здесь, опять же, более тонкая, замысловатая.
Единственный выход — четко определить критерии «опознания» и границы феномена «нового религиозного сознания»: а) фактические (исторические, историко-культурные), б) теоретические (концептуальные) и методологические.
Объективно в культуре «религиозно-философского ренессанса» и символизма имеем:
— «софиологию» последователей Вл. С. Соловьева (братья С. Н. и Е. Н. Трубецкие, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и многие другие, меньшего масштаба мыслители),
— «христианский персонализм» Н. А. Бердяева,
— «христианский социализм» С. Н. Булгакова,
— «голгофское христианство» В. П. Свенцицкого — В. Ф. Эрна,
— «мэонизм» Н. М. Минского,
— «дионисийство» с «мистическим анархизмом» Вяч. Иванова — Г. Чулкова.
В этом же ряду — «теургические» проекты А. Белого и А. Блока, феномен А. Добролюбова, адаптированные под «ренессансное» мирочувствие доктрины оккультизма (например, «Тайная доктрина» Е. Блаватской), теософии (показательна фигура А. Шмидт — «воплотившейся» Софии) и антропософии (как известно, А. Белый — один из последователей Р. Штейнера). Наконец, даже в сфере сугубо философской наблюдаем «иерархический персонализм» Н. О. Лосского — с опорой на лейбницианство и «феноменологию» Э. Гуссерля, «абсолютный» (и, разумеется, предельно мистифицированный) «реализм» С. Л. Франка, не говоря уже об откровенно магинальных философских парадигмах вроде некоего пео-спгшозизма розановского приятеля Ф. Э. Шперка (см.: [880], [886], [887]). И это — только в символистской и околосимволистской культуре, а еще с полным правом можно указать на толстовство, «философию общего дела» Н. Ф. Федорова, «богостроительство» М. Горького и «легальных марксистов», «адамизм» (вообще активное воскрешение «неоязыческих» тенденций и течений, с непременным культом «естественного человека», «арийского» или «ведического» духа и натуральной силы), и, опять же, много чего другого.
По поводу такого засилия разнородных мистических доктрин остроумно писал марксист П. Юшкевич, отражая общее настроение «позитивной» части общества: «Мы имеем уже мистический анархизм Вяч. Иванова и Г. Чулкова, мистический эмпиризм Н. Лосского, мистический реализм Н. Бердяева (подобная путаница в терминологии — тоже показательное явление. — Я. С), своего рода «мистический» синдикализм гг. Мережковского и Фило-софова, — не говоря уже о других разновидностях «мистицизма» ... мистика стала в некотором роде универсальной категорией современного сознания, почти такой же всеобщей, как и стилизация, без которой... нельзя теперь ступить и шагу» [907, с. 95].
О столь очевидных, общеизвестных моментах литературы и культуры Серебряного века не стоило бы и упоминать, если бы существовали четкие системно-методологические дифференциации перечисленных явлений.
В довершение начатого разговора остановимся еще на одном значимом «источнике» по проблеме «нового религиозного сознания» — Н. А. Бердяеве, которого обычно напрямую и на равных сопричисляют к данному движению (да и сам он был далеко не прочь позиционировать себя в таком качестве). Дело в том, что в период от «Проблем идеализма» до «Смысла творчества» (1902—1916 гг.), находясь в перманентном поиске философско-творческой оригинальности и сложно адсорбируя в «духовном я» самые разнородные влияния — от марксизма до православной догматики, Бердяев оказывался до известной степени не чужд и «новому религиозному сознанию». То, что он изнутри чувствовал и понимал специфику этой доктрины, — не вызывает сомнений: «Религиозная проблема духа и плоти... рождается не из онтологического дуализма человеческой природы, а из величайшей для нас тайны раздвоения Бога на два Лика и отношения этого раздвоения к эманирующе-му из Бога множественному миру; и религиозно решается эта проблема, двойственность замиряется в третьем Лике Бога» («О новом религиозном сознании», 1905: [97, с. 236]). С таким определением существа «религии Третьего Завета» Мережковский, как известно, предпочел солидаризоваться («О новом религиозном действии (Ответ Н. А. Бердяеву)») и даже побуждал новообретенного единомышленника еще глубже осветить «светом философского сознания» тайники сознания «нового религиозного» [436, т. XIV, с. 168]. Однако он же и в той же «ответной» статье верно почувствовал субъективистский и «персоналистический» (антропоцентрический) уклон в «гно-зисе» корреспондента (то есть, иначе говоря, специфику «позднего», оригинального Бердяева-философа) и предостерег неофита от опасности «метафизического провала в пропасти «старой земли» (см.: [436, т. XIV, с. 169, 180— 183]). И, надо сказать, не ошибся. Так, в позднейшей статье «Новое христианство (Д. С. Мережковский)» [96] Бердяев уже безапелляционно утверждает, что вопрос о «новом религиозном сознании» правомерно ставить лишь как проблему новой религиозной антропологии, находящую «основание» в тотальности духовной субстанции — в ее «безосновной», творческой, экзистенциально переживаемой свободе, и это учение об индетерминированной свободе духа жестко противопоставлялось мережковско-розановской «метафизике духа и плоти».
Парадокс, однако, в том, что именно бердяевская переинтерпретация проблематики «нового религиозного сознания» объективно становится в современной науке приоритетной. Приведем в данной связи знаковые характеристики из программной статьи «О новом религиозном сознании»: «В душе нового человека перекрещиваются наслоения разных великих эпох: язычество и христианство, древний бог Пан и новый Бог, умерший на кресте, греческая красота и средневековый романтизм ... вселеленские темы вступают в свои вечные права... И мы живем... в захватывающую... эпоху... зачинающегося нового религиозного возрождения, загорающегося нового религиозного сознания.
Характерная, существенная особенность нашего нового возрождения, что оно двойное, двойственное... Мы переживаем не только христианский ренессанс, но и ренессанс языческий. Явление Ницше на западе и у нас Розанова, возрождение Диониса в современном искусстве, наш мучительный интерес к проблеме пола, наше стремление к освящению плоти ... В золотых наших снах нам грезится... преображенная земля, одухотворенная плоть, грезится природа, одушевленная фавнами и нимфами, и мы благоговейно склоняемся не только перед крестом, но и перед божественно-прекрасным телом Венеры». «Новое религиозное сознание, — продолжает Бердяев, — жаждет синтеза, преодоления двойственности, высшей полноты». Оно «есть продолжающееся откровение»: «Жизнь пола, жизнь общественная, вся прелесть мировой культуры, искусство и наука оказались в полюсе, противоположном религиозному сознанию исторического христианства. И вот загорается новое религиозное сознание, которое не может уже вынести этого разрыва, этого дуализма, жаждет религиозного освящения жизни, освящения всемирной культуры, новой святой любви, святой общественности, святой «плоти», преображенной «земли». Новое религиозное сознание возвращается к глубоким истокам всякой религии, к преодолению смерти в вечном, полном, свободном бытии личности...» [97, с. 226—227, 229—231].
Культурно-ментальная «социология» «духовного ренессанса» и общесимволистского мирочувствия образно очерчена Бердяевым с ясностью, не оставляющей желать лучшего, и не случайно приведенные строки стали по-своему хрестоматийными. Но в том-то и дело: речь у Бердяева — именно о социологгши и психологии духовно-интеллектуальных процессов рубежа веков, а не о «новом религиозном сознании» как таковом — обозначены лишь некоторые его признаки и внешние «атрибуты» без учета имманентной специфики. Вот, собственно, откуда берет начало расширительная трактовка «неохристианства» — его прямое отождествление с «русским религиозным возрождением» и культурой Серебряного века в ее духовно-спиритуалъном выражении. Если всецело исходить из бердяевского эклектического подхода, то в исследовании проблемы нужно ставить точку: все, что касается религии, «жаждет» «новых откровений» и «синтеза», где попутно с тем «двоятся» мысли и чувства, можно рассматривать как «новое религиозное сознание». Да и с точки зрения стилистической емкости и выразительности лучше Бердяева не скажешь.
Итак, исторически сложились два подхода к феномену «нового религиозного сознания», две его трактовки.
Первый подход предполагает предельно расширительное толкование: «новое религиозное сознание» отооїсдествляется с феноменом так называемого «религиозно-философского ренессанса» в России предреволюционных десятилетий и вообще с религиозно-художественным модернизмом эпохи. В тенденции же исторические рамки явления вообще могут исчезать, и тогда в орбиту «нового религиозного сознания» попадают мыслители «от Соловьева до Олега Поля (иеромонаха Онисима) и позднего С. Л. Франка» [118, с. 177], а в ретроспективе — вплоть до русских вольнодумцев времен централизации Московского государства и расколоучителей семнадцатого века (см., напр., параллели, проводимые Г. Флоровским: [846, с. 67—70]) или европейских средневековых мистиков-ересиархов (не случайно «Третий Завет» Мережковского постоянно отождествляют с учением Иоахима Флорско-го и даже с монтанизмом II в. н. э.).
Другая традиция истолкования, генетически восходящая, как отмечалось, к наследию русской богословской школы рубежа XIX — XX веков, более строго придерживается историко-философского принципа и вообще исторической фактологии, отчего дифференцирует «новое религиозное сознание» в границах религиозно-модернистской философии и художественной традиции Серебряного века — как одно из направлений и течений в ряду прочих. При этом главными теоретиками и идеологами «неохристианства» в России признаются Д. С. Мереэ/сковский и В. В. Розанов вкупе с их ближайшим и устойчивым философско-литературно-общественным окружением.
Научная предпочтительность последнего воззрения для нас очевидна, его мы и будем придерживаться в диссертационном исследовании. Если же говорить об основаниях и основательности (а не об издержках) первого подхода, то здесь следует акцентировать мысль о типологической общности сознания определенного качества в исторически преемственных, устойчивых и вместе с тем неизбежно эволюционирующих, изменяющихся, причудливо «мутирующих» его модификациях (что, в свою очередь, влечет за собой постановку проблемы генезиса «нового религиозного сознания»). Но эти соображения ни в малейшей мере не отменяют преимуществ «узкого» подхода к «новому религиозному сознанию» — напротив, лишь усиливают его теоретически.
Так, в качестве парадигматических л/е/72 я-«источников» «неохристианства» очевидным образом выступают, во-первых, гностическая традиция, разнообразно и сложно проявившаяся в явлениях мировой культуры, и, во-вторых, национальная традиция религиозно-художественного визионерства — от раскола вплоть до символизма. Знаменательно и то, что обе указанные культурные и ментальные парадигмы а) возникают на почве христианства (новой, «апокалипсической», его трактовки), б) так или иначе связаны с эстетикой и худоэюественным творчеством, в) восполняют эти последние религиозным содерэюанием, что в ряде случаев ведет к весьма существенным качественным трансформациям формальной стороны произведений. Все это в полной мере приложимо и к конкретно-историческому феномену «нового религиозного сознания», вопрос лишь в характере творческого освоения универсальных пара.дЩшттстоутжюштробпеме непосредственных предшественников «нового религиозного сознания». Из немногочисленных литературоведческих исследований следует выделить статью С. Г. Бочарова о К. Леонтьеве и Достоевском [118], от идейной контроверзы которых ученым прочерчивается пунктир к проблематике «нового религиозного сознания». Подход — абсолютно правильный, как в части разграничения двух «типов сознания» — «ортодоксально-традиционалистского» (Леонтьев) и «пророческого и творческого» (Достоевский и Вл. Соловьев), так и в заданной смысловой конфигурации («треугольник» Леонтьев — Соловьев —Достоевский в «интеграле» их проблематики — вопросе о новой религии любви); см.: [118, с 171—172, 177— 178, 182]. О том же самом писал и Розанов в одном из комментариев к опубликованной им корреспонденции Леонтьева: «Тут, в эти годы и в тех брошюрах (разумеются Пушкинская речь Достоевского, религиозно-дидактические рассказы Л. Толстого и «Наши новые христиане» Леонтьева. — //. С), в сущности, начался глубокий религиозный водоворот христианства. Стержнем его был вопрос: что есть сердцевина в христианстве: нравственность, братолюбие или некая мистика, при коей «братолюбие» и не особенно важно?» [693, с. 358]. В приблизительно таком же духе центральный (ближай ший) «источник» нового направления умственных и религиозных течений был понят и в богословской науке; нелишне указать хотя бы на имя А. Д. Беляева как одного из первых, кто начал серьезную полемику с тенденциями становящегося «нового христианства» (см.: [85] — [87]).
Сам этот термин — «новое христианство», в полемических целях употребленный Леонтьевым, был прочно был усвоен богословами. Но с легкой руки Мережковского была введена в оборот иная, «альтернативная» дефиниция — «новое религиозное сознание». Данное понятие им не только впервые употреблено, но и обосновано в книге «Л. Толстой а Достоевский» — именно по контрастує итогами религиозных «прозрений» двух русских гениев и «тайновидцев» (см., напр.: [451, с. 140—142, 349—350]). Разумеется, и о критической брошюре Леонтьева Мережковский знал не хуже Розанова. Можно подумать, что терминологическая разница невелика — едва ли не разница слов. И, однако, разница есть.
В качестве одного из вероятных источников леонтьевского словоупотребления С. Бочаров не без оснований указывает на «главный труд» Клода Сен-Сгшона «Новое христианство» 1825 г. [118, с. 182]. Это что касается различия исторического. Что же до гносеологического («догматического»), то при желании можно заметить вот какую вещь: при общем прилагательном «новое» в первом (леонтьевском) случае смысловой акцент ставится на существительное христианство, а во втором — на сознание (!), тогда как слово «христианство» в «словосочетании» Мережковского вообще отсутствует, заменяясь далеко не полно-тождественным прилагательным «религиозное». Хотя, с другой стороны, всем понятно, что предполагается именно христианское, а не какое-то иное «религиозное сознание», — и как базовая основа умозрений («грядущее христианство» «Третьего Завета»), и как объект полемики («историческое христианство»). Казус розановского «юдаизма» не противоречит сказанному, ибо и здесь полемическая энергия направляется в христианскую сторону (подробнее — во второй части исследования). Схоластическая «игра слов», таким образом, наполняется вовсе не пустым гностическим смыслом, и для признанного «словесного жонглера» Мережковского, всегда пунктуального в таком «жанре», подобное словоупотребление показательно. Действительно, почему бы не сказать «новое христианское сознание» или «новое религиозное мировоззрение» (понимание, теория, доктрина, etc.). Но нет: при практической «аналогичности» подобных дефиниций они проигрывают исходной в глубине, содержательности; и хотя передать словами это крайне затруднительно, но даже на чисто интуитивном уровне не составляет труда почувствовать, где эмпирика, «физика», а где — метафизика. Возьмем «подцензурный» аспект: «новое христианство» — однозначная ересь, а про «новое религиозное сознание» так с ходу узісе не ска-з/сешь, — нужно еще предварительно разобраться, что это такое, т. е. вовлечь свою мысль внутрь чуждого «сознания». Не случайно богословы-современники по большей части избегали оперировать с гениальным изобре тением Мережковского (ср. с «мэонизмом» Минского), преимущественно говоря о неохристианстве, а не о новом религиозном сознании.
Итак, «новое религиозное сознание» есть прежде всего и в первую очередь именно сознание — особое сознание, новое сознание, сознание особого (нового, ранее небывалого) качества, прилагаемое с определенной целью (опять же совершенно нетипичной для «старого», традиционного сознания) к познанию религиозной сферы, бытия божественного в его связи с бытием человеческим. Таково, во всяком случае, было гносеологическое самоощущение главных творцов «новой религии», целенаправленно реализуемое (опредмечиваемое) в совокупных творческих системах.
Вот, например, какова «историческая» розановская характеристика «представителей «нового религиозного сознания» (название статьи), данная в 1908 году, уже на изломе движения: «Новое религиозное сознание», которому едва можно насчитать десять лет (sic: 1897—1899 гг., очень значимые в плане мировоззренческого и творческого генезиса Розанова, плюс знакомство с Мережковским. —Я. С), зародилось в единичных кружках, точнее, — в немногих лицах... Это были лица, не ведшие позитивного образа жизни, и им легче всего было сбросить и позитивный образ мышления (sic. — Я. С.)... вернее, они никогда крепко его и не держались... В первоначальном фазисе своем оно образовалось из двух течений, которые встретились почти случайно и зародились оба самостоятельно и отдельно (sic. — Я. С): из того, что в пушкинской своей речи Достоевский назвал «русским мировым скитальчеством»... и из второго, более практического, источника, но который случайно повел к массе теоретических открытий, — из семейной нужды русского православного человека. Выразителем первого течения явился Д. С. Мережковский, первоначально «антик»...», а второго, разумеется, сам Розанов. И хотя этот «другой инициатор «нового религиозного сознания» был «гораздо менее образован... и менее... подвижен в идеях», он удачно «дополнил» и «усилил» «антика», придал «эллинизму и ницшеанству Мережковского» «какую-то насущную значимость, интерес дня», компенсировал своими воззрениями все «больные черты» нового направления — «слабость, отсутствие удара, силы... кровности, сочности жизни», сам же от подобной религиозной встречи «страшно расширился в горизонте». «Нужно оживить землю и нужно вторично освятить ее, — возвещает Розанов напоследок. — Что там касаться религией наружности, поверхности, образа мыслей и сплетения слов: ведь в этом состоят все наши схемы, и исповедания, и катехизисы. Нужно взять дело реальнее и глубже. Нужно, чтобы косточки-то в нас пели Богу, нужно изменить весь состав человека (sic. —Я. С), нужно заставить его иначе и лучше рождаться» (см.: [696, с. 355—357, 359—360]).
А вот как виделось то Dice самое Мережковскому (статья «Революция и религия», написанная в 1906 г. в Париже): «Декадентство в России имело значение, едва ли не большее, чем где-либо в Западной Европе. Там оно было явлением по преимуществу эстетическим, т. е. от реальной жизни отвлеченным: в России — глубоко жизненным, хотя пока еще подземным». «Русские декаденты», как оказалось, — «первые в русском образованном обществе, вне всякого предания церковного, самозародившиеся мистики, первое поколение русских людей, взыскавшее тайны, — какой именно, светлой или темной, Божеской или дьявольской, — это вопрос, который решается уже по выходе из декадентского подполья... в новое религиозное сознание» [436, т. XIII, с. 82—83]. Что касается генетической схемы Мережковского («декадентство» «новое религиозное сознание»), то она, конечно, прямолинейна и оспорима, особенно в свете современного научного знания, однако в то же время не лишена оснований. Так, один из ведущих литературных критиков эмиграции Г. В. Адамович, подводя в «Одиночестве и свободе» итоги Серебряного века, указывал на «единую творческую энергию», которая «вызвала в девяностых годах литературное оживление», и при этом отмечал особую, уникальную роль Мережковского в литературном процессе: «Мережковский был одним из создателей этого движения, вдохновителем этого (религиозного. — Я. С.) оттенка предреволюционной русской литературы», и без него «русский модернизм мог бы оказаться декадентством в подлинном смысле слова... именно он с самого начала внес в него строгость, серьезность и чистоту», привил интерес «к величайшим темам русской литературы, к великим темам вообще» [17, с. 26—27].
Всем подобным характеристикам и самохарактеристикам следует доверять с известной долей осторожности ввиду их тактической изменчивости, «протеичности», «символичности». Но факты внутреннего духовного самочувствия и поистине сектантской самоизоляции «представителей нового религиозного сознания» от параллельных направлений и течений религиозной философии рубежа веков и от магистральной линии развития символизма тоже говорят о многом.
Абстрагируясь от всякого субъективного и оценочного компонента в суждениях, необходимо умозаключить следующее. «Новое религиозное сознание» как явление в самом деле комплексное, феномен многосоставный, сложный, объективно существует в нескольких взаимосвязанных измерениях или преломлениях (проекциях). Именно — как
а) сознание (особое, контртрадиционное, но исторически обусловленное);
б) движение — религиозно-общественное и культурно-эстетическое;
в) доктрина (религиозно-философское учение, интегрирующее общее привходящих сюда индивидуальных «учений» и систем), а также возникающая на основе доктрины идеология;
г) метод особого религиозно-философского умозрения, стоящий в параллели с «символическим» визионерством и по своей гносеологической природе тяготеющий к гностицизму, а в исторически преемственной «реинкарнации» выступающий как радикальный «метод» новотвореиия бытия, «организации» Апокалипсиса.
Поскольку предметное («текстуальное») преломление «новое религиозное сознание» находит в творческих системах Розанова, Мережковского,
3. Гиппиус и присных, размыкаясь тем самым в собственно литературную плоскость, то с данной точки зрения оно уже «опознается» как особая литература «нового религиозного сознания», у которой есть своя имманентная специфика, специальный круг тем и трактовок этих тем в свете определенного метода и теоретических установок, что, разумеется, не исключает индивидуальной специфики для каждого автора; более того, такие «интегральные» феномены, как творчество Розанова и Мережковского, по необходимости отмечены ею в наибольшей степени.
Из всего сказанного прежде выясняется принципиальная НАУЧНАЯ НОВИЗНА предлагаемого исследования. Она заключается в том, что в нем впервые в отечественном и зарубежном литературоведении осуществлен целостный монографический анализ творчества В. В. Розанова во всем его объеме и предложена качественно новая интерпретация духовных (религиозно-философских) и литературно-эстетических исканий писателя в их внутренней взаимосвязи и взаимообусловленности. Вскрыты и объяснены основные проблемы, закономерности и константы литературной деятельности Розанова, что, в свою очередь, позволило дать развернутую характеристику данного творческого феномена на фоне эпохи и тем самым существенно восполнить ряд пробелов в науке о литературе русского модернизма конца XIX — первых десятилетий XX века.
Новизной подхода, помимо концептуальных положений, отчасти намеченных во Введении и во всех необходимых деталях устанавливаемых (разрабатываемых, проверяемых и подтверждаемых) по ходу исследования, отмечен также и ряд более частных фрагментов работы. Например, существенно корректируется в сравнении с имеющимися научными представлениями гносеологическая специфика «нового религиозного сознания», ставится (и в значительной мере решается) вопрос о литературной составляющей данного феномена; детально анализируются центральные книги и значимые (этапные) статьи Розанова, а также важнейшие, но недостаточно освещенные события его творческой биографии, каковы полемика с Вл. С. Соловьевым и Л. А. Тихомировым (1894 г.), коллизия с «православными консерваторами» на рубеже веков по поводу «половой метафизики», «религиозная политика» в рамках Петербургских Религиозно-философских собраний 1901—1903 гг. и в журнале Мережковских «Новый путь» (1903—1904) и др.; всесторонне рассмотрен «новопутейский» эксперимент Розанова как прямое предварение эстетики «Уединенного» и «Опавших листьев».
Цель, задачи и сам материал исследования обусловили выбор определенной научной МЕТОДОЛОГИИ анализа. Во Введении уже было констатировано известное несоответствие наиболее авторитетного на сей день методологического подхода к феномену Розанова гносеологической специфике розановского творчества. В силу того наш методологический подход опреде ляется как диалектическое отрицание (с удержанием ценных моментов и конкретных эмпирических достижений) обозначенного и предполагает изучение и оценку специфики творчества как устойчивой производной сознания самого писателя, а также охват всего творчества как единой системы, подчиненной единой логике. Подобный ракурс анализа способствует раскрытию методологических оснований авторского замысла в его последовательном развитии и позволяет выявить структурно-типологические принципы и признаки моделируемой писателем литературной традиции (так называемой «другой литературы»). Этим, в частности, оправдывается сильный философский акцент в диссертации, что, впрочем, предопределено спецификой творчества Розанова и корреспондирующих лиц.
В предметном отношении методологической основой диссертации является сочетание традиционных методов системно-целостного и проблемного анализа, восполняемых и корректируемых принципом (методом) историзма; в ряде случаев по необходимости привлекаются ценные элементы герменевтического и структурного подходов.
Избранной методологической основе соответствует и теоретическая основа диссертации. В анализе мы опираемся на наследие русской внепози-тивистской эстетики, литературной критики (особое внимание в данной связи закономерно уделяется и теоретико-критическим работам символистов вкупе с представителями «нового религиозного сознания), религиозной философии и богословской мысли XIX — XX веков и на труды по истории и теории символизма (шире — модернизма и вообще литературного процесса рубежа веков), в том числе и те, где напрямую затрагивается имя Розанова.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ диссертации, насколько об этом вправе судить автор, заключается в принципиально новом методологическом подходе к изучению творчества Розанова, а также корпуса литературы «нового религиозного сознания» как особого разветвления литературы символизма; в определении некоторых значимых, ранее не становившихся объектом пристального научного внимания, тенденций литературного развития конца XIX — начала XX веков, в конкретизации и дифференциации ряда научных представлений о данном периоде, наконец, в установлении диалектики религиозного и художественного модернизма в России, — пусть и на одном, но очень выразительном примере творческого феномена Розанова в контексте «неохристианско»-декадентской ментальности. Предложенные принципы анализа могут быть распространены на ряд писателей сходной модернистской ориентации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Материалы диссертации могут быть использованы в вузовских курсах истории русской литературы XX века, истории русской литературной критики (и журналистики), в рамках спецкурсов и спецсеминаров, посвященных литературе Серебряного века, в культурологических дисциплинах (культурная ситуация и духовные искания рубежа XIX—XX веков), в курсах по истории философии и эстетики (гносеология, идеология, проблематика и генезис «нового религиозного сознания», религиозно-философская система Розанова, философия пола и любви, эстетика русского модернизма и проч.). В перспективе эмпирические данные и ряд теоретических составляющих работы могут послужить подспорьем для целей научного комментирования академического собрания сочинений В. В. Розанова, планирующегося к изданию, или подобных проектов в отношении авторов, ассоциированных с «новым религиозным сознанием», либо лечь в основу ряда разделов современных учебных пособий для студентов университетов и педагогических институтов.
АПРОБАЦИЯ работы. Результаты исследования апробировались автором в процессе преподавательской деятельности в Липецком государственном педагогическом университете при чтении лекционных курсов по истории русской литературы XX века дореволюционного периода и истории русской литературной критики, а также в рамках спецкурса «Религиозно-философские аспекты русской литературы» и спецсеминара «Новое религиозное сознание» и русская литература конца XIX — начала XX веков»; как составная часть вошли в учебно-методическую разработку: Сарычев Я. В. Программа курса «История русской литературной критики» // Учебные программы для специальности 032900 «Русский язык и литература» педагогических университетов и институтов. — Липецк: ЛГПУ, 2003.
Основные положения диссертации докладывались на международных и всероссийских научных конференциях в продолжение 1999—2006 гг.: «Творчество А. С. Пушкина и русская культурная традиция» (Липецк, 1999), XXV Международные Толстовские чтения (Тула, 1999), Третьи Платоновские чтения (Воронеж, 1999), Третьи Киреевские чтения «Оптина Пустынь и русская культура» (Калуга, 1999), «Православие в современном обществе» (Тула, 1999), «Русская литература и философия: постижение человека» (Липецк, 2001, 2003), «Русское литературоведение в новом тысячелетии» (Москва, МГОПУ, 2002, 2003, 2004), «Михаил Пришвин: творчество, судьба, литературная репутация» (Елец, 2003); «Центральная Россия и литература русского зарубежья (1917—1939 гг.)» (Орел, 2003), «Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX века» (Москва, МГОУ, 2003), Международный симпозиум «Л. Н. Толстой в движении времени» (Тула—Москва, 2003), «Творческое наследие Ивана Бунина на рубеже тысячелетий: Опыт исследования, проблемы и перспективы» (Елец, 2003), «Век после Чехова» (Москва, МГУ, 2004 г.), «Русская литература XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения» (Москва, МГУ, 2004), IX и X Шешуковские чтения «Русская литература XX века. Типологические аспекты изучения» (Москва, МІНУ, 2004, 2005), «Литература в контексте современности» (Челябинск, 2005), «Наследие В. В. Розанова и современность (к 150-летию рождения писателя)» (Москва, ИНИОН РАН, ИМЛИ и ИР ЛИ РАН, Ин-т философии РАН, МГУ, 2006).
Написано также 10 словарных статей для «Розановской энциклопедии» в 3 т., готовящейся к изданию (ориентировочно 2008 г.) под редакцией доктора филологических наук, профессора, академика РАЕН А. Н. Николюкина (ИНИОНРАН).
По теме исследования опубликовано 43 научные работы общим объемом 66,4 п.л., в том числе три монографии (14 п.л., 20 п.л., 10,1 п.л.) и статьи в «Перечне изданий...», рекомендованных ВАК МО РФ для соискателей докторской степени (см. список в конце автореферата).
Научная методология, идеи, подходы и трактовки автора актуализированы в ряде исследований последних лет: Бойчук А. Г. Дмитрий Мережковский // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов) / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. — М.: «Наследие», 2001. — Кн. 1. — С. 848. Нартыев Н. Н. Человек и природа в поэзии Д. Мережковского // Природа и человек в художественной литературе: Материалы Всерос. науч. конф. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001; Сарычев В. А. Александр Блок: Творчество жизни. — Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004; Михин А. Н. Роман Д. С. Мережковского «Александр I»: художественная картина мира: Авто-реф. дис. ... канд. филол. наук: (10.01.01) /Магнитогор. гос. ун-т. —Магнитогорск, 2004; Тараскина В. Н. Роль Д. С. Мережковского в формировании культуры Серебряного века: Дис. ... канд. истор. наук: (24.00.01) / Саран, гос. ун-т. — Саранск, 2004; Слинько М. А. О некоторых аспектах изучения русского символистского исторического романа // Русская литература и философия: постижение человека: Материалы Второй Всерос. науч. конф. (Липецк, 6—8 окт. 2003 г.) / Отв. ред. В. А. Сарычев. — Липецк, 2004; Ковыршин М. А. Д. С. Мережковский в контексте мировой литературы // Русская литература XX века. Типологические аспекты изучения: Сб. науч. ст., посвящ. 90-летию засл. деятеля науки РФ, проф. С. И. Шешукова / Отв. ред. Л. А. Тру-бина. — М., 2004. — Вып. 9; Он же. Символика идолопоклонства в художественном мире трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» // Электронный вестник ЦППК ФЛ СПбГУ. — 2006. — Вып. 3; Кузнецова Н. В. Восток в худолсественном мире произведений Д. С. Мережковского 1920-х годов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: (10.01.01) / Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. — М., 2005 (исследователь, в частности, указывает, что «гипотеза» ее работы «выдвинута, в первую очередь, с опорой на концепцию Я. В. Сарычева, выраженную в книге «Религия Дмитрия Мережковского: «Неохристианская» доктрина и ее художественное воплощение» и т. д. — см. с. 7, 10—12, 18); Кулешова О. В. Философско-художественные искания Д. С. Мережковского в период эмиграции: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: (10.01.01) / ИНИОН РАН. — М., 2005; Ахун-зянова Ф. Т. Религиозные проекты в культуре Серебряного века и художественные формы их воплощения (Д. С. Мережковский и В. В. Розанов): Автореф. дис. ... канд. культурологии: (24.00.01) / Костром, гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. — Киров, 2006; и др. Первая наша монография удостоена обзорной рецензии в реферативном журнале ИНИОН РАН; см.: Кулешова О. В. 2004.01.007. Сарычев Я. В. Религия Дмитрия Мережковского: «Неохристианская» доктрина и ее художественное воплощение. — Липецк: ИНФОЛ, 2001. — 224 с. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение: РЖ / РАН ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. литературоведения. — М., 2004. — № 1. — С. 53—59.
Диссертация обсуждалась на кафедре истории русской литературы XX века Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и рекомендована к защите.
Особая «схема разума»: трактат В. В. Розанова «О понимании» как гносеологический проект
«О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (1886) — первое опубликованное произведение Розанова. Однако это отнюдь не только первый опыт печатного изложения мыслей и интуиции «начинающего» философа, во многом неудачный, со всеми свойственными для «начинающих» изъянами, да и вообще находящийся в стороне от идейно-творческой магистрали зрелого, «настоящего» Розанова, — как едва ли не общепринято считать. Дело, напротив, обстоит с точностью до наоборот. Конечно, не стоит труда который раз констатировать ту банальную истину, что на рубеже XIX — XX веков в миросозерцании Розанова произойдет кардинальный перелом, и «умственную деятельность» как наиважнейшую «естественную цель человеческой природы» (или, иначе, всецелую философскую ставку на ratio) тотально вытеснит и заместит собой sexus. Но полезно все же обратить внимание на то, что и тогда Розанов будет не просто пропагандировать «пол, брак и семью», но — выстраивать определенную сне те м у «половой метафизик и», т. е. вновь предложит русскому обществу свое особое «цельное знание», но уже иной, «антиподной» Духу (точнее, «спиритуальным началам») основы мирового универсума. Просто опять будет «изменен угол зрения», и все предстанет «в новом свете»; однако методология розановского «п о н им а н и я» (построения «цикла» идей в сознании) останется прежней.
Показательно, что Розанов вплоть до конца дней не признавал, казалось бы, очевидный факт творческой неудачи «О понимании» и неизменно высоко оценивал свой первый труд как нечто чрезвычайно для русской мысли важное. А самого себя — как мыслителя, превзошедшего в силе и оригинальности мышления едва ли не всех современников: «Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю, п. ч. я все-таки более их мыслитель («О понимании»). Вот и все» [560, с. 39]. Это откровение сделано Роза новым незадолго до смерти (в мае 1918 г.) в письме Э. Ф. Голлербаху. Несколько ранее, в 1913 году («Литературные изгнанники»), комментируя приватный спор с Н. Н. Страховым относительно «О понимании» и все так же продолжая считать, что он «целый мир открыл» [693, с. 12], Розанов вспоминал: «После отпечатания книги «О понимании» — у меня стоял уже план другой, такой же по величине, книги — «О потенциальности и роли ее в мире физическом и человеческом», — после которой, мне казалось, нужно поставить «точку» всякой философии и почти всяким книгам. ... И, словом, мне казалось, что «моя философия обнимет ангелов и торговлю» [693, с. 7—8].
Точно с таким же самоощущением Розанов завершал в 1886 году свой великий труд, прямо заявляя в его финальной части: «Мы обозрели все формы Понимания; и каково бы ни было то, что сказано нами в пределах каждой из них, самые пределы таковы, что через них никогда не переступит человеческий разум, но все, что он создаст в будущем, ляжет содержанием внутри их». И с переходящей все дозволенные «пределы» самоуверенностью добавлял: «...все последующее человеческое знание будет только подтверждением, исправлением и дальнейшим развитием сказанного здесь и иным чем-либо, с ним не связанным, никогда не сможет стать. Как в семени тайно заключено будущее растение через выражение форм его в minimum е вещества; так здесь в minimum е истин скрыто заключены все формы того древа познания, которому отныне предстоит расти через усвоение и размещение по этим формам других истин» [683, с. 613, 615].
Претенциозность розановского проекта вряд ли требует комментариев. В текущих откликах русской периодической печати дело, однако, предстало в несколько ином свете, а вызывающе-нарочитый апломб новоявленного универсалиста-систематика оказался весьма удобным предметом критических нападок и пародийного вышучивания. Так, потешаясь над «вздорными» притязаниями Розанова и потешая аудиторию «Нового времени», В. П. Буренин дал такую издевательскую характеристику «О понимании»: «...многое в книге было взято со слов и с ослов немецких любомудров, многое дойдено «собственным умом», на манер Луки Лукича Тяпкина-Ляпкина (так в оригинале. — Я. С), много философских Америк открывалось в ней «с другой стороны». Что касается до понимания непонятного и обнимания необъятного, то неведомый провинциальный философ на этот счет оказался почти образцовым» [133, с. 2]. В притязающей на научность оценок критике доминировал схожий взгляд; более того, отвергалась сама возможность и правомерность розановской постановки проблемы: «Понимание, как нечто независимое от науки и философии, стоящее вне и выше их, более несомненное и обширное, чем они, — это просто логический абсурд. ... Так как исходная точка совершенно произвольна и основное положение автора никуда не годится, то и весь труд является напрасным, никому не нужным. «Понимание», на которое автор возлагает такие удивительные надежды, остается все-таки только личным пониманием г. Розанова ... и кропотливая работа, предпринятая с фантастическою целью, остается лишь одним из наиболее курьезных прояв лений мнимой философской самобытности» [402, с. 851, 857]. Даже в положительных откликах (которые, впрочем, принадлежали так или иначе связанным с Розановым лицам; см., напр.: [865]) неизменно указывалось на туманность и «архаику» изложения, на злоупотребление философской схоластикой и при том — на практическое отсутствие в книге ссылок. В данной связи показательно мнение Страхова, симпатизировавшего исканиям Розанова (и, вдобавок, разобравшего концепцию книги по существу — наряду с Я. Н. Колубовским; см.: [351, с. 529, 547]): «...книга постоянно оставляет в читателе чувство странного неудовлетворения, а часто и большого разочарования. Автор ... не обращает вовсе внимания на каких-нибудь предшественников и полагает, что делает нечто совершенно новое, так как он нашел принцип, который один может дать цельность всей области научного знания». Между тем в такой «принципиальной» книге полно элементарных логических изъянов: «Внутренняя связь категорий... не излагается, и самый процесс, по которому одна из них порождает другую, не определяется... Наш автор берет все дело скорее как факт». «Сущность дела во всех подобных предприятиях, — итожит Страхов, — очевидно, заключается в основных началах, которые прилагаются к каждой области знания», — «настоящую цену имеет только то, что может выдержать самую строгую пробу», каковой, разумеется, построения Розанова, при всем их интересе, не выдерживают [785, с. 504, 507, 513—514]. В приватной переписке с Розановым Страхов выражал свои претензии еще резче: «...книга слаба... где много систематичности и общих обзоров и новых категорий. Мысль... очень подвижна, и при такой подвижности легко делать всякого рода теоретические соображения, которые тем обильнее являются, что в них нет твердости и определенности» [693, с. 12].
Философская основательность «фундаментального» (пресловутые «737 страниц» текста прижизненного издания) сочинения Розанова подверглась, таким образом, далеко не бессодержательным претензиям. Никто не понял розановского «Понимания». И было отчего. Ведь далеко не случайно, что книга «О понимании» не только не вошла в анналы мировой мысли, но и откровенно выбивается из круга основополагающих тенденций и течений русской философии, являя собой какое-то ее явно маргинальное и контрпродуктивное, тупиковое ответвление.
Суть подобного «положения дел» и вообще феномена «О понимании» заключается, на наш взгляд, в том, что работа эта по своему вполне осознанному автором и планомерно им проводимому «целеполаганию» являет собой некий грандиозный (масштабно задуманный) гносеологический проект, объективно предполагающий радикальный переворот в традиционно существующей сфере мышления.
Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев в творческом сознании и критической интерпретации В. В. Розанова
Стержневыми произведениями нового периода (начала 90-х гг.) действительно становятся «Место христианства в истории» (1888—1890), «Легенда о Великом Инквизиторе», Ф. М. Достоевского» (вариант «Русского вестника», 1891; отдельное издание —- «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария В. Розанова», 1894) и «Эстетическое понимание истории» (1892). Все три произведения опубликованы в «Русском вестнике», и каждым из них как бы открывался «новый год» творческой деятельности Розанова (печатались с первых, январских номеров журнала). Вообще «Русский вестник» становится знаковым для Розанова изданием в 1890—1896 гг.: все значимые, мировоззренчески и творчески характерные работы указанного семилетия увидели свет именно здесь, тогда как чересчур «наукоемкие» исследования обычно доставались в удел «Вопросам философии и психологии» или «Журналу министерства народного просвещения», а гипер-«православные» или монархические — «Русскому обозрению». Можно сказать, что в начале — середине 90-х Розанов явно мнил себя неким новым «русским вестником».
В ноябре 1888 года в письме Страхову он так излагал свои творческие планы: «Почти наверное, я приеду в Спб. на Рождество и тогда увижу и Вас... буду в Вас заинтересован еще видеть человека, который близко знал Достоевского, так сказать, осязал его руками. Не знаю, вдумывались ли Вы также внимательно в некоторые места его сочинений... но я вынес из всех моих размышлений о нем, что в душе его был такой хаос, такой предвечный или скорее «послевечный» сумрак царил там, что страшно и жалко становится за него; за его личность и за его жизнь. Для меня он есть синтез всего истинно человеческого, безусловно великого... — но он был несчастный человек, веровавший в Бога «с надрывом», сомневавшийся в Нем; я почти отождествляю его с Злым духом, явившимся Христу в пустыне: ради Бога, прочтите в «Бесах»... со слов «Но вам надо зайца», всего одну страницу, и еще в «Подростке»... со слов «Есть такие, что и верят...» всего строк 1... что они значат? какую тайну человеческой судьбы выражают? И прочтя эти два места и сопоставив с «Легендой об Великом Инквизиторе» и с письмом к Майкову, где он собирается написать роман, в котором выразить вопрос, всю жизнь его мучивший: о бытии Божием (и без сомнения выразил всю свою тревогу в Легенде об инквизиторе и в «Pro и Contra»). ...
Не думайте, что я теперь волнуюсь: напротив, совершенно спокоен. Пока я начал статью... «О вечности христианства». Мысль: 1) Закон полярности в истории и в распределении исторической роли рас. 2) Семиты, их психический склад (субъективность), их религиозная миссия. 3) Арийцы, их психический склад (объективность), их творчество в истории. 4) Евангелие разрывает семитическую замкнутость и, сохраняя в себе всю чистоту духа, которою запечатлена Библия, обнаруживает черты, которые мы находим лишь у ариев. 5) В Ксенофане и особенно в Сократе, Платоне и Аристотеле появляются черты психического склада, какой мы находим лишь у семитов. 6) Христианство и христианская цивилизация есть высший синтез истории, целесообразно двигавшийся.
Довольны ли будете?» [693, с. 180—182].
Принципиально, что замыслы «Легенды о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» и «Места христианства в истории» вынашиваются в сознании Розанова одновременно. В первом случае, как видим, определились лишь общие контуры воззрения на Достоевского, тогда как концепция и даже композиция «Места христианства в истории» предстает в детализированном обличий — за грани заявленных постулатов Розанов уже не выйдет. Работы действительно внутренне связаны между собой: от «понимания» объективного (хотя и сугубо «психического») процесса самодвижения человеческого духа на путях божественного промысла «сознание» Розанова целеустремля-ется к субъективным основаниям этого духа — от «плана истории» намечается переход к «плану души».
С момента самых первых откликов (см., напр.: [903], [777]) и вплоть до исследований недавнего времени (см.: [767], [754]) книга Розанова о Достоевском расценивается как определяющая для его последующих суждений о литературе, даже как основа его литературно-критического метода, который базируется на «славянофильской» и религиозно-философской (родственной уже «субъективной» критике модернизма) тенденциях. Но ограничиться исключительно сферой литературной критики не представляется возможным, ведь мы только что могли убедиться, что перед Розановым мучительно вставала проблема миросозерцания Достоевского с его сложной, трагичной диалектикой «веры» и «неверия». Центральная «проблема творчества» Достоевского — проблема религиозного миросозерцания — становится жгучей экзистенциальной проблемой и для самого Розанова: «Розанов видел философскую оригинальность Достоевского в том, что тот, признавая равную невозможность доказательства как существования бога, так и его отсутствия в силу относительности человеческого познания, выдвинул идею несовместимости нравственной природы человека с «божьим» миропорядком, показав, как лучшее, высшее, «божеское» в человеке восстает против «установления бога», против закономерностей действительности. Противоречие между нравственными законами человечности и реальным миром снимается только религией, — утверждал Розанов, выдвигая... задачу опровергнуть «диалектику» Ивана Карамазова, оставленную Достоевским неопровергнутой. По мне нию Розанова, нигде в мировой литературе до «Легенды о Великом Инквизиторе» диалектика человеческого мышления не была так мощно направлена против христианства» [767, с. 205].
Перед нами — довольно удачное изложение хода мысли Розанова; подобным же образом его концепция оценивалась и современниками. Например, Я. Н. Колубовский выделил в своем библиографическом обзоре противоречие между «антропологическим» и религиозным принципами в качестве методологической основы розановской интерпретации [353, с. 199], а «философ свободного духа» Н. А. Бердяев в рецензии на третье издание даже попытался подверстать взгляд Розанова к своей, находящейся в процессе становления, доктрине «христианского персонализма»: «На анализе Достоевского Розанов показывает, что только религиозно может быть утверждено безусловное значение человеческой личности, и это самая сильная, самая несомненная сторона его книги» [92, с. 10].
Проблема религиозной (христианской) антропологии и «экзистенции», попытка выстроить цельное мировоззрение на основе принципиального решения данной проблемы — все это, безусловно, очень важно. Берем, однако, на себя смелость утверждать, что не это есть то главное, что «мучило» Розанова в Достоевском и заставляло напряженно вглядываться в его творчество.
Любопытно и показательно уже то, с чего начинает Розанов свою «Легенду...». С жаэюды земного бессмертия, которая иллюзорно (но гораздо прочнее, чем в продолжении рода) достигается «в великих произведениях духа» [681, с. 38]. В подтексте, как нетрудно догадаться, заключено и «чаяние» реального достижения желаемого. А далее — знакомая логика: «Кто пробуждает в нас понимание, тот возбуждает в нас и любовь» [681, с. 54]. Этим, собственно, и обусловлен «мотив» выбора Достоевского и «поэмы» «Великий инквизитор» как «центра» (по Розанову) творчества писателя. Творчество «духа» необходимо существует как понимание, а не самовыражение, — считает Розанов, и последовательно отвращает испытующий взгляд от Гоголя, попутно отрицая «гоголевскую» традицию в русской литературе. Розановское отношение к Гоголю известно и не раз становилось объектом жесткой критики или научной рефлексии (из прижизненных полемических откликов наиболее заметны: [506], [507], [905], [859], [885]; из работ обзорно-ознакомительного плана, прошлых и современных, — [353, с. 198—199], [681, с. 21—23, 31—36], [515]). Но Розанов скептически относится и к художественному «ясновидению» иных русских классиков со Л. Толстым во главе: все они есть «художники жизни в ее завершившихся формах» — настолько «завершившихся», что ничего поделать уже нельзя, кроме как восхищенно созерцать пластику «установившейся жизни» и «духовного строя». Достоевский же — «аналитик неустановившегося в человеческой жизни и в человеческом духе» [681, с. 71], им «раскрыто таинственное зарождение новой жизни среди умирающей» и предуказана «тайна возрождения всего умирающего» [681, с. 81—83].
«Две головы»: «Половая метафизика» В. В. Розанова в свете эротической гносеологии «Третьего Завета
Ведущую роль в процессе перехода Розанова из лона традиционного на рельсы «нового» религиозного сознания, как показывает предыдущее изложение, сыграла сама внутренняя логика «самодвижения» розаповской мысли. В данной связи становится очевидно, что ограничиться «методологическим» уровнем «понимания» и тем более адсорбцией наследия предшественников Розанов просто не мог: импульсы имманентного творческого развития властно требовали от него собственного «религиозного творчества» (в самом широком, розановском значении идиомы) и предметного утверждения своего «содержания» в действительности, в наличной «исторической» ситуации. Иными словами, полемическая составляющая литературной деятельности Розанова становится в 1890-е годы (да и во все последующие) не менее важной для конституирования писательского лица, нежели умозрительно-«метафизическая».
Обе они тесно, неразрывно связаны между собой. Так, «леонтьевская» коллизия (диалектика религиозного творчества и ортодоксальной веры, помноженная на методологию органического, т. е. в существе своем консервативного, развития), опредметившаяся в творческом сознании Розанова, требовала вящего разрешения в плоскости общественного «действия». Розановым движет «жадное стремление, овладев событиями, направить их» — путем «проникновения в ход истории и влияния на него», для чего и необходимо было «прояснить сознанием» [684, с. 34] ведущие тенденции века. Они, эти тенденции, как показало еще исследование о Леонтьеве, весьма неутешительны: «...богатство творчества... иссякает... безбрежность ничем не ограниченной мысли... становится утомительна. Это сказывается оскудением поэзии и художества, упадком воображения и чувства и, с другой стороны, — в хаосе, обезображении всей жизни личной, общественной, политической... Веселость и красота двухвекового карнавала (начатого Петром I. — Я. С) прошла, а то, что остается от него, дымящиеся факелы и безобразно уродливые маски, разбросанные там и здесь, не могут быть ни для кого привлекательны и дороги. В подобном положении... стоит наше общество теперь — очевидно, на рубеже двух циклов своей истории, из которых один уже заканчивается, а другой еще не наступил» [684, с. 111].
В критической части этот «манифест» «Эстетического понимания...» почти буквально совпадает по мысли с финалом статьи Леонтьева «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» (знакомой Розанову), где также выражена надежда на скорый конец «петербургского периода»: «Конец петровской Руси близок... И слава Богу. Ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее отойти от него, отрясая романо-германский прах с наших азиатских подошв! Надо, чтобы памятник «нерукотворный» в сердцах наших, т. е. идеалы петербургского периода, поскорее в нас вымерли. Sapienti sat!» [390, с. 431]. Но совсем не то видим у Розанова в прогностической части выступления: здесь достается не только славянофилам, «чаяния» которых оставлены без внимания, но и «византийцу» Леонтьеву, подтолкнувшему Розанова к идее «рубежа» исторических циклов, — и именно за «недостаточность, необоснованность в синтетическом построении будущего» [684, с. 111]. «Да, умственные дела нашего времени... предмет нескончаемой печали, — писал Розанов Страхову в феврале 1892 года, сразу по завершении работы о Леонтьеве. — Что Вы с этим сделаете, кто может что сделать, если люди разучились думать, не умеют оценивать... Древнего огонька бы нужно, подумывал я в прежние годы (sic! —Я. С), — разжечь, подпалить; простите, это Вам кажется преступно; но разве же не преступно такое состояние умов даже перед Богом?» [693, с. 282].
«Реформа» и едва ли не революция в сознании, во всяком случае, существенная и деятельная трансформация наличного общественного сознания в России осознается Розановым (в свете последнего высказывания в этом не может быть сомнения) как насущная задача современности. Предлагается, в сущности, новый умственно-исторический поворот и переворот, «творчески» революционизирующий сферу сознания в нужном направлении. Только при такой постановке дела возможно действительно новое (взамен «иссякающего») творчество во всех областях жизни: и в религиозной, и в государственной, и в искусстве, и в бытовой среде. Но д о желаемых перемен необходима интенсивная предварительная работа мысли по обеспечению поворота «по иному типу» [684, с. 114—115]. И — охранение существующих «основ» и «опор» национального типа, уже придавших ему уникальное, особое, отдельное от всех прочих «культурно-исторических типов» бытие. Без этих двух условий невозможно никакое творчество, а будет лишь «смешение» и «разложение», предуказанное Леонтьевым. Отдавать на откуп «индивидуальному творчеству» современности, сложившемуся и возросшему в эпоху «двухвекового карнавала», на ее пагубных принципах, судьбу новой, «четвертой фазы» (после киевской, московской и петербургской) развития России, «синтетическое» ее будущее, Розанов был ни малейше не намерен.
Такое, скажем прямо, обоюдопревратное интеллектуальное построение (сочетание гииер-модернизма, находящегося пока в зачаточной стадии, и ги-пер-традіщіюналкзма, иначе говоря, модернистские изводы славянофильского традиционализма) обнаруживало некоторый, довольно существенный дисбаланс всей «синтетической» конструкции и в тенденции закладывало под розановский «консервативный» проект и сами по себе активно «охраняемые» им религиозные и национальные «опоры» материал огромной разрушительной силы. К тому же, «дело» осложнялось непроясненностью в ро-зановском «сознании» принципиальнейшего момента — на чем и как строить «новую цивилизацию», каково конкретное содержательное наполнение предлагаемой обществу от розановского лица «фазы». Постоянные же апелляции к достижениям русской «школы оригинальной мысли» (см., напр.: [682, с. 177—178]), разумеется, не устраняли этого скользкого, соблазнительного вопроса. Для полноты картины розановскои идеологии середины 90-х все это необходимо помножить на особенности все более определяющейся творческой (точнее, экспрессивно-стилистической, психоэмоциональной) «индивидуации» писателя.
Полемика 1894 года с Вл. С. Соловьевым и Л. А. Тихомировым по вопросу о веротерпимости как раз объективно обнажила, вывела наружу подспудные процессы, происходившие в творческом сознании Розанова.
Вообще-то полемика по вероисповедному вопросу была инициирована не Розановым, а Вл. Соловьевым еще в недрах аксаковской «Руси», где на протяжении 1883 года печатался его «Великий спор и христианская политика», — этапное произведение, которому суждено было стать своеобразным водоразделом между новой религиозной (экуменической и «теократической») программой Соловьева и традиционным славянофильским воззрением на православное христианство и его всемирно-исторические задачи. В продолжение 1880-х и в начале 1890-х годов накал этой полемики не стихал: против Соловьева, перешедшего на либеральные позиции в вопросах церковной и общественной жизни и из славянофильских изданий в «Вестник Европы», выступили практически все «столпы» русской консервативной мысли — И. С. Аксаков, Д. Ф. Самарин, К. Н. Ярош, П. Е. Астафьев, А. А. Киреев, К. Н. Леонтьев и Н. Н. Страхов; соловьевские «ответные» материалы интегрировались по преимуществу в два «выпуска» (тома) «Национального вопроса в России». И тот виток полемики, что связан с именами Тихомирова и Розанова, фактически явился завершающим в многолетнем «великом споре».
Религиозно-философская программа и идеология журнала «Новый путь» (1903—1904). Полемический контекст вокруг В. В. Розанова
Итак, terror fidei Розанова потерпел очевидную неудачу в плане общественного восприятия. И, будучи не поддержан современниками, равно «левыми» и «правыми», «еретиками» и «ортодоксами», Розанов усомнился в самом принципе христианской веры, заменив ее иной верой, более «сладкой» и в то же время более устойчивой и основательной, как ему представилось, в исходном принципе: «Да, сладкая вера, физиологически сладкая... какой это рычаг (sic. —Я. С), еще не подсунутый под землю! Какое поднятие человека к Богу! ... сладость истомы, особой органической, в религии. Молитва потечет по жилам — это совершенно новое!» [685, с. 184]. Таковой запечатлелась эта новая «религиозно-сексуальная» вера в первой «неохристианской» книге Розанова — «В мире неясного и нерешенного», и по видимости то была радикальная измена прежним убеждениям — та самая «измена знамени», за которую, собственно, и обличался Соловьев. Действительно, динамика модернистских «исканий» и у Розанова, и у Соловьева закономерно предполагала отклонение в сторону от «ортодоксии» христианства — к гностическим и вообще внехристианским решениям «апокалипсической» проблемы. Тем не менее, у себя Розанов «измены» не чувствовал, ведь он не погрешал против своего принципа «организации» религиозного бытия, против «метода» новотворения, только «почва» к концу века для всего этого нащупываласъ иная, более эюизненная, отчего и христианство «представилось» Розанову недостаточным, слишком «пассивным», онтологически не насыщающим своих «верных».
Однако к такому решению Розанов пришел отнюдь не сразу и вовсе не безболезненно. Если судить объективно, со второй половины 1890-х гг. в его творчестве наблюдается масштабный системно-методологический сдвиг в сторону религиозного модернизма, параллельно чему психологией модерна проникается и вся сфера художественного сознания писателя. Но верно и то, что до появления «пола» как новой тематической линии творчества, т. е. приблизительно до 1897—1898 гг., этот процесс носит латентный характер, а литературный «текст» и полемический контекст «предмодернистского» этапа характеризуется ничуть не спадающей «религиозной нетерпимостью» в ее мыслительном и экспрессивно-стилистическом выражении. Иными словами, поначалу Розанов упорно не собирался сдаваться на милость обозначившимся новым тенденциям миросозерцания, что само собой предполагало наличие двух взаимоисюиочающих тенденций в творчестве данного периода, равно задающих вектор «пути».
В дискутируемом смысле очень характерна статья 1895 года «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого». «Особенная тревога» Толстого — страх смерти, не физический только, но метафизический (смерть как небытие, уничтожение духовно-телесной полноты личности, «со связкою тлею щих костей»). Отсюда логически проистекала знакомая коллизия — спасительной силы церковности и пагубы «самочинного» еретичества. Но, опять же, не этот самоочевидный постулат определял главный концептуальный момент статьи. У Розанова, как всегда, наблюдается куда более дифференцированный подход к проблеме: «...мы хотим сказать: разве не ясно, что... святая церковь есть живое тело Бога, раз через нее общение с Ним доступно для всякого, и без нея — ни для кого? ... Если естественный ум, если искренние искания не приводят ни к чему самые высокие силы, значит — они ищут в пустыне, в которой искомое сокровище не находится; и если даже глупый, даже и не ищущий ничего, едва наклонясь к земле, подымает с нее золото, значит — здесь руда, искание больше не нужно и предлежит лишь приобретение. Мы говорим это, имея в виду тысячи у нас «ищущих»... Можно сказать, что он (Толстой. — Я. С.) чувствует Бога, как слепорожденный все еще чувствует свет солнца и только не умеет его определить, назвать, им овладеть, с ним вступить в общение; и, между тем, только тонкая пленка отделяет его от живительного моря лучей» [623, с. 186—187].
В свете данного высказывания становится очевидно, что не религиозное «искание» как таковое занимало ум Розанова, — свою позицию он откровенно противопоставляет «тысячам ищущих», из которых наиболее вредоносный для «святой церкви» — Л. Толстой. Розанову валена сама по себе «руда», ему важно правильно определить место ее залегания, «географическую точку» всеспасающего и вседостаточного «месторождения». Если это Церковь, то никакое «искание» не нужно. Но есть ли это Церковь? Вот типично «розановский» вопрос, ведь писатель, разумеется, вовсе не то же самое, что поставленный им в пример «искателям» верующий «глупец», — для него принцип «нерассуждающей», канонически определенной веры просто не может не состыковаться с более «технологичным» гностическим принципом: определить — овладеть — вступить в общение — и пребыть уже до конца «в свете».
«Антитолстовская» статья, показывая в полной мере специфику гносеологических устремлений Розанова, являла и любопытный образец его духовно-творческой психологии. Во-первых, знаменательно само экзистенциальное томление по поводу смерти, в чем Розанов практически без остатка «сопричащается» Толстому, — вся рациональная часть рассматриваемого материала посвящена именно попытке обоснования возможности победы над смертью на «спасительном» ортодоксально-христианском пути. Но перебирая имеющиеся христианские и околохристианские подходы к проблеме «вечной жизни», Розанов так и не находит осязательно ясного, до конца удовлетворительного решения: ему не открывается та самая «технология» обретения бессмертия; между тем без правильной, православной веры в Бога вообще, как помним, теряется «руда» и начинается бессмысленное «искание». Насколько эта проблема была мучительной для Розанова, можно понять хотя бы по тому, что он до конца дней своих так и не отстал от христианства, честно не «разошелся» с ним, все время бродил «около церковных стен»: новообретенная «метафизика пола» давала ему ответы на все вопросы, кроме той «тревоги», что мучила и «гр. Л. Н. Толстого».
Отсюда целиком и полностью проистекает второй момент, определяющий характерность данного полемического выступления: по композиционно-стилевой организации оно непосредственно смыкается с «Ответом г. Владимиру Соловьеву».
Уже вынесенная в эпиграф фраза из толстовского «Хозяина и работника» — «Ох, длинна ночь...» — в устах Розанова обозначала неколебимую решимость новоявленного апостола православия и его «новой эры» воинствовать до конца среди поразившей русскую жизнь «ночи» безверия и религиозной смуты. И Розанов ничуть не отклоняется от раз избранного (опробованного на Соловьеве) амплуа: «Ты... уже в сединах, уже перед недалеким гробом, как бы обезумев — потянулся за этою, тобою презираемою, мишурой, оставив... смирение и кротость душевную... И посмотри, как изменив себе — ты утратил мудрость... возвысившись — унизился, стал меньше. Ты укоряешь теперь... — но разве лучшие дары, тебе данные, ты лучше употребил? Ты... разве остановился перед тем, чтобы смутить тебе соответствующею суетою тысячелетний покой церкви? ... ...ты как паразит ползешь по чужому телу и выискиваешь, где бы вкуснее укусить. .. . Но с тобою, но в «тьме», которую ты допустил в душу свою и надвигаешь ее на нас — куда мы пойдем? .. . ...говорю тебе — не смей осуждать... не высматривай... если не хочешь погибнуть ужасно и жалко».
«Истинно, истинно говорю вам: если кто не потеряет душу свою ради Меня — не сохранит ее» [623, с. 180—182, 185, 179].
Розановское «распекание» Толстого, «эти строки, изумительные по наглости и дикой распущенности», всколыхнули всю русскую печать и однозначно восстановили ее против полемических «талантов» Розанова. Причем для наиболее проницательных критиков вроде Н. К. Михайловского, автора приведенных характеристик, рецидив литературного хулиганства Розанова не заслонил главного — особой символичности данной фигуры для эпохи «безвременья». Розанов, подчеркивает Михайловский, «не... случайный первый встречный», «это человек, имеющий свою аудиторию... что, может быть, и дает ему смелость говорить с гр. Толстым тоном знаменитого архимандрита Фотия». «Но, — продолжает критик, — ...Розанов человек светский и даже гг. Южные и Николаевы, Чуйки и Шперки понимают, что благодати священства на нем нет. Я думаю поэтому, что статья г. Розанова есть явление беспримерное ... ибо ко всем обычным неприличиям... здесь прибавлен еще этот якобы свыше вдохновенный тон. Одно из двух: или г. Розанов лицемерит, или он кощунствует» [475, с. 32—33].