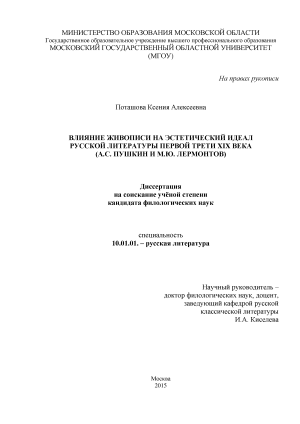Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1 Лехника художественного синтеза в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 22
1.1. Проблема изучения взаимодействия поэзии и изобразительного искусства в пушкинистике и лермонтоведении 22
1.2. Обращение к живописи как средство создания портретного и пейзажного образа в творчестве А.С. Пушкина 43
1.3. Преломление эстетических принципов изобразительного искусства в поэтическом творчестве М.Ю. Лермонтова 65
ГЛАВА 2. Литературная рецепциянаследия рафаэля и рембрандтав первой трети XIX века 89
2.1. Рафаэль Санти и его живописное наследие в литературной рецепции 1820-30-х годов: идеал высшей красоты, чувство запредельного, природа гениальности 89
2.2. Образы картин Рафаэля в художественном мире А.С. Пушкина М.Ю. Лермонтова 113
2.3. Живопись Рембрандта в художественном восприятии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 137
ГЛАВА 3. Проблема взаимодействия творческих индивидуальностей: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов среди художников своего времени 164
3.1. Творческий диалог А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова с художниками-современниками 164
3.2. Личные и творческие связи К.П. Брюллова с А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым 197
3.3. Образ «пылающего Везувия» в художественном мире А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, К.П. Брюллова 222
- Обращение к живописи как средство создания портретного и пейзажного образа в творчестве А.С. Пушкина
- Преломление эстетических принципов изобразительного искусства в поэтическом творчестве М.Ю. Лермонтова
- Образы картин Рафаэля в художественном мире А.С. Пушкина М.Ю. Лермонтова
- Личные и творческие связи К.П. Брюллова с А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым
Введение к работе
Актуальность исследования определяется отсутствием целостного научного освещения вопроса взаимодействия литературы и живописи в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, недостаточно изучена специфика образной системы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в связи с усвоением ими опыта живописного искусства. Актуальным представляется выявление источников художественной образности творчества А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, позволяющее раскрыть уникальность синтеза вербального и визуального начал в художественном мышлении поэтов.
Степень изученности проблемы. Взаимодействие литературы и
изобразительного искусства в поэтике произведений Пушкина и Лермонтова до
сих пор не были предметом специального исследования, а между тем этот
вопрос поднимался уже в критике XIX века. Сравнения Пушкина и Лермонтова
с художниками, а их произведений – с живописными полотнами, размышления
о живописности их поэтического слова отражены в статьях и письмах
Н.А. Плетнёва, К.А. Полевого, Е.А. Боратынского, Н.М. Языкова,
Ф.В. Булгарина, С.О. Бурачека, В.Т. Плаксина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева,
И.А. Гончарова. Особенная роль в постижении художественности
произведений Пушкина принадлежит В.Г. Белинскому. Провозглашая Пушкина
«художником по преимуществу»1, Белинский подчёркивает живописность
пушкинского языка, сравнивает слово с кистью художника. Поэзия Лермонтова
в аспекте традиций живописности Белинским проанализирована не была, лишь
мельком он называет его творчество «живописью явлений жизни»2. Продолжая
намеченные в литературной критике XIX века сравнения Пушкина с
художником, исследователи ХХ века обращались к проблеме живописности
языка и пластичности образов пушкинской поэзии. Д.Д. Благой, отмечал
«живописную точность»3 пушкинского стиха и зримость его прозы.
Живописность языка Пушкина, пластичность пушкинских образов отмечали
С.И. Абакумов, В.Н. Аношкина, С.Г. Бочаров, В.В. Виноградов,
Е.Н. Колокольцев, В.С. Непомнящий, С.В. Соловьёв, Н.Н. Скатов и др. Пушкинская «картинность» восприятия мира и последующее использование приёмов изобразительного искусства для запечатления увиденного была отмечена в исследованиях Б.С. Мейлаха, Ю.М. Лотмана, Р.О. Якобсона, Л.И. Вольперт.
К анализу специфики живописного мышления Лермонтова и использования им приёмов художественной изобразительности обращались уже в дореволюционной науке. Включение Лермонтовым в поэтику произведения зримых образов было замечено В.М. Фишером. Он же первым обратился к анализу конкретных живописных приёмов в поэзии Лермонтова. Им выделены эффекты светотеневого контраста, отражения света, введено
Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9т. М., 1981. – Т.6. С.263. Белинский В.Г. Указ. соч. – Т.7. С.496.
Благой Д.Д. Стихотворения Пушкина. // А.С. Пушкин. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. – Т.1. С.532.
понятие цветовой палитры. Эти же приёмы были упомянуты в статьях
Б.М. Эйхенбаума, Б.В. Томашевского, В.В. Виноградова, С.В. Шувалова,
Б.В. Неймана в связи с изучением особенностей повествовательного стиля романов «Вадим» и «Герой нашего времени».
Раскрывая особенности поэтики романа «Вадим», исследователи отмечали влияние рембрандтовского живописного стиля. Так, по мнению Б.М. Эйхенбаума, Лермонтов, следуя принципам «системы рембрандтовского света»4, придаёт сценам романа «характер мрачной фантастики»5. Нельзя не согласиться и с В.В. Афанасьевым, отметившим влияние «портретного искусства Рембрандта – лиц, на которых написаны их мрачные судьбы»6 на творческое воображение поэта. Однако вопросы создания эффекта ирреального изображения при обращении к картинам Рембрандта, источников образов нищих в романе «Вадим», пушкинской традиции привлечения живописи Рембрандта в поэтику лермонтовских произведений не поднимались.
Исследованию «рафаэлевских элементов» в произведениях Пушкина
было посвящено несколько исследований – статьи М.Я. Варшавской,
Е.А. Ковалевской, Г.М. Кока, упоминание художественной системы Рафаэля в
связи с Пушкиным находим в исследованиях Б.А. Васильева, А.М. Букалова,
И.В. Карташовой. Раскрывая особенности художественного мира произведений
Пушкина, исследователи уделяли внимание вопросу влияния живописи
Возрождения на поэзию, проводили параллель с развитием миропонимания
поэта, обращались к поиску источников знакомства Пушкина с живописью
Рафаэля, но особенности романтического экфрасиса Пушкина в связи с
рафаэлевскими образами не были выделены, не уделялось внимания влиянию
живописи художника на формирование эстетического идеала поэта. Проблема
влияния живописи Рафаэля на поэтику произведений Лермонтова вовсе
оставалась не раскрытой. В работах Е.А. Ковалевской, Т.А. Ивановой,
Н.Н. Пахомова, В.Э. Вацуро, Е.В. Лутковой вопрос о присутствии
рафаэлевских образов в поэзии Лермонтова лишь был затронут.
В современной науке к проблеме влияния визуального начала на поэтическое слово в отдельных произведениях Лермонтова, преимущественно прозаических, обращались Е.И. Анненкова, Г.Б. Буянова, И.А. Киселева, М.П. Леонова, В.М. Маркович, И.З. Серман, И.С. Юхнова, А. Ямадзи. Однако неисследованные моменты по-прежнему остаются. Так, конкретизации требует уяснение особенностей пространственных описаний, использование техники живописного изображения в поэтических текстах, определение влияние конкретных живописцев на формирование и развитие пластической изобразительности Лермонтова.
Традиция сопоставления творчества Пушкина и Лермонтова в аспекте усвоения ими опыта изобразительного искусства была намечена в первой половине ХХ века и получила отражение всего в нескольких статьях.
Эйхенбаум Б.М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924. – С.132. Там же. – С.132.
Афанасьев В.В. Лермонтов–художник// Тропа к Лермонтову. М., 1982. – С.183.
С.Н. Дурылин полагал, что лермонтовская образность является продолжением пушкинской традиции. Мыслитель сравнивал описание бытовых зарисовок из жизни светского общества в «Петергофском празднике» Лермонтова и «Евгении Онегине» Пушкина. Но если Пушкину в описаниях уличных гуляний присуща декоративность, то у Лермонтова «Петергофский праздник» отрывается вполне естественной «картиной летнего гулянья»7: «когда всматриваешься в его узорчатую пестрядь <…>, невольно вспоминаешь въезд Лариных в Москву, но тем не менее в "Петергофском празднике" есть яркость и живопись, присущие жизни»8.
Д.Д. Благой в статье «Лермонтов и Пушкин: проблема историко-
литературной преемственности» (1941) также затрагивает проблему
соотношения словесного и живописного начала, оценивает Лермонтова как
продолжателя пушкинской традиции: «поэзия Пушкина явилась для
Лермонтова школой высшего художественного совершенства; именно в этой
школе, сперва попросту копируя великие оригиналы, затем заимствуя с
пушкинской палитры готовые краски для первых попыток самостоятельной
живописи, научился Лермонтов владеть поэтическим языком»9.
В.В. Виноградов в статье «Стиль Пушкина» (1941) также указывает на развитие
Лермонтовым живописного мировидения Пушкина, воплощённого в его
поэзии: «Пушкинские приемы выражения и изображения характера получили
оригинальное развитие в художественной системе Лермонтова»10.
Ещё одним важным направлением для выявления связей между поэзией и
живописью в творчестве Пушкина и Лермонтова остаётся проблема
культурных контактов с миром искусства. Творческие переклички или личное
общение с художниками-современниками в определённой степени оказали
влияние на развитие эстетических вкусов петербургского общества 1820–30-х
гг. Вопросу о творческом общении Пушкина с художниками-современниками
посвящалось достаточное количество работ. Значимым исследованием стала
статья Г.М. Кока «Художественный мир Пушкина» (1962), в которой Пушкин
представлен зрителем, ценителем картин и статуй. Петербургское окружение
Пушкина изучалось в статьях А.В. Корниловой, А. Савиновой,
Г.Н. Голдовского, при этом не проясненными оставались обстоятельства знакомства и общения Пушкина с польским художником А.О. Орловским, не обращались исследователи и к творческому диалогу поэта с художниками-иллюстраторами его изданий. Культурные контакты с О.А. Кипренским и В.А. Тропининым раскрывались в связи с изучением портретов Пушкина. Однако оставалось не выясненным точное время знакомства Пушкина с Тропининым и возможные творческие переклички с ним. История общения Пушкина с К.П. Брюлловым уже затрагивалась в пушкинистике – этому вопросу посвящена статья Е.М. Гавриловой, описывающая эпизод дружеского
7 Дурылин С.Н. На путях к реализму // Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. I. М., 1941. – С.189.
8 Дурылин С.Н. Указ. соч. С.200.
9 Благой Д.Д. Лермонтов и Пушкин: проблема историко-литературной преемственности. // Жизнь и творчество
М.Ю. Лермонтова. Сб. I. М.,1941. С.368.
10 Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М.,1941. С.671.
общения поэта и художника; статья А.В. Корниловой11 также представляет лишь некоторые факты творческого диалога Пушкина с Брюлловым. До сих пор не были учтены в полной мере фактические материалы, связанные с изучением возможностей личного общения поэта и художника. Вопросы культурных контактов Лермонтова с художниками его времени редко затрагивались исследователями и до сих пор требуют изучения. Отдельных исследований по этой проблеме было проведено крайне мало - известна упомянутая выше статья А.Савиновой о дружбе Лермонтова с Г.Г. Гагариным, статьи Е.А. Ковалевской о художниках в «Лермонтовской энциклопедии» (1981), работа В.В. Афанасьева «Тропа к Лермонтову» (1982) и его статьи в книге «М.Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь» (2014), где автор пишет о художниках-современниках поэта.
Таким образом, вопрос взаимодействия изобразительного искусства с поэзией Пушкина и Лермонтова поднимался в ряде литературно-критических работ XIX века и отдельных статьях XX-XXI веков, однако систематического освещения проблема влияния и развития пушкинской традиции поэтического живописания в творчестве Лермонтова не получила.
Новизна исследования состоит:
в расширении источниковедческой базы изучения творчества Пушкина и Лермонтова: введены в научный оборот архивные материалы, связанные с творчеством Лермонтова, привлечены обширные материалы, связанные с обзором художественных выставок и описанием картин, эстетические статьи и путевые очерки в периодических изданиях начала XIX века;
в рассмотрении проблемы взаимодействия пространственных и временных искусств в поэтике литературного произведения;
в выявлении не отмеченных ранее особенностей творческого восприятия и художественного воплощения образов живописного искусства в поэзии Пушкина и Лермонтова.
в выявлении общих тем, сюжетов, мотивов произведений Пушкина, Лермонтова и художников разных эпох;
в раскрытии относительно нового аспекта проблем восприятия исторического времени; в определении особенностей поэтического мировидения Пушкина и Лермонтова.
Объектом исследования является поэтическое наследие Пушкина, охватывающее 1813-1837 гг., и поэтическое наследие Лермонтова, охватывающее 1828-1841 гг., письма, критические статьи, черновые рукописи поэтов, воспоминания современников о Пушкине и Лермонтове в контексте художественной культуры.
Предметом исследования является влияние эстетики живописных произведений на формирование художественной образности поэзии Пушкина и Лермонтова.
11 Корнилова А.В. Пушкин и Брюллов. Интерпретация воспоминаний современников. // Вестник СПбГИК, 2011, №11. С.171–176.
Целью исследования является реконструкция внутренних
закономерностей и глубоких взаимодействий художественных миров Пушкина и Лермонтова с изобразительным искусством в аспекте выявления источников образности их поэтического творчества. В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования являются:
-
определение специфики поэтической образности творчества Пушкина и Лермонтова, изучение техники привлечения живописных элементов в поэтику текста;
-
раскрытие особенностей отражения произведений европейской живописи в творчестве Пушкина и Лермонтова, определение поэтических приёмов, сформированных под влиянием кумиров романтизма – Рафаэля и Рембрандта;
-
установление творческих связей Пушкина и Лермонтова с художниками-современниками, выявление общих эстетических, философских, социальных основ их творчества; уточнение особенностей восприятия времени, как в его отвлеченно-философском смысле, так и в исторической конкретике эпохи.
Теоретическая значимость работы состоит в соотнесение
изобразительного мастерства художников с поэтикой и эстетикой
художественных систем А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, в новом осмыслении художественного мастерства поэтов, определении в созданных ими художественных образах соотношения мелоса как пластической выразительности и логоса как собственно высказывания и смысла.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут применяться в учебном процессе средней и высшей школы при подготовке занятий, связанных с проблемой соотношения литературы и других видов искусства, своеобразием художественного образа. Учебные занятия, проводимые с опорой на результаты исследования, предполагают проведение параллелей между словесными произведениями с живописными шедеврами разных эпох, способствуют активному воздействию на воображение обучающихся, глубокому проникновению в художественный мир поэтов.
Методологическая основа диссертации подразумевает опору на базовые литературоведческие методы и подходы:
-
культурно-исторический метод, позволяющий определить общность тем и настроений поэзии Пушкина и Лермонтова с живописью художников современников;
-
биографический и психологический методы, предполагающие привлечение в исследование анализа мемуарных и эпистолярных материалов о поэтах, направленных на установление значения изобразительного искусства в его жизни и творчестве, а также причины появления в поэзии определённых мотивов, связанных с изобразительным искусством;
-
художественно-эстетический подход, направленный на определение специфики представлений поэтов об идеале прекрасного и особенностях
его передачи в поэзии, установление особенностей восприятия
Пушкиным и Лермонтовым живописного произведения; 4. синтетический подход, позволяющий выявить средства и приёмы
изобразительного искусства, преобразованные Пушкиным и
Лермонтовым в технику поэтического мастерства.
Методология исследования в большей мере основана на работах учёных,
в основе которых лежит принцип изучения литературного произведения в
широком пространстве культуры, направленный не только на определение
места искусства в творческом мире писателя, но и на обогащение трактовки его
произведений. Среди исследований, определивших методологические подходы
к анализу проблемы художественного синтеза следует назвать работы
М.П. Алексеева, В.Н. Аношкиной, М.П. Арнаудов, К.И. Григорьяна,
Е.Е. Дмитриевой, Н.А. Дмитриевой, И.А. Киселевой, В.В. Лепахина,
Б.С. Мейлаха, Ю.И. Минералова, А.В. Михайлова, В.С. Непомнящего,
К.В. Пигарева, Н.Н. Скатова, И.З. Сурат, В.Е. Хализева, И.С. Юхновой и др.
Положения, выносимые на защиту
1. В соответствии с эстетикой романтизма, провозгласившей синтез
искусств, Пушкин и Лермонтов привносят художественные открытия
живописного искусства в свои поэтические произведения. Размыкая свои
тексты в мир пространственной изобразительности, поэты расширяют
границы воздействия созданных им словесных художественных образов
на чувства и разум читателя, задействует его опыт впечатлений от
произведений пластического искусства.
2. Живописное начало творчества Пушкина и Лермонтова многообразно и
динамично, позиция наблюдателя, воспринимающего мир при помощи
зрения, для их эстетики имела особое значение; визуальный образ в
творчестве поэтов мог проявляться в развернутом описании ландшафта
или портрета персонажа, оттенок пластичности художественного образа
придаёт и простое упоминание имени художника или отдельного
произведения изобразительного искусства; нередко живописные полотна
в художественных мирах Пушкина и Лермонтова имели оценочную роль.
-
Особенно значимым для формирования эстетического идеала и приёмов художественной изобразительности Пушкина и Лермонтова стало живописное наследие Рафаэля Санти. Образы картин Рафаэля в художественном мире Пушкина и Лермонтова выполняют, преимущественно, аксиологическую и гносеологическую функции при создании женских образов, являясь мерой их принадлежности к духовно-нравственным и эстетическим идеалам поэтов.
-
Лермонтов воспринимает искусство портрета Рембрандта во многом через рецепцию пушкинского текста. Но если с введением «рембрандтовского элемента» в поэтику произведения связана эстетика возвышенного и трагического, то на содержательном уровне рембрандтовские образы в творчестве Пушкина и Лермонтова зачастую переводят повествование в иронический план, обнаруживающий сосуществование в их художественных системах романтизма и реализма.
5. Общность сюжетов, мотивов, манеры восприятия действительности и
принципов её отображения роднит творчество поэтов с изобразительным
наследием художников-современников. Среди современного искусства и
Пушкин, и Лермонтов первенство отдают ярчайшему представителю
русского романтизма – К.П. Брюллову, живопись которого
характеризуется пристальным вниманием к проблемам «человека и стихии», «человека и общества», «человека и власти».
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были отражены в научных статьях, опубликованных по теме диссертации. Основные положения исследования представлялись в виде докладов на конференциях различного уровня: Международном молодёжном форуме «Ломоносов» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013, 2014, 2015), Международной научной конференции «Духовно-нравственный и эстетический потенциал русской классической литературы» (МГОУ, 2013), Международных конференциях «Студенты А.С. Пушкину» (ГМ А.С. Пушкина, 2012, 2013), Международной конференции «Образы Италии в русской усадебной культуре» (НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, 2011), Международной научной конференции «200-летие М.Ю. Лермонтова (МГУ им. М.В. Ломоносова – ИМЛИ РАН – ИРЛИ РАН – СПбГу), Всероссийской конференции к 200-летию М.Ю. Лермонтова (РГБ, 2014), V Международных Лермонтовских чтениях (Москва, 2014), заседаниях Пушкинской комиссии при ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, семинаре аспирантов на кафедре русской классической литературы МГОУ, круглых столах в рамках проекта РГНФ «М.Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь» (2012, 2013, 2014), Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», (Непецино, 2012, 2014).
Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы.
Обращение к живописи как средство создания портретного и пейзажного образа в творчестве А.С. Пушкина
Теоретическая значимость работыТеоретическая значимость исследования состоит в соотнесение изобразительного мастерства художников с поэтикой и эстетикой художественных систем А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, в новом осмыслении художественного мастерства поэтов, определении в созданных ими художественных образах соотношения мелоса как пластической выразительности и логоса как собственно высказывания и смысла.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут применяться в учебном процессе средней и высшей школы при подготовке занятий, связанных с проблемой соотношения литературы и других видов искусства, своеобразием художественного образа. Учебные занятия, проводимые с опорой на результаты настоящего исследования, предполагают проведение параллелей между словесными произведениями с живописными шедеврами разных эпох, тем самым способствуют активному воздействию на воображение обучающихся, глубокому проникновению в художественный мир поэтов.
Методологическая основа диссертации подразумевает опору на базовые литературоведческие методы и подходы: 1. культурно-исторический метод, позволяющий определить общность тем и настроений поэзии Пушкина и Лермонтова с живописью художников современников; 2. биографический и психологический методы, предполагающие привлечение в исследование анализа мемуарных и эпистолярных материалов, направленного на установление значения изобразительного искусства в жизни и творчестве поэтов, а также причины появления в поэзии определённых мотивов, связанных с изобразительным искусством; 3. художественно-эстетический подход, направленный на определение специфики представлений поэтов об идеале прекрасного и особенностях его передачи в поэзии, установление особенностей восприятия Пушкиным и Лермонтовым живописного произведения; 4. синтетический подход, позволяющий выявить средства и приёмы изобразительного искусства,преобразованные Пушкиным и
Лермонтовым в технику поэтического мастерства. Методология исследования в большей мере основана на исследованиях, в основе которых лежит принцип изучения литературного произведения в широком пространстве культуры, направленный не только на определение места искусства в творческом мире писателя, но и на обогащение трактовки его произведений. Б.С. Мейлах справедливо отметил, что каждую область художественного творчества отличает своя специфика, но, тем не менее, все искусства связаны между собой глубоким внутренним родством: «Своими собственными признаками, выразительными и изобразительными средствами обладают образы словесные, звуковые, живописные, скульптурные, но всех их объединяла и объединяет общность определенных художественных систем, единство закономерностей художественного мышления и, самое главное, единство целей: отражение многогранного» природу которого постигнуть можно только во взаимодействии, «синтетическом изучении искусства»
В 1918 году М.П. Алексеев в статье «И.С. Тургенев и музыка» предложил новое направление в сравнительном литературоведении, в основе которого - изучение взаимодействия искусств.Исследование межпредметных связей литературы и изобразительного искусства в отечественном литературоведении продолжалось на протяжении всего XX века, что отражено во множестве научных работ. Так, вместе с понятием «взаимодействие искусств» появился термин «синтез», указывающий на новый этап изучения проблемы. К.В. Пигарёв в очерках «Русская литература и изобразительное искусство» (19667 предпринял попытку создать синтетическую историю искусств, определил роль личных и творческих связей между представителями разных видов искусства для культуры XVIII века. В 1982 году Ленинградским отделением РАН был издан сборник «Литература и живопись»79, в котором собраны статьи, посвященные проблеме межпредметных связей. Особенно интересны статьи А.С. Вартанова и М.А. Сапарова, посвященные теоретическому осмыслению взаимосвязи литературы и живописи. По мнению А.С. Вартанова, литература и живопись идут по пути взаимодействия и взаимообогащения. Исследователь выделил несколько этапов взаимодействия искусств, в основе которого лежит генетическая связь всех искусств между собой. Слово и образ были тождественны друг другу изначально («Слово было изображением, а изображение - словом»80) и постепенно утрачивали эту тесную связь в связи с самостоятельным развитием. «Художественное родство» разных видов искусства находит и М.А. Сапаров - признавая близость словесного и зримого изображения, исследователь определяет специфику каждого: «Сравнивая и сопоставляя художественные возможности и ограничения, характеризующие какие-либо виды искусства, необходимо сообразоваться с совокупной культурой художественного отражения мира во всех её формах, модификациях и проявлениях»81.В 1986 году Ленинградским отделением РАН был издан сборник «Русская литература и зарубежное искусство», в котором проблема межпредметных связей рассматривалась через тематические реминисценции, возникающие в литературном произведении в связи с восприятием и переживанием другого вида искусства.
Особенный интерес при изучении творческих перекличек писателей и художников представляет исследование К.А. Баршта «О типологических взаимосвязях литературы и живописи»82 (1988), в основе которого лежит идея о необходимой систематизации взаимосвязей литературы и живописи. В этой статье предложена восьмичастная структура типологических принципов систематизации литературного и живописного материала, самыми значимыми из которых оказываются: литературный портрет художника-живописца в произведении писателя; литературные описания живописных полотен; живописные иллюстрации литературных произведений; изобразительное искусство в творчестве литератора.
Среди исследований, определивших методологические подходы к анализу проблемы художественного синтеза, также следует назвать работы В.Н. Аношкиной83, М.П. Арнаудова84, КН. Григорьяна85, Е.Е. Дмитриевой86, Н.А. Дмитриевой87, И.М. Карташовой88, И.А. Киселевой89, В.В. Лепахина90, Ю.И. Минералова91, А.В. Михайлова92, B.C. Непомнящего93, Н.Н. Скатова94, В.Е. Хализева95, И.С. Юхновой96 и др. Положения, выносимые на защиту
Преломление эстетических принципов изобразительного искусства в поэтическом творчестве М.Ю. Лермонтова
В классицистической традиции искусство Рафаэля воспринималось скорее как академическая норма, эталонная живопись, недосягаемый образец, отвечающий представлениям об абстрактном и индивидуальном в искусстве. Оценивая значение Рафаэля для мирового искусства с разных эстетических позиций, и классицисты, и романтики были едины в восприятии живописи художника как высшего проявления человеческого духа. Имя художника произносилось с благоговением, а сравнение с ним воспринималось наивысшей похвалой. Так, оценивая «Евгения Онегина» Пушкина, Е.А. Боратынский находит внутреннее родство в гармонии поэтического слова и гармонии красок на картинах художника: «Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринуждённая кисть живописца из живописцев»250. Подобное сравнение не было случайным. В эстетику романтизма Рафаэль вошёл как «мерило всего великого и прекрасного»251, через его облик постигалась природа искусства.
Живопись Рафаэля стала особенно близкой для культуры 1810 - 1830-х гг., что обусловлено обозначившейся в эстетике романтизма тесной связью между литературой и изобразительным искусством. В европейской мысли, по преимуществу, встречаются размышления об историческом и эстетическом значении Рафаэля для мирового искусства, восторженные оценки его живописного мастерства. Живопись Рафаэля как проявление высшего, абсолютного дарования характеризует И.-В. Гёте: «Озарённый небесным вдохновением .. . возложил последний камень на вершину, где ни под ним, ни рядом с ним уже нельзя поместить другого». Аналогичные оценки гения Рафаэля встречаем и у Стендаля: «Особенно восхищает он людей своим отвращением к пылким картинам, ибо считал, что живопись лишь в самом крайнем случае изображает бурные проявления страстей»253. В эстетике русского романтизма искусство Рафаэля утвердилось как универсальная форма самосознания, нравственный ориентир. Опираясь на идеи немецкой философско-эстетической мысли, в частности на работы Шеллинга, определяющего искусство как «абсолютное тождество субъективного и объективного», «вершину мирового духа», русские романтики определяли гений Рафаэля как силу, способную открыть человеку путь к высшей истине, стать источником нравственных ориентиров, преобразить окружающий мир. В размышлениях русских романтиков о живописи Рафаэля одной из ведущих стала идея утверждения истинной, высшей красоты, гармонии, абсолюта. В статье «Рафаэль Санти» неизвестного автора, опубликованной в 1823 г. в «Журнале изящных искусств» читаем: «Будучи уверен, что красота рождается только от разнообразия, он со вниманием рассматривал природу. Он умел облагораживать; какое-то безошибочное чувство открывало ему красоту в её явлениях, - красоты, сокрытые от глаз невежд. Счастливый выбор положений, естественное расположение одежд, выражения - простые, без усилия, или важные без напыщенности: вот что составляет прелесть произведений Рафаэля»254.
Романтический культ Рафаэля в русской эстетической мысли находит своё ярчайшее воплощение в статье В.А. Жуковского «Рафаэлева Мадонна» (1829). Основу статьи составило личное письмо поэта Великой Княгине, будущей Императрице Александре Фёдоровне (письмо от 29 июня 1829 г.), написанное из Дрездена во время путешествия и передающее впечатления поэта от увиденного им полотна Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Статья, в которой Жуковский посредством описания процесса наблюдения, созерцания картины размышляет о природе искусства и о роли поэтического вдохновения, получила восторженные отзывы и были названы «образцом современной русской прозы»255. Одно из первых описаний живописного шедевра Рафаэля акцентирует внимание на внутреннем, духовном содержании картины: «Тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь, можно сказать, что всё, и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствие этой небесной, мимоидущей Девы»256.
В описании картины поэт сумел передать личные впечатления, что позволило ему представить всё богатство зрительного восприятия при рассматривании полотна: «Я был один, вокруг меня всё было тихо; сперва с некоторым усилием вошёл в самого себя, потом ясно начал чувствовать, что дума распространяется; какое-то трогательное чувство величия в ней изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может»257. Жуковский обращает внимание на внешнюю форму картины -раму, особенность холста, размещение вокруг других произведений, отмечает художественные особенности полотна («с удивительною простотою и лёгкостию душа живописца передала холстине то чудо, которое во внутренности её совершилось»)258. Особенность представленного Жуковским описания живописного шедевра в его синтетичности - сосредоточенность на внутреннем, духовном содержании картины посредством воссоздания зрительного восприятия, передачи собственных чувств и переживаний. Статья Жуковского - образец единства тонкого искусствоведческого анализа и передачи глубокого личного чувства.
Там сисе. С.308. Синтетичность художественного восприятия картины получила выражение и в «Отрывках из Путешествий» В.К. Кюхельбекера, опубликованных в 1824 - 1825 гг. в альманахе «Мнемозина» по материалам путешествий по Европе. Описывая поездку в Дрезден, Кюхельбекер подробно останавливается на представлении «Сикстинской Мадонны». Уделяя внимание описанию художественных деталей (например, отмечает особенности цвета: «Признаемся, что расцвечение слабо, что оно гораздо живее не только во всех произведениях Корреджио, Тициана, Гвида, Корраччи, но и в картинах многих второстепенных художников»259), Кюхельбекер представляет через описание собственных чувств внутреннее содержание картины: «Предо мною видение неземное: небесная чистота, вечное, Божеское спокойствие на челе Младенца и Девы; Они исполнили меня ужаса: могу ли смотреть на них я, раб земных страстей и желаний?»260. Романтическое созерцание картины - это погружение в неё, или, как отмечает В.Н. Аношкина «расширение душевного мира и включение в него «души» шедевра, то есть самого художника, его художественного зрения
Образы картин Рафаэля в художественном мире А.С. Пушкина М.Ю. Лермонтова
Особенную близость живописного стиля Рембрандта для Лермонтова искусствоведы подчёркивают в портрете «Герцог Лерма»345. Однако, рембрандтовский стиль очевиден уже в ранних живописных работах Лермонтова. Так, на картине «Андрей Первозванный», копии с работы А.П. Лосенко, с помощью сочетания цвета и света Лермонтову удалось передать глубину пространства, целостность и выразительность художественного образа. Влияние стиля Рембрандта на живописную систему Лермонтова можно увидеть и в акварели «Эмилия, героиня драмы "Испанцы"» (1831), и в «испанском цикле» акварелей и рисунках. Глубина и одухотворённость образов, мастерство передачи внутреннего мира человека - «рембрандтовские элементы», особенно ярко воплотившиеся на картине Лермонтова «Черкес» (1838). Сравнение этой картины с «Философом» (1658) Рембрандта позволяет говорить о том, что стилю поэта и художника свойственны острая наблюдательность и серьёзность, реалистичная трактовка выбранных сцен, интерес к изображению человеческих чувств.
Значительную часть картин Рембрандта составляют работы портретного характера. Портреты Рембрандта предвосхитили реалистическое искусство, психологический роман. Его работы смогли сделать выпуклой, яркой, живой душу человека. И.Тэн, знаменитый французский искусствовед, в работе «Философия искусства» писал о художнике: «Рембрандт мог воспроизвести не только общую основу и отвлечённый тип человека, которыми довольствуется пластическое искусство, но и все особенности, бездонные глубины отдельной личности, бесконечную и безграничную сложность внутреннего мира, игру физиономии, которая в один миг озаряет всю историю души»346. Разрабатывая свой живописный стиль, художник следует не столько к достижению иконографического сходства с портретируемым, сколько стремится к запечатлению внутреннего мира героя. Портретное мастерство Рембрандта высоко оценил И.-В. Гёте в статье «Рембрандт-мыслитель» (1831) в центре которой - анализ картины «Добрый самаритянин», представляющей собой групповую сцену на фоне природы: «Этот лист - один из прекраснейших произведений Рембрандта, он исполнен с величайшей тщательностью, и, невзирая на всю эту тщательность, чрезвычайно легко»347. Главным в размышлениях Гёте о картине становятся анализ портретного мастерства художника. Поэт отмечает особенности каждого портретного образа, наиболее интересным для него оказывается портрет старика - «чрезвычайно удачно добродушное и достойное доверия лицо старика, составляющее контраст с атаманом разбойников, который виднеется в углу; лицо его выражает решимость и скрытность»348. Гёте стал первым, кто отметил в живописи Рембрандта мастерство художника в создании выразительных и правдивых характеристик лиц, изображённых на картине. Именно особенность живописного стиля художника, заключенная в интересе к созданию «портрета души»349, привлекает Лермонтова в образе голландского художника.
Наиболее яркое влияние живописной манеры Рембрандта на художественную систему Лермонтова проявилось в романе «Вадим» (1832— 1834), в котором заметна тонкая связь литературного дарования и живописного таланта поэта. Частыми в романе оказываются ассоциации литературного портрета с живописным: поэт «смотрит на изображённые события глазами художника и представляет их в виде картин»350. Роман насыщен живописными приёмами - на свет выставлены нищие в лохмотьях, резким контрастом между радостным танцем живого огня и чёрными тенями, «мёртвыми» людьми. В слове поэт стремится передать манеру художника, в которой угадываются произведения Рембрандта: «Казалось, неизвестный .живописец назначил этим нищим, этим отвратительным лохмотьям приличное место; казалось, он выставил их на свет как главную мысль, главную черту характера своей картины» [VI; 61].
Среди работ Рембрандта интересна в связи с лермонтовским романом серия офортов на сюжеты из жизни нищих (1626-1631). Для своих офортов Рембрандт искал героев в самых низких и забытых углах Амстердама, изучал жизнь слепых калек, бродяг, торговцев, ярмарочных актеров. Главным образом в создании офортов из жизни нищих Рембрандта привлекало изображение внешней особенности облика опустившихся людей - художник изображал лохмотья, отдельные куски и заплаты из изношенной ткани. Так, офорт «Нищий на деревяшке» представляет калеку в изорванной одежде, левая рука его перевязана, вместо ноги у него прикручена деревянная палка, в правой руке он сжимает другую палку, на которую пытается опереться. Фигуры рембрандтовских нищих, изображение их лиц и одежд, часто приобретающие черты гротеска это те черты, которые находят созвучие с образами нищих из лермонтовского «Вадима». Разница лишь в том, что нищие у Рембрандта освещены «народным долготерпением и жизнелюбием»351.
Уже в первой главе романа в рембрандтовской манере Лермонтов создал световой контраст, представив описание нищих: «это чёрные, изорванные души, слившиеся с такой же одеждой» [VI; 7] и яркие лучи заката, от которых «углубления в лицах казались чернее обыкновенного» [VI; 8]. Характеристике атмосферы соответствует и пейзаж - чёрному цвету противопоставлены яркие краски (черепица крыш, красные лучи глав монастыря, лиловые облака). Этот контраст объяснил применительно к творчеству Рембрандта директор Дрезденской галереи в 1896 г. Карл Вёрман: «Художник изображал душевные переживания от воспринятых им явлений в красках и светописи, возможных самих по себе, но лишённых всякой прозаической действительности. ... Свет и тень слывут символом перемежающихся настроений человеческой души, вот почему манера художника рассказывать посредством света и тени приводит нашу душу в своеобразное, сочувствующее настроение»352.
Близость художественной манеры Лермонтова к рембрандтовской живописной системе заключается в скупом внимании к обстановочным деталям, когда поэт представляет портрет Вадима. Нищие, окружающие Вадима, здесь представляются скорее в роли свидетелей событий, а не в качестве действующих лиц. Композиционный центр картины - портрет самого Вадима. Оптический центр - значительное тёмное пространство, которое составляет толпа нищих - черноту их лиц и одежд подчёркивают сами лучи заходящего солнца (традиционно в живописи лучи опустившегося уже почти за горизонт солнца изображают насыщенными и густыми тёмными красками, золотисто-коричневым цветом, переходящим местами в чёрный). Образы нищих почти никак не связаны с главным героем - ни жестами, ни движениями они не обращены к Вадиму. Сам же Вадим как будто скрыт в толпе нищих. И в этой композиции картины практически нет движения, динамики. Подобно Рембрандту, Лермонтов использует для создания настроения романа, атмосферы эмоциональной напряжённости контраст света и тени, проявившийся и в потрете Вадима: «в глазах блистала целая будущность; он был безобразен, отвратителен, но это не пугало их, в его глазах было столько огня и ума, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика»[VI; 8]. В изображении Вадима Лермонтов отказывается от общности тёмного тона - поэт высвечивает лавную фигуру особым светом. Это не свет заходящего солнца, само лицо героя будто светится рассеянным светом и освещает всё окружающее - свет исходит от лица Вадима, сверкают его глаза. Сам герой изображён тяжёлыми, мощными красками, что подчёркнуто в каждой детали «свинцового» взгляда героя.
Привлечение «рембрандтовских элементов» в поэтику портрета связано не только с использованием приёма светового контраста, но и с интересом Лермонтова к настроению живописи голландского художника - с таинственно-мрачным колоритом полотен Рембрандта поэт связывал романтический дух, порыв страсти. Неслучайно портрет Вадима, созданный в рембрандтовской манере, подчинён раскрытию страсти - чувства мести: «И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела сердцем или лучше он владел только страстью» [VI; 8]. Использование «рембрандтовских элементов» в поэтике «Вадима» было подчёркнуто В.В. Виноградовым: «В фразеологическом строе лермонтовского «Вадима» выделяются из этого общеромантического фона образы и выражения живописного искусства. Они гармонируют в стиле «Вадима» с изобразительными приемами романтической фантастики, основанными на игре красок, на контрастах яркого света и тени, на особой системе рембрандтовского освещения»353.
Личные и творческие связи К.П. Брюллова с А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым
Брюллов задумал памятник Пушкину в монументальном плане. Стремясь воплотить самые возвышенные представления о Пушкине: художник изобразил поэта с лирой в руках среди величественной природы. Художник нарисовал Аполлона с лирой и рядом крылатого коня Пегаса. На обороте наметил программу композиции: «Пушкин. Внимает и восхищается Россия. Поэзия увенчивает его. В лучах, исходящих от лиры, видны фрагменты поэзии Пушкина. Сверху внемлют Данте, Байрон, Гомер...»438. Брюлловым был задуман и фронтиспис к изданию ранее не публиковавшихся стихотворений Пушкина. Сюжет этих задумок аналогичен: Пушкин «с лирой в руках на склоне кавказских гор, посреди величественной кавказской природы». Такую запись сделал в дневнике Мокрицкий 31 марта, когда А.А. Краевский, посетив Брюллова, рассказал ему о плане издания сочинений поэта и читал неопубликованные стихи Пушкина, найденные в рукописях.
С апреля 1837 года Глинка и Брюллов начали работать над оперой «Руслан и Людмила». Работали они упорно, отдавая все силы. По эскизам Брюллова сделаны декорации и костюмы к IV действию оперы - «Сады Черномора». В творческом наследии Брюллова можно найти акварельные работы, навеянные текстами известных романов, новелл, баллад: эскизы к поэме Байрона «Шильонский узник», балладам Шиллера, переводам Жуковского. На сюжеты произведений Пушкина Брюллов выполнил две работы. Картина «Бахчисарайский фонтан» была начата вскоре после кончины Пушкина. Работа Брюллова над «Бахчисарайским фонтаном» продолжалась несколько лет - с 1838 по 1849 год. Художник изобразил жизнь «робких жен» Гирея, проводящих свой досуг за несложными забавами. В поэме Пушкина Брюллов избрал не драматический момент столкновения
Заремы с Марией, а описание безмятежной жизни полусонного гарема. Веселью «младых жен» противостоит тихая грусть Марии, одиноко сидящей у дальнего окошка. Ее легкий силуэт с низко опущенной головой светлым пятном рисуется на фоне пестрых одежд. Список иллюстраций к бессмертным творениям Пушкина дополняет и виртуозно выполненная Брюлловым работа «Прощание» (1847-1849) - иллюстрация к роману «Арап Петра Великого». Долгое время работа считалась утерянной, сейчас хранится в фондах Государственной Третьяковской галерее.
Факты знакомства Лермонтова с Брюлловым менее очевидны, но имеют под собой основания, в частности, ихсвязывал, близкий круг общения. С юности Лермонтовобщалсяс М.Е. Меликовым (1818-после 1896) -учеником Брюллова. Дядя П.М. Меликов, герой Отечественной войны 1812 года, М.Е. Меликова находился в дружеских отношениях с Е.А. Арсеньевой. Сам же М.Е. Меликов оставил воспоминания о Лермонтове, ценные уже тем, что представляют яркий портрет Лермонтова, которым поэта увидел Брюллов: «Я никогда не в состоянии был написать портрета Лермонтова ... и, по моему мнению, один только К.П.Брюллов совладал с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь в глаза)»440. Однако внешность Лермонтова не произвела впечатления на Брюллова, хотя обычно в гостиных петербургского света художник присматривался, оценивал окружающее.
Факт встречи Лермонтова с Брюлловымизвестен по воспоминаниямМ.И. Железнова (ученика Брюллова), отметившего: «Одна петербургская дама, узнав, что Брюллов очень интересовался видеть Лермонтова, вздумала сделать ему удовольствие, познакомить его с Михаилом Юрьевичем у себя за обедом. Первое свидание этих двух знаменитостей было последним. Физиономия поэта произвела на Брюллова глубокое неприятное впечатление, которое осталось на всю жизнь и, временами, довольно часто мешало ему восхищаться стихотворениями Лермонтова»
Встреча поэта с художником могла произойти в одном из художественных салонов Петербурга. Так, будучи в дружеских отношениях с семьёй Олениных, особенно с А.А. Олениной, Лермонтов бывал в их имении Приютино. Загородная усадьба была известна как литературно-художественный салон, летом сюда приезжали «художники, литераторы, офицеры Семёновского, Измайловского и Конногвардейского полков, разные известные лица, наконец, чуть ли не все сколько-нибудь замечательные иностранцы, приезжавшие в Петербург»442.
Документально зафиксированная встреча Лермонтова с Брюлловым произошла в салоне Карамзиных, о нейвоспоминает В.А. Соллогуб: «У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брюллов, Даргомыжский, словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высокоэстетический дом»443. В этих же воспоминаниях приводится эпизод, запечатлевший, как Лермонтов читал в гостиной Карамзиных свои стихотворения. По воспоминаниям М.И. Железнова известны отклики Брюллова о поэзии Лермонтова, близкой художнику своими мыслям и переживаниям. Так, в воспоминаниях М.И. Железнова читаем о том, что находясь в 1840 году на острове Мадейра и переживая разрыв с пианисткой Э. Тимм, художник в рассуждениях «о том, что семейная жизнь, созданная христианством, в идее полна поэзии, а на деле что попало, Брюллов вспомнил стихи Лермонтова: «Любить, но кого же? На время - не стоит труда, а вечно - любить невозможно»444.