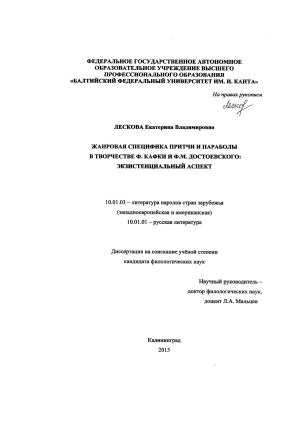Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Жанровые категории притчи и параболы: проблема соотношения 16
Выводы 38
ГЛАВА 2. Притчево-параболическая организация романов ф. кафки «процесс» и ф.м. достоевского «братья карамазовы» 40
1. Идейно-художественная роль вставных притч: поэтика и религиозно-этическая концепция 40
2. Суд - вина - оправдание: параболическая диалектика романов Кафки «Процесс» и Достоевского «Братья Карамазовы» 60
3. Библейско-экзистенциальный миф об Иове в притчево-параболической организации романов Ф. Кафки и Ф.М. Достоевского 82
Выводы 94
ГЛАВА 3. Притчево-параболическая организация малой прозы ф. кафки в экзистенциальном контексте творчества Ф.М. Достоевского 96
1. Жанровая поэтика притч Ф. Кафки: автономность, фрагментарность, цикличность 96
2. Жанр рассказа-параболы в творчестве Кафки (на примере цикла «Кары»): феномен циклизации и интертекстуальный диалог с Ф.М. Достоевским 111
3. «В исправительной колонии» Ф. Кафки как жанр антиутопического рассказа-параболы: диалог с Ф.М. Достоевским и Э. Фроммом 122
4 . «Нора» Кафки как жанр исповедального рассказа-параболы в экзистенциальном диалоге с Ф.М. Достоевским 132
5. Библейский миф о Вавилонской башне в параболическом рассказе-фрагменте «Как строилась Китайская стена» 147
Выводы 157
Заключение 161
Библиография 166
- Суд - вина - оправдание: параболическая диалектика романов Кафки «Процесс» и Достоевского «Братья Карамазовы»
- Библейско-экзистенциальный миф об Иове в притчево-параболической организации романов Ф. Кафки и Ф.М. Достоевского
- Жанр рассказа-параболы в творчестве Кафки (на примере цикла «Кары»): феномен циклизации и интертекстуальный диалог с Ф.М. Достоевским
- . «Нора» Кафки как жанр исповедального рассказа-параболы в экзистенциальном диалоге с Ф.М. Достоевским
Суд - вина - оправдание: параболическая диалектика романов Кафки «Процесс» и Достоевского «Братья Карамазовы»
В современном литературоведении уделяется достаточно большое внимание феномену «притчевой», «параболической», «иносказательной», «метафорической» прозы. Этот понятийный конгломерат является отражением закономерных тенденций в литературе последних столетий, все более сознающей недостаточность «зеркально»-миметического воспроизведения действительности и тяготеющей к формам усложнение-условной изобразительности. Вместе с тем нарастает острота проблемы терминологического разграничения, связанная с характерными для современной науки явлениями терминологической синонимии («терминологической дублетности») [Иванова 2011: 199] и полисемии, создающими препятствие к соблюдению критериев строгости и однозначности научного высказывания. Сосредоточимся на проблеме соотношения понятий «притча» и «парабола».
На сегодняшний день превалирует представление об их синонимичности, о чём свидетельствуют многочисленные употребления этих понятий примерно в одном и том же контексте. Тенденция к унификации терминов прослеживается, в первую очередь, на иноязычном материале: в английском и французском языках существует один общий термин - Parable и Parabole, которым обозначаются как традиционные притчи, так и современные произведения притчевого типа, заметно отличающиеся от традиционных6. Немецкий язык допускает возможность терминологической дифференциации - die Parabel и das Gleichnis, однако в большинстве общих словарей эти понятия представлены синонимичными.
В качестве номинации произведений, характеризующихся «усложнённо-условной изобразительностью» в западной науке используются и другие термины, наиболее популярные из которых «fabulation» (литература вымысла) [Скоулз 1967] и «multivalent novel» (многозначный роман) [Фридман 1978], однако они обозначают более широкие понятия. Согласно определению «Duden Deutsches Universal Worterbuch», притча представляет собой «краткий образный рассказ, в котором некая абстрактная мысль или явление становится понятным посредством сравнения с неким наглядным, конкретным содержанием» - «kurze bildhafte Erzahlung, die einen abstrakten Gedanken od. Vorgang durch Vergleich mit einer anschaulichen, konkreten Handlung...verstandlich machen will» [DDUW 1989: 616], парабола- «иносказательный поучительный рассказ» - «gleichnishafte belehrende Erzahlung» [Там же: 1118]. Единственным отличием является указанная этимологическая соотнесённость параболы с семантикой слова «Nebeneinanderwerfen» - «бросок рядом» (ср. с греч. «para» - прыжок), чего не сказано о притче [Там же]. Идентичность значений фиксирует и «Langenscheidts GroBworterbuch Deutsch als Fremdsprache», в котором притча определена как «рассказ, содержание которого представлено с помощью сравнения» - «Erzahlung, deren Aussage mithilfe von Vergleichen dargestellt wird» [LGDF 1998: 418], а парабола как «короткая, простая история, которая посредством некоего сравнения передает моральное или религиозное учение» - «kurze, einfache Geschichte, die mithilfe e-s Vergleichs e-e moralische od. religiose Lehre gibt» [Там же: 737]. В обоих словарях второй термин обязательно приводится к первому как синоним (со знаком «=»).
Терминологическая дифференциация наблюдается в специализированном литературоведческом словаре «Worterbuch der Literaturwissenschaft» (Leipzig 1989): парабола - «форма притчевого рассказа..., формально-художественный принцип; в театрально-драматической образности особая форма драмы (параболическая пьеса) ... Тогда когда притча исходит из аналогического заключения, который связывает два события, происходящие из подобных друг другу объектных сфер, парабола играет опосредующую роль в понимании, разъясняя определённое событие через ему подобное происшествие, взятое из какой-то иной объектной или понятийной сферы... В то же время, в отличие от басни, подразумевается не необходимость полного соответствия всех деталей, а ограничение одним сравнительным моментом, в котором один случай соответствует другому» - «Form der Gleichniserzahlung..., kimstler. Gestaltungsprinzip; in der dramat.heatral. Darstellung eine besondere Form des Dramas ... Wahrend das Gleichnis durch AnalogieschluB entsteht, der zwei Vorgangeverknupft, die dem gleichen Objektbereich entstammen, vermittelt die P. Einsichten, indem sie einenVorgang durch ein analoges Geschehen aus einem anderen Objekt- oder Vorstellungsbereich erhellt... Dabei ist im Unterschied etwa zur Fabel nicht die Uberstimmung in alien Details erforderlich, sondern auch die Beschrarnkung auf einen Vergleichspunkt, in dem der eine Fall mit dem anderen ubereinstimmt, denkbar» [Worterbuch der Literaturwissenschaft 1989: 386]. Таким образом, притча, согласно данному определению, является двуплановой, и сравнение этих двух планов является исчерпывающим для её понимания. Парабола же предполагает опосредующую связь между двумя планами, допускает возможность толковать первый план с помощью события, взятого из второго плана, т.е. характеризуется большей избирательностью подходов для иносказательного толкования, чем в притче и басне.
Научные исследования немецких авторов [Schneider 1966, 1975; Schrader 1980; Dithmar 1978, 1982; Brettschneider 1980; Elm 1991; Erlemann, Nickel-Bacon, Loose 2014] также обнаруживают моменты расхождения терминов. По мнению Г. Шнайдер, «в отличие от притчи в узком смысле парабола рассказывает не о том, что происходит всегда, всюду и для всех..., но о том, что случилось однажды, вопреки всем ожиданиям» - «Im Unterschied zum Gleichnis im engeren Sinn erzahlt die Parabel nicht, was immer, uberall und von alien... getan wird, sondern was einmal, wider alle Erwartungen sich ereignete» [Schneider 1975: 55]. Исследовательница также отмечает различия между басней (Fabel) и параболой (Parabel), выдвигая гипотезу о том, что они аналогичны различиям между двумя культурными типами древнегреческим и древнееврейским: «Эллада предпочла басню, которая также рассказывала об исключительном случае, точкой отсчета которого является, правда, человек. Басня приходит на помощь гуманному поведению. Израиль же придумал параболу ; только так через слово в мир было привнесено все неординарное, Божественное, которое есть «Всем-Остальным». Парабола есть скрытое средство Божественных отношений» -«Hellas hat die Fabel bevorzugt, die auch den Sonderfall erzahlt, deren Bezugspunkt aber den Mensch ist. Die Fabel will Hilfe zu humane Verhalten sein. Israel hat Parabeln gedichtet; nur so holtees das AuBerordentliche, den Gott, der der Ganz-Andereist, durch das Wort in die Welt. In der Parabel ist das Gottesverhaltnis die geheime Mine» [Там же: 57].
В монографии В. Бреттшнайдера «Современная немецкая парабола. Развитие и значение» (1980) противопоставляются парабола «старая» и «новая», «закрытая» и «открытая»: «Очевидно, что в 20 столетии преобладает открытая форма, что обновление параболы означает одновременно преображение закрытой формы» - «Es ist evident, daB im 20. Jahrhundert die offene Form vorwiegt, daB die Erneuerung der Parabel zugleich die Umwandlung der geschlossenen Form in die offene bedeutet» [Brettschneider 1980: 56]. Как пишет исследователь, «новая» парабола, в отличие от «старой», сводится «к дискуссии, вопросам и догадкам: вместо уверенности сомнение, вместо знания агностицизм, вместо проповеди искания, проникновенным примером которых является Кафка» - «... auf Diskussion, Frage und DenkanstoB...: statt GewiBheit Zweifel, statt Erkenntnis Agnostik, statt Predigt Konfessioneines Suchenden, wofur Kafka das bewegendste Beispiel ist...» [Тамже: 71].
Библейско-экзистенциальный миф об Иове в притчево-параболической организации романов Ф. Кафки и Ф.М. Достоевского
В романах Кафки и Достоевского, несмотря на многие несходства (метод, структуру изображения), есть ряд смыслообразующих понятий и мотивов, выявляющих их несомненную духовно-генетическую преемственность. Очевидна аналогия двух романов в авторском восприятии проблемы суда как карательного механизма, действующего извне и часто несправедливого, вины как внутреннего, специфически-интимного ощущения, и оправдания как подсознательного и вместе с тем свойственного человеческой природе стремления выявить своё внутреннее сопротивление осуждению, доказать свою правоту. Параболический потенциал осмысления этих понятий содержится, на наш взгляд, именно в рассматриваемых нами романах, - «Братьях Карамазовых» Достоевского и, в особенности, в «Процессе» Кафки.
Вполне отвечая экзистенциалистскому мировосприятию с его недоверием к рационалистическим способностям человека к самопознанию, парабола становится действенным художественным инструментом экзистенциальных писателей, к числу которых относится Кафка. Притягательность параболы для этого круга писателей объясняется её стремлением к опосредованному постижению тайны человеческого существования, не с помощью понятийно-логического постижения, а через образное проникновение в суть вещей. Роман «Процесс», загадочный и до сегодняшних дней неоднозначно интерпретируемый, является примером этого сложного и многопланового явления.
«Впору подумать, будто весь роман не что иное, как развернутая парабола» - «der Roman sei nichts als die entfaltete Parabel» [Беньямин 2000: 65-66], - говорит В. Беньямин, сравнивая «Процесс» с бутоном, постепенно превращающимся в цветок (то есть раскрывающимся, но не до конца) в отличие от парабол других писателей (их исследователь сравнивает с «бумажными корабликами»), приводящих к полному «разглаживанию смысла» [Там же: 66]. Обилие загадок и символов в тексте «Процесса» неслучайно: они затягивают читателя в поиск кодов и ассоциаций, руша его так называемое «контемплятивное отношение к тексту» [Адорно 1996: 121]. Использование слов, несущих семантику неуверенности и неопределённости {«Кто-то, по-видимому, оклеветал Иозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест» [Кафка 1999: Т. 2: 7] «Jemand muBte Josef К. verleumdet haben, denn ohne daB er etwas Boses getan hatte, wurde er eines Morgens verhaftet» [Kafka 1988: 283]) зарождает в читателе ощущение тайны и обманное ожидание её дальнейшего раскрытия, проводя между ним и писателем своеобразную игру. Как справедливо заметил Т. Адорно, «каждая его (Кафки. Е.Л.) фраза говорит: истолкуй меня - и ни одна из них этого не потерпит» [Адорно 1996: 121]. Кафка не ведёт читателя за руку, он только намекает ему, куда нужно идти (в этом «намёке» на истину и состоит главная особенность экзистенциальной мысли в её художественном преломлении).
По мысли Б. Брехта, истоки параболичности кафковского «Процесса» восходят к Достоевскому, в частности, к его последнему роману - «Братья Карамазовы» [Брехт, цит. по: Беньямин 2000: 266]. «Карамазовы», конечно же, не являются параболой в чистом виде, в отличие от кафковского романа, представляя собой сложное синтетическое целое (по М.М. Бахтину это полифонический роман или роман-диалог [Бахтин 1994: 221, 489], по В.И. Иванову - роман-трагедия [Иванов 1994], по В.Е. Ветловской - это одновременно и роман-детектив и, основывающийся на древнерусских жанровых формах, - житиях и проповедях, роман-притча [Ветловская 1977: 154-155]), содержащее лишь отдельные элементы параболики. Однако даже небольшие параболические фрагменты позволяют судить о взаимосвязанности двух рассматриваемых нами романов, объединяющим фактором которых является инспирированный русским писателем (изначально библейский) мотив суда, развитый Кафкой и получивший у него статус понятия-экзистенциала.
На особую экзистенциальную значимость мотива суда для Кафки обратил внимание чешский писатель М. Кундера, добавляя к ней ещё одно преобразованное Кафкой понятие процесса: «они (романисты. - Е.Л.) разрабатывают собственный словарь, часто с ключевыми словами, имеющими характер понятия и выходящими за рамки значения, определённого словарями. ... Так Достоевский говорит об унижении, Стендаль о тщеславии, Кафка, благодаря Процессу, оставляет нам в наследство, по меньшей мере, два слова-понятия, ставших необходимыми для понимания современного мира: суд и процесс» [Кундера 2004: 230]. Суд, в понимании Кундеры, является у Кафки не чем иным как синонимом не порядка, не выразителя Высшего закона, а именно силы; процесс же определяется им как бесконечный режим обвинения, и не какого-то определённого поступка, а всей личности в целом, сопровождающийся «забвением всего, что не является преступлением» [Там же: 232], другими словами, личность вне осуждения больше не представляет интерес.
Жанр рассказа-параболы в творчестве Кафки (на примере цикла «Кары»): феномен циклизации и интертекстуальный диалог с Ф.М. Достоевским
Концептуальным ядром анализируемого микроцикла является ироническое отношение к философским наукоцентрическим представлениям XIX века: биологический детерминизм, эволюционизм («Маленькая басня»), позитивистски окрашенная «теория малых дел», стремление исследователя найти «архимедов рычаг» бытия («Волчок»), подмена представлений о «царстве небесном» минималистическими задачами земного обустройства человечества («Герб города»).
Примечательно, что текст «Маленькой басни» основывается на сознании жанровой смежности двух аллегорических жанров с дидактическим заданием - басни и притчи. Названию «Маленькая басня» свойствен плеонастический эффект: басня, как и притча, является малым жанром, - при сравнении кафковской «Маленькой басни» с каноническими баснями Эзопа, ее нельзя счесть существенно меньшей по объему. Для жанра басни, помимо традиционного для нее использования образов животных как аллегорий, характерен морально-философский смысл, основанный на представлениях о жестоких законах жизни, о делении на сильных и слабых, о борьбе за выживание, а также о том, что над законом «сильный всегда прав» помогает восторжествовать здравый смысл, смекалка. Например, идейный смысл басни Эзопа «Кошка и мыши» полностью выражен итоговым комментарием: «Басня показывает, что разумные люди, испытав чье-нибудь коварство, не дают больше ввести себя в обман» [Античная басня, 1991: 107]. Сюжет кафковской «Маленькой басни» полностью опровергает эти надежды на практический рассудок. В этом прозаической миниатюре происходит контаминация традиционных смыслов басни (противостояние хищник - жертва) и экзистенциальных смыслов, выражаемых с помощью амбивалентного символа стены. «Маленькая басня» Кафки состоит из двух диалогических реплик: высказываемых мышью опасений и ложного совета хитрой кошки. Образ стен появляется в реплике мыши, для которой они изначально представляются источником успокоения («... я бежала всё дальше и дальше, пока, наконец, справа и слева вдалеке не увидела стены...» [Там же: 655]), но впоследствии превращаются в символ несвободы и безнадёжности: жертва приходит к пониманию того, что стены ведут к западне. В данной ситуации хищник (кошка) выступает в роли лжесоветчика: она предлагает жертве альтернативу, которая, как показывает результат, ничем не лучше изначально предполагаемого исхода. Таким образом, теряется смысл любых моральных рецептов: формально у мыши есть свобода выбора, но фактически она оказывается лишь перед другим обличьем рока, другой ловушкой.
Притча «Волчок» изоморфна сюжету «Маленькой басни»: философ также отталкивается от безграничности мира, осознанно стремится к сужению горизонтов бытия, но это мотивировано не страхом, а принципом экономии усилий. Как и в «Маленькой басне», в этой притче присутствует мотив недолговечности счастья («и если ему удавалось поймать волчок, пока он вертелся, он был счастлив...» [Там же: 654]) и скорого разочарования в стремлении отыскать рецепт его продления. Помимо связанности с остальными историями трилогии, притча «Волчок» образует смысловое сцепление с текстом «О притчах» [Von den Gleichnissen]: в концовке «Волчка» вместо однозначного морального комментария прослеживается мотив метаморфозы, ментального слияния героя с предметом («и он уходил, пошатываясь, как волчок от неловких толчков погонялки» [Там же: 654]), обнаруживается шкатулочный прием притчи в притче, загадки в загадке, являющийся основным в притче «О притчах», создающий в ней смысловой резонанс: «Если вы будете следовать притчам, тогда вы сами сделаетесь притчами...» [Там же: 704]. В этом также проявляются свойства, отмеченные В. Крутиковым, называемые им «целью кафковских притч»: исследование физичности психологической жизни героев, «деантропоморфизации» их анатомического тела [Крутиков 2001: эл. ресурс]. Сам же принцип кафковского философа «если же действительно познать любую малость, то познаешь всё» [Кафка 1999: Т. 1: 654] гармонирует с принципом «непрямого донесения истин», о котором мы уже неоднократно писали в связи с жанровыми феноменами притчи и параболы.
В «последней» части микроцикла, - философской притче «Герб города», очевидно прослеживается интертекстуальный диалог с русской классической традицией, в первую очередь, с произведениями Достоевского. О философичности русской мысли и характерном для неё обращении к урокам прошлого пишет В.В. Зеньковский в своей работе «История русской философии»: «Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о «смысле» истории», конце истории и т.п. Это исключительное, можно сказать, чрезмерное внимание к философии истории, конечно, не случайно и, очевидно, коренится в тех духовных установках, которые исходят от русского прошлого, от общенациональных особенностей «русской души» [Зеньковский 1991: 16]. Подобное переосмысление исторических событий мы наблюдаем и в кафковской притче.
. «Нора» Кафки как жанр исповедального рассказа-параболы в экзистенциальном диалоге с Ф.М. Достоевским
Однако целью писателя является вовсе не желание обличить, а скорее «пожурить» русскую пассивность и обратить внимание на эту проблему. При всей критичности, свойственной публицистическому жанру (к которому, несомненно, относится «Дневник писателя»), Достоевский чётко разграничивает жизненные уклады людей двух империй, Российской и Китайской. Очевидным является противопоставление писателем своего и чужого «мира», по схеме «у нас» - «у них». Таковым, к примеру, является следующее замечание: «Там всё предусмотрено и всё рассчитано на тысячу лет; здесь же всё вверх дном на тысячу лет» [Там же: 6]. В этом состоит главное отличие текста Достоевского от кафковского рассказа, в котором образ Китая, жители которого взялись за строительство стены для будущей Вавилонской башни, напротив, используется автором в качестве метафорического уподобления родной ему Австро-Венгерской империи. Многовековое правление китайской династии представляет собой своеобразную пародию на австро-венгерскую династию Габсбургов, «лоскутность» и многоязычность которой одновременно является аналогом вавилонского смешения языков.
Однако главной аллюзией Достоевского в рассказе Кафки является уже неоднократно исследуемый нами «Великий инквизитор», представляющий собой важнейший прототекст параболического произведения Кафки. Таинственность фигуры кафковского императора, его непоколебимый авторитет перед китайским народом в очередной раз отсылают нас к речи кардинала Инквизитора, в частности, к его рецепту порабощения людей, по всей видимости, нашедшему применение в изображаемом Кафкой мире: «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков (людей. - Е.Л.), для их счастия, - эти силы: чудо, тайна и авторитет» [Достоевский 1976: Т. 14: 232]. Идейным лейтмотивом произведения Достоевского является проблема слабости человека и в то же время непримиримости его бунтарской натуры. Цитаты, демонстрирующие эту мысль, рассеяны по всему тексту «поэмы»: «Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?» [Там же: 229], «Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные как песок морской слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными» [Там же: 231], «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты?» [Там же: 233], «Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастие слаще всякого» [Там же: 236]. Акцентирует эту мысль и «послесловие» Ивана: «...из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни» [Там же: 238], «малосильные бунтовщики», «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку» [Там же]. Подобные выводы делаются и в кафковском рассказе. Результатом познания человеческой природы становится заключение о склонности к бунту, - «человеческое существо, будучи по своей сути легковесным и подобным взлетающей пыли, не терпит никакой привязи; если оно к чему-либо себя привяжет, то очень скоро начнет бешено дергать свои оковы и разрывать в клочья себя, стену и цепи» [Кафка 1999: Т. 1: 617], и слабости человеческого существа, - «именно эта слабость и служит одним из важнейших средств объединения народа» [Там же: 626].
Тем не менее, при всей своей схожести, произведения Кафки и Достоевского всё же имеют значительные различия. Если инквизитор
Достоевского, стараясь создать общество покорных и безвольных существ, отходит от традиции (в данном случае христианской), то герои-строители кафковского рассказа, равно как и их правители, напротив, слепо следуют ей, стараясь выполнить задачи, поставленные предыдущим поколением. Свидетельством уважительного отношения к традиции является тот факт, что проблема строительства защитной стены решается на высшем государственном уровне: создаются не только специализированные школы, но и детские сады, в которых изучаются основы строительства, освоение этого древнего ремесла провозглашается одной из главных целей каждого жителя Китая: «Подошли к этой задаче отнюдь не легкомысленно. За пятьдесят лет до начала стройки во всем Китае, который предполагалось окружить стеной, строительное искусство, особенно же мастерство каменщиков, было объявлено важнейшей наукой» [Там же: 614].
Иначе раскрываются в кафковском произведении проблемы греха и свободы. В отличие от программы инквизитора, смысл которой заключается в «принятии на себя» людских грехов и наказания за них («наказание же за эти грехи их мы, так и быть, возьмём на себя» [Достоевский 1976: Т. 14: 236]), ведь сама природа человеческая является, согласно его представлениям, «порочной», «ничтожной» и «вечно неблагородной» [Там же: 231], кафковский рассказчик сообщает о своём народе совершенно обратное: «Такой чистоты нравов, как в моем родном краю, я, пожалуй, нигде не видел [Кафка 1999: Т. 1: 625]. Примечательно, что духовная «чистота» народа объясняется у Кафки ни чем иным, как следованием традиции, противопоставляемой автором непонятному и бессмысленному современному закону: «это такая жизнь, которая не подчинена никакому современному закону, а следует только предписаниям и предостережениям, дошедшим до нас из глубокой древности» [Там же]. Связь традиции с понятием нравственности прослеживается и в «Инквизиторе» Достоевского, главный герой которого является негативным примером отпадения от ценностей прошлых поколений, что стало причиной забвения истины, духовного первоначала, в созданном им обществе. Возможно, поэтому, в противовес образу «страшной Вавилонской башни», которая в условиях свободного существования людей, по убеждению инквизитора, заменит божий храм [Достоевский 1976: Т. 14: 230], строительство башни в произведении Кафки вовсе не является богопротивным делом: «в смысле их («свершений» ради общего дела строительства. - Е.Л.) угодности Богу - по крайней мере по человеческому разумению - являются прямой противоположностью той башне» [Кафка 1999: Т. 1: 616].
Существенным разграничительным фактором концепций двух писателей является и то, что кафковские герои (обычные жители Китая) являются свободными: «Следствием подобных мыслей является до известной степени свободная, никому не подвластная жизнь» [Там же: 625], в отличие от изображённых Достоевским людей, подчинившихся воле инквизитора и отказавшихся от прав на свободное существование, пусть даже и самостоятельно: «принесут свою свободу к ногам нашим и скажу нам: «лучше поработите нас, но накормите нас» [Достоевский 1976: Т. 14: 231]. Предпочтение «хлеба земного» [Там же] небесному становится для них последним волевым актом. В изображаемом Кафкой мире всё иначе. Его герои, являясь свободными «до определённой степени» [Кафка 1999: Т. 1: 625], о возможности выбора не задумываются, принимая существующее на данный момент положение вещей, что объясняется их незнанием происходящего, отстранённостью от «большого» мира. Волнения в народе возникают лишь изредка, и желание жить спокойно и бездумно быстро прекращает их распространение: «люди, смеясь, покачали головами и больше ничего не желали слушать. Так у нас всегда готовы заглушить голоса современности» [Там же]. Парадоксально, но в отличие от фигуры властного Инквизитора Достоевского, кафковские властители-императоры представлены вовсе не могучими владыками, а такими же мало что осознающими, как и их народ, песчинками, потерявшимися в водовороте «дворцовых» интриг и переворотов.
Таким образом, в основе параболичности обоих произведений, «Как строилась китайская стена» Кафки и «Великого инквизитора» Достоевского, лежит символ Вавилонской башни из библейского мифа. Однако его использование имеет в этих текстах различное значение. У Достоевского оно является отрицательным, образ «башни» приравнивается автором к стремлению человека возвыситься над остальными. Примечательно, что сам инквизитор, который, казалось бы, отвергает идею избранничества и не приемлет гордыню («Я ушёл от гордых и воротился к смиренным» [Достоевский 1976: Т. 14: 237]), пытается создать свою «Вавилонскую башню» - общество слабых людей, готовых вверить ему свою волю. У Кафки образ «башни» амбивалентен. С одной стороны, он символизирует разъединение, разрыв человеческих связей даже внутри одного государства, причиной которого является не языковой барьер как в библейском мифе, а огромные расстояния, затрудняющие возможность нормальной коммуникации, и внутренняя отгороженность людей от происходящего в «большом» мире, в которой читается кафковская аллюзия к «Дневнику писателя» Достоевского. С другой стороны, строительство башни, как это ни парадоксально, заключает в себе значение объединения, вклад каждого человека в общее дело, смысл которого ему не дано постичь.