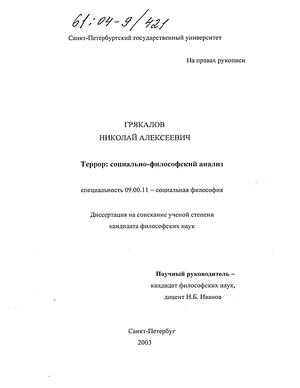Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Архэ насилия: muthos и logos 20
1.1. Обмен и жертва 20
1.2. Линия всеобщего эквивалента 42
Глава II. Трансгрессии диалектики 72
2.1. Спираль власти (М. Фуко) 72
2.2. Катастрофическое диалектического (Ж. Бодрийяр)... 90
Глава III. Terror, ru: эклиптики насилия в русской культуре 145
3.1. Геополитика фантазма - между ландшафтом и территорией (М. Мамардашвили) 145
3.2. Драматизация зримого (П. Флоренский) 164
3.3. Политики эстетического: государство как художественный текст 197
Заключение 219
Список литературы 221
- Обмен и жертва
- Спираль власти (М. Фуко)
- Геополитика фантазма - между ландшафтом и территорией (М. Мамардашвили)
Введение к работе
Актуальность темы.
Обращение к социально-философскому анализу террора мотивировано в значительной степени неустранимой навязчивостью данного феномена в жизненно-мировых ландшафтах постсовременности. Однако, несмотря на «тупую» принудительность своего наличия1, террор успешно уклоняется не только от стремящихся контролировать его проявления социальных практик, но и от аналитических конверсии политологического или социологического толка, естественный негативизм которых в отношении террора вряд ли можно рассматривать в качестве критерия рациональности как самого террора, так и описывающих его дискурсов. В качестве примера такого паразитарного дискурса может быть рассмотрена статья X. Хофмайстера «Теория террористической войны»2, не выходящая за пределы социального воображаемого и производимой им юридической модели — дискурса, континуальность которого держится, по выражению Ж. Бодрийяра, «лишь безоговорочным признанием социального»3. Следовательно, аналитика террора заведомо вписывает себя в
1 Определенность террора можно, вслед за С. Жижеком, обозначить как
упорство (= «тупое наличие»): «противоположностью существования (existence)
является не несуществование (inexistence).a упорство (insistence): то, что не
существует, продолжает упорствовать, борясь за существование» (Жижек С.
Добро пожаловать в пустыню реального. М., 2002. С. 28).
2 См.: Хофмайстер X. Теория террористической войны // Homo
Philosophans. К 60-летию профессора К. А. Сергеева. СПб., 2002.
«Социология в состоянии описывать лишь экспансию социального и ее перипетии. Она существует лишь благодаря позитивному и безоговорочному допущению социальности. Устранение, имплозия социального от нее ускользают. Предположение смерти социального есть также и предположение ее собственной смерти» (Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000. С. 8-9).
контекст новоевропейских социо-политических перипетий, поставленных пост-современным террором со всей радикальностью под вопрос. «Вирусным» стратегиям пост-современного террора не находится исторических аналогов ни в отрицающем индивида государственном терроре, ни в отрицающем легитимность государства терроре экстремистских групп (от «Народной воли» до «Красных бригад»)4.
Есть основания предполагать, что мы присутствуем при радикальной смене стратегий апроприации террора социумом: «конец социальности», проявляющийся в провале всяких попыток замкнуть ее в тех или иных интеллигибельных границах, а следовательно - невозможность ее репрезентации в терминах социально-исторических или политологических дисциплин (на чем настаивает, в частности, П. Бурдье, указывая на симулятивный характер традиционной социологии), знаменует собой и завершение «классической» тематизации негосударственного террора, который понимался как форма волеизъявления маргинальных (в политическом, этническом, религиозном или любом другом отношении) социальных групп, отсеченных от нормативных практик делегации политической воли.
В этом случае мы продолжаем мыслить террор политически или, что то же самое, - исторически. Однако есть основания предполагать, что политическая определенность террора уступила место террору как «порнографической репродукции»: «Идеологическая машина возбуждает саму себя, теряет всяческую
4 «Взрывается политическая пустота (а не злоба той или иной группы людей), молчание истории (а не психологическое подавление индивидов), безразличие и безмолвие. Таким образом, терроризм не есть какой-то
опору; десубстанциализация захватывает область исторического содержания»5. Отсюда вопрос: да живо ли само политическое? Возможно, что как «социальность» и «сексуальность», как «автор» и «субъект», политическое имеет свой срок, а в таком случае гипостазирование политического измерения террора предоставляет нам только его фантазматическую референцию, экранирующую те зависимости, которые сделали террор отличительной чертой социальности времен «заката эпохи взрыва». Политизация террора фантазматична постольку, поскольку гарантирует нашему социальному воображаемому опору в действительности: все социо-политические рационализации террора могут претендовать лишь на статус наивной онейрокритики, скрывающей наш побег по ту сторону сновидения, в котором сообщество «встречается с пробуждением в реальное собственного желания»6.
«Тотальная деполитизация», связанная эволюцией
стратегических машин, которую прослеживает П. Вирильо в своей «дромологии» (изначально милитаризирующей и терроризирующей политику), приводит к тому, что традиционные рефлексии террора отстают на шаг как от его имманентной логики, так и от логики социальной инфраструктуры. Вирильо указывал на то, что исторически первый вид оружия - так называемое «оружие отражения» - породил политическое в качестве своего эхо-эффекта. Общество меняется одновременно со сдвигом к «оружию поражения» - государство/полис становится национальным государством, генезис которого аналогичен закату осадных войн и
иррациональный эпизод нашей общественной жизни: ему присуща четкая логика ускорения в пустоте» (Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М, 2000. С. 113).
5 Липовенки Ж. Эра пустоты. СПб., 2001. С. 314.
6Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 52.
переходу к войнам наступательного характера - вплоть до нацистского Blitzkrieg'a. Но «точно также внедрение нового информационного оружия изменит город, изменит функцию государства. С его появлением национальное государство растворяется в более обширной глобальной совокупности; этим объясняются нынешние конфликты... Под вопрос ставится сам статус города, он оказывается больше, чем городом... нации утратят значительную часть своей власти в пользу мегаполисов, в пользу огромных городов-архипелагов. То есть появление орбитальных коммуникативных вооружений влечет за собой «мондиализацию» цивилизации. Мы присутствует при зарождении города-мира, состоящего из конгломерата городов. Все это сейчас только нарождается, но уже грозит опрокинуть если не политику, то политическое измерение. Все, что относится к войне через посредство скорости и власти также относится к полису и, следовательно, к политическому измерению»7.
Формация, определяемая через доминирующие модели обмена, стратегические машины или привилегированные инновации (аккультурации) специфическим образом символизирует насилие, которое антропологично и в этом смысле - непереходно8. Эта символизация, переводящая «реальное» насилие в «символический» террор, генерирует определенный «идеальный тип» (или, скорее, «концептуальный персонаж»), который выступает условием возможности ее социального отреагирования. Историческая модификация стратегий символизации насилия предполагает
7 Великой автомат. Беседа М. Рыклина с П. Вирильо // Рыклин М. К.
Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. М, 2002. С. 127-128.
8 См.: Смирнов И. П. Обмен и террор // Художественный журнал. 1998. №
19/20.
модификацию их носителя - не столько «террориста»-практика, сколько той фигуры, которая позволяет сообществу описать террор в том или ином дискурсе и тем самым освоить.
Скажем, для террора французской революции таким
концептуальным персонажем выступает либертен (и его alter ego -
моралист), доводящий до логического завершения демарш
«естественности» (естественного права, естественного света и т. д.),
для модернистского проекта и инспирированного им террора
«гомогенных государств» - авангардный художник,
синтезировавший единый политически-эстетический проект перепричинения мира. Вероятно, что и пост-современные манифестации террора также имеют своего концептуального персонажа. Это - масс-медиальный шаман, пустая форма медиа-оператора, распределяющего насилие по социальному телу и формирующему «аудиторию» - симулятивную форму сообщества. Согласно многим теоретикам (в наиболее развернутой форме эта позиция выражена Ж. Бодрийяром), масс-медиа способствуют ликвидации трансценденции политического, которую они заменяют трансценденцией формы масс-медиа. Последние, вопреки видимости, представляют собой антипроводник - устройство принципиально нетранзитивное и антикоммуникативное. Власть принадлежит тому, кто способен ее дать и кому она не может быть возвращена: разорвать процесс обмена в свою пользу означает то же, что установить монополию на дар, символизирующий эксцесс. Но то же самое, отмечает Ж.Бодрийяр, «происходит и в области масс-медиа: нечто оказывается произнесенным, и все делается таким образом, чтобы на эти слова не было получено никакого
ответа» .
Можно говорить о том, что «диспозитив терроризма» -концепт, образованный по аналогии с «диспозитивом сексуальности» (М. Фуко), - является, возможно, наиболее характерной чертой пост-современной социальности. Многие авторы (Ж. Бодрийяр, П. Вирильо, Б. Гройс, С. Жижек) указывали на то, что терроризм не является чем-то внешним, каким-то случайным эксцессом в распечатке социальных позитивностей, но являет собой имманентную характеристику «общества спектакля» (Г. Дебор). Раскрытие этих связей представляется актуальным постольку, поскольку через описание террора как травматического симптома позволяет выявить комплекс (= конституцию или характер организации) того социального тела, современниками которого мы являемся. В этом отношении террор может выступить в качестве сквозного термина при описании принципиально любых объектов социально-философской рефлексии.
Степень разработанности проблемы.
Как внятная постановка проблемы террора, так и попытки ее разрешения, приобретают различные конфигурации в зависимости от тех концептуальных аксиоматик, которые лежат в основании тематизирующих эту проблему дискурсов. Мы может указать как минимум четыре стратегии, в которых возможна предельная (собственно, философская) проблематизация террора, который эксплицируется в следующих границах определенности: как состояние мира (натуралистический дискурс), как состояние воли (критический дискурс), как понятие (спекулятивный дискурс), как
Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. М. - СПб., 1999. С. 202.
формация (генеалогический дискурс).
«Натуралистическая» позиция — это определенная
дискурсивная и понятийная «фигура»10. Один из способов говорить
о насилии, переводя его в план «сущего» или террора, поскольку
если мы действительно «говорим о реальности, вопрос для нас
может ставиться лишь о Реальности-о-которой-говорят» .
Натуралистическая экспликация апеллирует к первичной сцене
раздора - будет ли это «сцена истории» (3. Фрейд), «сцена письма»
(Ж. Деррида) или «сцена инструкции» (X. Блум), - что роднит ее с
этиологическим авто-описанием насилия в мифе, которое также
маркирует «начало» в качестве катастрофического прото-события,
учреждающего конфликтное измерение социальности и делающего
открытым социум для нечеловеческого, космического насилия,
маркированного «чудовищным двойником» (Р. Жирар). Как
натуралистическая фигура может быть распознана всякая
экспликация, кладущая в собственное основание катастрофическое
прото-событие, из которого дедуцируется социальная фактичность
этих брутапизмов. Однако - в этом, возможно, и состоит
«негативность ошибки» — о «начале» террора можно спросить, но
нельзя ответить: невозможность этого ответа была четко описана
Деррида в его трактовке начала как всегда-отложенного.
Ретроспективный «логос» оборачивается собственной
противоположностью, чтобы дать голос мифу, «мютосу» террора, который в качестве начала всегда готов преподнести рассказ о катастрофе, прото-событии, запускающем машину криминальности
Наиболее близкую относительно принятой здесь трактовку «фигуры» см.: Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta. Фигуры Вагнера. СПб., 1999.
11 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М, 1998. С. 13.
и дающем возможность «больше» не слушать мифов, но воспроизводить их в ритуальных «машинах памяти».
«Критическая» позиция, работающая с человеком как умопостигаемым существом, связана с проблемой объективации коррупции (в кантовском смысле) как эмпирического действия, данного во времени. Указывая на троякую неспособность произвола к принятию морального закона в свою максиму, Кант специально выделяет corruptio, определяя ее как «склонность произвола к максимам предпочитать мотивам из морального закона другие (неморальные) мотивы» .
Произвол выступает трансцендентальным эквивалентом
насильственного социального действия, однако довести до конца
критический ход в экспликации произвола удается лишь в случае
устранения гетерономии теоретического/практического,
осуществляемой через раскрытие причинных связей как превращенной формы целевых. Если «абсолютное практическое Я» становится местом разворачивания первой философии, коррупция раскрывается как принципиальная способность к принятию отличных от морального закона оснований как достаточных для определения произвола. Для Фихте зло состоит в инерции бытия как составляющего момента эмпирического индивида, при этом зло выступает как позитивное начало в конечном Я. Коррумпированный произвол есть перехват воли, не принадлежащей волящему: «воля к экземплярности» (уже не экземплярности сущего, но экземплярности воли) - предопределяет распад долженствования13.
12 Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма.
М, 1980. С. 100.
13 «Не исключено, что и вся вселенная не имеет смысла, и вы правы, желая
ее взорвать или, по крайней мере, расшатать, отрывая человека за человеком,
«Быть в произволе» поэтому означает ослабить бытие в точке собственного существования, то есть всякий раз ослаблять абсолютную волю в качестве закона конечной. В таком случае действие лишается морального содержания, поскольку всякий такой поступок прежде всего есть саботаж долженствовании.
В качестве «путеводной нити» трансцендентальной экспликации могла бы послужить строчка из пятой песни дантовского «Ада», где повествуется о мучениях тех, «кто предал разум власти вожделений», и где о Семирамиде сказано следующее: «Она вдалась в такой разврат великий, / Что вольность всем была разрешена, / Дабы народ не осуждал владыки». Демонстрация С. Жижеком (в комментарии к лакановским лекциям об этике психоанализа) структурного изоморфизма «апатии» де Сада и категорического императива Канта означает финал критического дискурса, который в пределе приближает нас к той «непристойности», в которой «страсть» способна стать политической реальностью.
Спекулятивный проект, позволяющий выстроить
«террористическую версию истории» (именно так обозначил В. Декомб интерпретацию Гегеля А. Кожевом14), выстраивает
кусок за куском» Ионеско Э. Бескорыстный убийца // Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990. С. 220; курсив в цитате мой. - Н. Г.). Ср.: «Давным-давно Новалис сделал точное наблюдение о том, что злой человек ненавидит не добро - он чрезмерно ненавидит зло (мир, который он рассматривает как зло) и потому пытается разрушить и причинить ему максимальный вред — в этом и состоит заблуждение по поводу «террористов»» (Жижек С. Добро пожаловать в пустыню реального. С. 158).
14 В. Декомб хорошо говорит о таланте Кожева «компрометировать философию в том смысле, в каком говорят о «компрометирующих знакомствах», - заставляя ее проникать в те сферы существования, куда она до сих пор входила без особой охоты: политический цинизм, доблесть резни и насилия и, в более общем плане, - неразумные истоки разумного» (Декомб В. Тождественное и иное // Декомб В. Современная французская философия. М,
диалектическую последовательность, где «критическая» экспликация отрицает «натуралистическую» и, в свою очередь, отрицается спекулятивной, называющей террор собственным именем, узнающей его в абсолютном дискурсе Мудреца, который проясняет абсолютное действие Героя. Взаимоотрицание произвола и природы как двух альтернативных «полей» разворачивания террора приводит к истории и, следовательно, к диалектическому описанию тотальности, объясняющему, как и почему Бытие реализуется не только в качестве природы и природного мира, но и в качестве человека и мира исторического (А. Кожев).
Террор при его спекулятивном описании перестает быть модусом насилия (высказанного определенным образом) и становится истиной насилия - «абсолютный дискурс» Мудреца интегрирует в себя все возможные описания насилия (то есть все его возможные терроропроекции). Если критический дискурс в своей аналитике произвола противопоставляет абсолютное и событийное (в форме противопоставления абсолютного и эмпирического Я), то спекулятивная проблематизация имеет дело с вопросами: возможно ли, с одной стороны, утверждение абсолюта как события и, с другой - события как абсолютного? Согласно подобной интерпретации, именно утверждение такого рода совершает революционный террор, лишающий смерть ее глубины: «Единственное произведение и действие всеобщей свободы есть поэтому смерть, и притом смерть, у которой нет никакого внутреннего объема и
2000. С. 19-20). Кожев оставляет в наследство своим слушателям «террористическую концепцию истории»: именно эту интригу подразумевал Мерло-Понти в заглавии и тематике своей книги 1947 года - «Гуманизм и террор», а также Сартр (тематизация братства-террора в «Критике диалектического разума»).
наполнения; ибо то, что подвергается негации, есть ненаполненная точка абсолютно свободной самости; эта смерть, следовательно, есть самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не больше, чем если разрубить качан капусты или проглотить глоток воды»15.
Последний эпизод исторического повествования должен соответствовать финальному эпизоду самой человеческой истории -то есть уничтожению человека как свободного исторического индивида. Следовательно, речь идет об исчезновении революционной монополии на террор - «революция» 1968 года именно поэтому не была «кровавой», в отличии от «частичных революционных объектов» Красных Бригад, группы Баадер-Майнхофф, японской ФКА или Лотта Континуа: исчезновение революционной монополии на террор разрешается в постисторическом терроре «безработной негативности». Это, фактически, означает и смерть философии как связного дискурса об инновации - исторической модификации желания.
Наиболее существенным для генеалогический проект (который нами трактуется в расширенном смысле - не только по отношению к «аутентичной» генеалогии Ницше, но и по отношению к ее археологической версификации) представляется замена юридической модели, отправляющейся от концепта закона/запрета, моделью стратегической, позволяющей ухватить продуктивную специфику власти (Фуко) или желания (Делез)16. Генеалогическая интерпретация террора, рассматривая формации позитивностей,
15 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. IV. М., 1959. С. 318.
направлена, во-первых, на выделение «эпистем террора» и, во-вторых, - на задание концептуального персонажа, в котором осуществляется символизация «молчаливого насилия» (стоит вспомнить, что для Ницше, в его конкретной генеалогической работе, в качестве таких персонажей выступали Воин и Аскет, маркируя активную и ре-активную распечатку эксцесса и, следовательно, его символического отреагирования социальным телом). Концептуальный персонаж в его террорологической версификации не имеет ничего общего с абстрактным олицетворением, символом или аллегорией. И хотя Делез указывал на несводимость персонажа к типу, он оставил для них «возможность взимопроникновения»: «социальные поля представляют запутанные узлы... а потому для их распутывания необходимо диагностировать настоящие типы, то есть персонажей»11'. Философ - это идиосинкразия его концептуальных персонажей, но равным образом и формация - идиосинкразия означающего жеста, который позволяет dzoon politikon сопротивляться давлению реального и жить, то есть символически ре-территориализировать насилие.
При рассмотрении террора в терминах формации (знаков, знания или производства) «мастера подозрения» подвергают сомнению сам исторический «счет» (ratio). Генеалогическая экспликация террора - это не сквозное описание какого-то «одного» террора, но и не пороговое описание чего-то безотносительного. Это - различные стратегии социальной артикуляции насилия,
16 Относительно возможности взаимного перевода понятий шизоанализа и
микрофизики см.: Делез Ж. Желание и наслаждение // Комментарии. 1997. №
И.
17 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М. - СПб., 1998. С. 89.
относительно которых не предполагается субстанции их реального следования.
Цели и задачи исследования.
Насилие - это столкновение человеческих тел, которое сопровождается пролитием крови: «оно говорит мало или не говорит вовсе»18, обрушивая в беспамятство культурный архив. Террор, в отличии от него, всегда дискурсивен - то есть символичен. Он радикально изменяет насилие, рассекая его цепочкой означающих, и тем самым превращает его в интерсубъективное событие. Постольку - именно террор способен стать объектом связного дискурса, который, используя структурное описание, способен выделять «фигуры» террора как социальные стратегии символизации насилия. Подобная терроро(тропо)логия -засечка и описание символических клише - и составляет непосредственно задачу исследования.
Таким образом, структурно-типологический анализ террора нами рассматривался прежде всего как анализ «фигуры» в риторическом смысле слова - тех символических устройств, которые упаковывают насилие, переводя его в бытие культурной памяти. Синхронное рассмотрение риторических (символических) «фигур» предполагает обращение к своему alter ego -диахроническому рассмотрению формаций (и, следовательно, механизмам их транс-формации): от формаций духа (Гегель), через формации экономические (Маркс), к формациям семиотическим (Бодрийяр).
Именно проблематизация связи фигура/формация прежде всего
18 Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. М., 1992.
мотивировала наше обращение к семиотическим рецепциям К. Маркса Ж. Бодрийяром, Б. Гройсом и Г. Дебором в их анализе формаций знаков (подделка, производство, симуляция) и формаций зрелища (театрализация сосредоточенная, рассредоточенная и включенная), а также функционирования культурного архива в контексте исторической новации (= транс-фигурации).
Методологическая основа исследования.
В диссертации используется сочетание методов структурно-
типологического анализа (прежде всего в том виде, в каком он
представлен археологией знания М. Фуко и политической
семиологией Р. Барта) и анализа диахронической динамики семио-
марксизмом (как он представлен в работах Ж. Бодрийяра, Б. Гройса,
Г. Дебора, М. К. Петрова, М. Сюриа); привлекаются также
историко-компаративный подход, психоаналитическое
рассмотрение символического (Ж. Лакан, работы Люблянской школы теоретического психоанализа) и медиа-теория (Ж. Бодрийяр, М. Маклюэн, Хаким-Бей и др.).
Научная новизна исследования.
Новизна состоит (1) в применении к анализу террора методик, являющихся в значительной степени маргинальными для отечественной традиции рассмотрения террора, существенно инфицированной социологизмом позитивистского толка: предпочтение отдается таким языкам описания, как культурная антропология, семиология, психоанализ, неомарксизм, которые сумели доказать свой эвристический потенциал в работах Ж. Агамбена, С. Бак-Морс, Ж. Бодрийяра, П. Вирильо, Б. Гройса, С. Жижека и др.; (2) в попытках проекции террора на широкие культурные массивы - от социо-политических до медийных и
историко-философских. Раскрытию подвергаются онтические и смысловые связи социального эксцесса и социальной гегемонии, прежде всего проявляющейся в господстве над символическими устройствами и позволяющими социализировать события насилия (насилия-как-событие), что, опять же, не характерно для отечественной социально-философской литературы. Положения, выносимые на защиту.
Террор не обладает субстанциальным статусом, но возникает в точке его символизации, будучи структурным эффектом между реальным насилием и тем символическим ресурсом, с помощью которого сообщество его де-реализует.
Базовой определенностью этих символизации является доминирующая модель обмена, определяемая через отношение к всеобщему эквиваленту, которая позволяет провести различие между имплозивными и взрывными стратегиями как двумя предельными полюсами дистрибуции насилия в социальном теле.
Определяющей операцией модернистской символизации следует считать эстетизацию политики, собирающую террористический Gesamtkunstwerk, который мыслится как синтез абсолютного знания и абсолютного действия, упраздняющий различие эксцесс/символизация (принимающее форму истина/история).
Постмодернистское состояние, понимаемое как «закат эры взрыва», переопределяет политическую определенность террора, замещая диалектическую логику - катастрофической.
Русская культура, выступив как «подсознание Запада», в ряде своих манифестаций может быть рассмотрена в качестве «остраняющей» инстанции по отношению к европейским
террорологикам: как в смысле «кривочтения» (misreading), так и в смысле радикализации.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Постановка и разработка проблемы террора, ее социально-философский анализ является необходимой ступенью в развитии теоретического аппарата социальной рефлексии, в философском осмыслении исторического процесса и общественных явлений. Теоретическая значимость исследования также состоит в попытке демонстрации тех концептуальных моделей, в которых возможна осмысленная и ответственная тематизация феномена террора в его проекции на исторически априорные стратегии обмена и социального кодирования. Практическая значимость исследования состоит в расширении нашего взгляда на террор как реальный факт современного общественного бытия, раскрытия его принципиальной интегрированности в культурогенные модели, характерные для постсовременного состояния социальности. Полицентрический (если угодно - голографический) взгляд на террор представляется существенно необходимым не только в контексте социально-философских штудий, но и в плане выработки прагматических реакций на социальный эксцесс. Положения и выводы диссертации могут быть использованы при составлении общих и специальных курсов по социальной философии и философии истории, философской антропологии и конфликтологии.
Апробация работы.
Отдельные положения диссертации обсуждались на теоретических конференциях «Философский век. История идей как методология гуманитарных исследований», «Революция и современность», «Человек. Природа. Общество. Актуальные
проблемы» (Петербург, 2001, 2002) и ряде других. Разрабатываемые в диссертации стратегии истолкования были использованы в курсе лекций по теории современного искусства, прочитанном в РХГИ в 2002-2003 г.
Структура работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка использованной отечественной и зарубежной литературы.
Обмен и жертва
Предлагая продумать возможное мифологическое измерение «террора» - то есть насилия определенным образом символизированного и, следовательно, апроприированного архаическим социальным телом, на примере которого может быть описана базовая матрица символизации эксцесса, следует сразу оговорить, что под «мифом» нами прежде всего понимается этиологическое повествование. Соответственно, в качестве «мифологических» могут быть обозначены сообщества, социальные позитивности которых предполагают этиологическое автоописание19. Кажется не столь существенным, будет ли специфичность подобного описания установлена: А) изнутри мифологического опыта, фиксируемого имманентно, с помощью тех или иных «техник вхождения» - от феноменологического описания, «опирающегося только на тот материал, который дает само мифологическое сознание» , до психоделического транса, позволяющего субъекту регрессировать к архаическим массивам мирочувствия21, или Б) отсылать к производящим этот опыт ритуальным практикам, - наиболее показательными в этом отношении кажутся тексты М. Элиаде, который пытался описать ритуальную регенерацию сакрального («обратимого») времени в перспективе изначальной антиисторичности коллективной памяти22. В том и другом случае речь идет о содержательном основании формального отличия повествовательных моделей. Для структурного анализа (К. Леви-Строссом - классических мифологических систем, Р. Бартом - современного «псевдофизиса»), напротив, существенным оказывается не предмет (= «сырой опыт» потребителя мифа), но способ сообщения, поскольку можно установить лишь «формальные границы мифа, субстанциальных же границ он не имеет»23. Сближать друг с другом эти стратегии истолкования нам позволяет то, что как феноменологическое описание «опыта», так и структурный анализ генеративной повествовательной модели, перестают рассматривать миф как потенциальный объект исторического дискурса прогрессивного («рентгеноскопия» Просвещения) или регрессивного (от Руссо - до экспрессионизма) толка. Не столько миф оказывается «современен», сколько исторический дискурс - мифологичен, поскольку наполняется той же стихией, что и опустошается: «На линии горизонта между началом и концом нет никакой дистанции: можно только сделать вид, что взятое за точку отсчета здесь соответствует «исторической действительности», а взятое за «новый органон» — к ней приближает». Этиологическое повествование описывает ритуальные «машины памяти», включая которые символические формации утилизуют эксцесс - тем самым учреждая социальность - вспышку насилия с его миметической волной. Сообщество выживает, то есть удерживает себя во времени, в силу наличия мнемонических устройств, не позволяющих пропасть той тревоге, которая была вчера (хотя и сохраняя ее всегда в неузнанной, превращенной форме): «Ритуалы всхлестывают нашу чувствительность, переводя ее в бытие культурной памяти, и благодаря этому живут человеческие чувства или то, что мы называем в человеке человеческим. Ибо сами по себе они не существуют, не длятся, их дление обусловлено наличием мифа, ритуала и пр. Человек есть искусственное существо, рождаемое не природой, а само-рождаемое через культурно изобретенные устройства, такие как ритуалы, мифы, магия и т. д., которые не есть представления о мире. Не являются теорией мира, а есть способ конструирования человека из природного, биологического материала» . Итак: архаический muthos описывает антропогенные устройства, являясь в психоаналитическом смысле «рационализацией», покрывающей - бессознательную по определению - инфраструктуру. Дополнительность психологического и культурологического описаний не кажется странной. Как показывает М. Фуко, этнографическая логика распечатывается на той же эпистемологической матрице, что и логика психоаналитическая: «архаическое», равно как и «бессознательное», выступают для модернистского дискурса тем «немыслимым», в отношении к которому мысль учреждает себя в своей позитивности . В частности, внимание культурной антропологии к архаическим стратегиям обмена было мотивировано желанием установить «иное» относительно рыночных обменных моделей, с одной стороны, гипостазированных новоевропейским «экономическим разумом», а с другой, напротив, негативным образом основанных на «внеэкономических» обменных моделях -их репрессия только и позволяет первым конституироваться.
Спираль власти (М. Фуко)
Спираль власти... Вопрос о ней - одновременно вопрос о «призраках секса», речь о которых аналогична речи Деррида о «призраках Маркса»: хотя жизнестроительный пафос так или иначе присущ любой философии, именно Маркс (согласно Деррида) делает его краеугольным камнем своего проекта. Но жизнь не есть то, чему можно научиться. Напротив, научиться ей можно лишь из чего-то самой жизни внешнего; и кто в таком случае может «научить жизни» - оставаясь внешним по отношению к ней? Учиться ей можно у смерти и у другого и, более радикально, у того другого, что «знает смерть». Кто этот другой? «Только тот, отвечает Деррида, кто уже умер (курсив мой. - Н. Г.), - призрак, уже умерший и, значит, не присутствующий в этой жизни другой. Сочетание внешней и внутренней границ жизни и смерти... это - призрак умершего другого. Проникая в нашу жизнь со стороны смерти, призрак присутствует в ней, не бытийствуя: он здесь, но он не существует. Важно однако, что это - другой, обнаруживающий себя в каких-то измерениях нашей жизни, являющихся одновременно гранями призрачного (не-) существования». Таким призраком, время которого всегда-уже-прошлое-будущее, является - благодаря усилиям его заклинателей - секс. Принимали его по-разному: от «сексуальной революции» (Маркузе) до «нет сексу-королю» (Фуко). А потом, кажется, - «сексуальность это монтаж» (Бодрийяр) - и вовсе перестали вызывать. Очевидно, что если призрак секса отказывается или же вовсе не способен что-либо внятное сказать о себе, то тем более внятно он говорит о нас -удачливых и неудачливых заклинателях. Первый призрак связан с «гипотезой подавления» сексуальности в новоевропейском сообществе. Реплика Фуко есть, как известно, анти-реплика по отношению ко всем проектам «освобождения желания», выдвинутых на волне неомарксистского (или — фрейдо-марксистского93, где «мастера подозрения» составили странный симбиоз) дискурса. В первом томе «Истории сексуальности» - своем программном антирепрессивном тексте (еще «История безумия», не говоря уже о «Введении» к Бинсвангеру, представляла собой по сути «археологию отчуждения» ) - Фуко не упоминает этих авторов впрямую, хотя именно они выступают тем «автоматизмом», «остранять» который призвана генеалогия секса: под прицелом оказывается весь (от концептуального до «идеологического») проект «критической теории», что требует ее хотя бы фрагментарного представления. Наиболее репрезентативными фигурами здесь можно считать Вильгельма Райха («Диалектический материализм и психоанализ», 1929; «Психология масс и фашизм», 1934) и Герберта Маркузе («Структура влечений и общество», 1969; «Эрос и цивилизация», 1955; «Одномерный человек», 1964). Показательна даже биографическая справка: «Вильгельм Райх - модернистский «ваятель образа мира» (Брехт) - в 1920 г. вступил в Венское психоаналитическое общество, а в 1927 г. - в общество помощи рабочим. В 1929 году он основывает Социалистическое общество консультации по сексуальным вопросам и сексологии, а в 1931 г. — немецкую ассоциацию Секпол, предназначенную для проведения в жизнь сексуальной политики пролетариата»95. Интересно, что Райх при всем своем пафосе (а может быть, именно благодаря ему) был исключен как из рядов Международной психоаналитической ассоциации, так и из рядов Коммунистической партии Германии -проект политического воздействия на сексуальность масс обеим организациям показался чересчур экстравагантным. Очертить «репрессивную» гипотезу взаимоотношений буржуазности и сексуальности означает, по сути, войти в контекст марксистских комментариев к «Недовольству культурой» - текст, через который этими авторами будут рассмотрены и «Тотем и табу», и «По ту сторону принципа удовольствия» . Марксистская претензия к психоанализу, намеренно «вульгарная», которую так или иначе воспроизводили все сторонники «репрессивной гипотезы», состояла в том, что последний, якобы, зависим от «идеологического» рассмотрения отношений между индивидом и обществом, пытаясь их объяснить на основе концепции «природы» изолированного человека. Фактически марксистская критика психоаналитического «натурализма» мало что добавила к гегелевской критике «общественного договора» (сквозной мотив — от «Системы нравственности» до «Философии права», 75 параграф которой посвящен этому специально97): для Гегеля государство вообще не есть договор, поскольку оно не может стать предметом такового. Если это отличие и имеет место, то состоит оно только в том, что «экономика сексуальности» изначально отказывается от пассивно-рецептивного описания, а потому перед ней встает проблема построения некого «промежуточного дискурса» — теории, которая была бы еще и практикой (одновременно революционной и психоаналитической).
Геополитика фантазма - между ландшафтом и территорией (М. Мамардашвили)
Поводом к разговору о том, какие тексто- и смысло-генетические конфигурации приобретает концептуальный мотив «Россия» в философии М. Мамардашвили, в значительной .мере послужила работа С. Агафонова «Позиция Чужого в текстах Мамардашвили»180, в которой была предпринята попытка анализа «травматического ядра» (как био-графического, так и собственно философского плана) организации дискурса философа. И хотя проводимый здесь разбор скорее полемичен по отношению к указанному тексту, искреннюю признательность автору я считаю необходимым высказать.
Для прояснения статуса геополитического фантазма - так мы предлагаем обозначить «травматическое ядро» философии Мамардашвили - следует предварительно фиксировать различие ландшафт/территория. Различие, представляющееся кардинальным: если ландшафт (в законченном виде - у позднего Хайдеггера, хотя и не только у него) рассматривается как то, что задает топологию мысли, держащейся своего места и постольку - у-местной, то территория, в противоположность этому, выступает для мысли препятствием как чем-то принципиально непроходимым. Другими словами, ландшафт объемлет мысль, позволяя ей состояться как событию, в то время как территория либо откладывает это событие во внешнем, либо фальсифицирует его изнутри: территориальный differance иррефлексивен, вследствие смещенного характера субъекта относительно интеллигибильности собственного содержания; а внутренняя фальсификация дискоммуникативна, поскольку рассыпает всю языковую эйдетику. Итак, территориальные языки и территориальные тела (и в этом их отличие от ландшафтных тел и ландшафтных языков, которые всегда могут быть прочитаны в терминах бытийного поэзиса) образуют разъем внутри связного дискурса, какой бы характер связи последний ни обнаруживал: в отношении территории-как-препятствия мысли невозможно высказываться предметно, но проблематичным в такой ситуации представляется и поэтическое высказывание, которому больше нечего собирать (legein).
Альтернативное описание «территориальной дистрибуции» — уже не когитального или дискурсивного, но физикалистского формата - может быть выполнено в терминах «первичной инъекции порядка». Под вопросом оказывается именно ее первичность, которая предполагает операцию приостановки индифферентного: «Бытие немыслимо без конституирующего его творческого акта изъятия или освобождения места (курсив мой. - Н. Г.). Если вдуматься, чего была лишена лишенность или материя, как ее понимали Платон и Аристотель, мы вдруг обнаружим, что прежде всего она была лишена различий. Ветхозаветный термин, применяемый для обозначения дотворческого состояния мира -«тоху-боху», означает, по сути дела, неразделенность воды и песка, а в переносном смысле - «ни то, ни се».