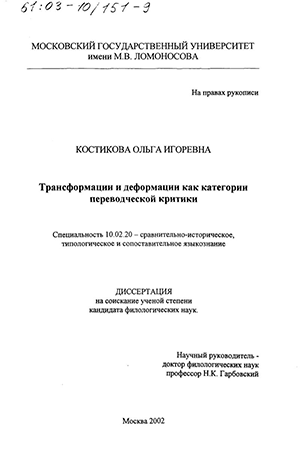Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Переводческая критика как раздел науки о переводе 10
1.1. История переводческой критики в истории учений о переводе 10
1.1.1. Начала переводческой критики 11
1.1.2. Ренессанс и переводческий скептицизм 13
1.1.3. Реформация: взаимодействие критики и перевода 23
1.1.4. "Неверные красавицы" и противоречивость суждений о переводе...25
1.1.5 ."Критические переводы" и опыт освоения "чужого" 30
1.1.6. Переводческая критика в России 40
1.1.7. XX век 45
Место переводческой критики в современной науке о переводе и литературоведении 4&
Выводы по главе 1 58
ГЛАВА II. Семиотические основания теории переводческой критики ...61
Перевод как интерпретирующая система 61
Перевод. К определению понятия 61
Перевод с точки зрения семиотики 68
Эквивалентность, адекватность и переводческие преобразования как основные категории теории переводческой критики 77
11.3. Переводческая концепция как объект переводческой критики 113
4 Интерпретация как основа деятельности переводчика и критика 128
Выводы по главе II 131
ГЛАВА III Переводческие преобразования: трансформации и деформации (На материале переводов романа Достоевского "Преступление и наказание" на французский язык 134
Логические основания типологии переводческих трансформаций 134
Деформирующие тенденции французских переводов 137
К истории переводов Достоевского во Франции 141
Типология переводческих деформаций 159
Деформация системы смыслов как переводческая стратегия 159
4.2. Деформация системы смыслов как немотивированная трансформация 167
4.3. Деформация структуры текста 171
Выводы по главе III 189
Заключение 192
Библиография
- Ренессанс и переводческий скептицизм
- ."Критические переводы" и опыт освоения "чужого"
- Эквивалентность, адекватность и переводческие преобразования как основные категории теории переводческой критики
- Типология переводческих деформаций
Ренессанс и переводческий скептицизм
В целом, критерии оценки перевода зависели от функциональных характеристик оригинала и то, что приветствовалось при переводе медицинских трудов (например, использование греческих и латинских терминов), осуждалось в поэтическом переводе.
Таким образом, "если в средние века мысль ученых и переводчиков занимал вопрос о способе, каким лучше переводить, но сама возможность удовлетворительного результата их работы не вызывала сомнений, то начиная с эпохи Возрождения такие сомнения возникают" [Федоров, 1983, с. 26]. Среди теоретических трудов этой эпохи, ставших серьезными вехами на пути критического осмысления переводческой деятельности особый интерес представляют работы Л. Бруни и Ж. дю Белле.
Поводом для выхода в свет критического трактата канцлера флорентийской республики Леонардо Бруни "De interpretatione recta" (Об искусном переводе, 1420 г.) послужили неверные переводы с греческого на латинский. Имея возможность читать древнегреческих авторов в подлиннике и сравнивать их тексты с текстами переводов, Бруни обнаружил множество неточностей и искажений в латинских переводах, в частности, в переводах трудов Платона и Аристотеля. Анализируя их, итальянский критик впервые пытается рассмотреть проблему верности и буквализма "с научных позиций", обращая внимание на лексические и стилистические аспекты перевода [Королева, с. 16-19; Ballard, с. 123-124].
Именно в трактате Бруни можно найти первую стройную типологию переводческих ошибок. Автор, в частности, замечает, что "изъяны переводчика состоят... или в плохом понимании того, что следует перевести, или в скверном его изложении, или же в представлении не точным, не изящным и беспорядочным того, что первым автором было изложено точным и изысканным образом" [пер. Королевой Т.Л.].
Трудности понимания, по мнению Бруни, составляют фразеологизмы, паронимы и синонимы (в частности, слова с одинаковым значением, но разной коннотацией), слова с переносным значением, а также "крылатые выражения" и цитаты (то, есть, "интертекст"). Среди ошибок, возникающих в процессе воссоздания текста на языке перевода, автор трактата приводит злоупотребление неологизмами, незнание оттенков значений синонимов, нарушение "гармонии текста" и т.д. Причины этих изъянов Бруни видит в недостаточной образованности переводчика и в отсутствии у него литературного таланта.
Таким образом, в трактате Бруни прослеживается попытка представить перевод как деятельность состоящую из двух этапов: 1) понимание исходного текста (герменевтический этап); 2) порождение нового текста (этап реконструкции). Анализируя переводы, итальянский критик не только перечисляет переводческие промахи, но и пытается объяснить их причины, составляя на основе своих наблюдений типологию основных ошибок при переводе.
Через сто лет после Бруни французский поэт Жоашен Дю Белле резко критикует "предателей-перелагателей", ставя под сомнение саму возможность художественного перевода.
Дю Белле принадлежал к "Плеяде" - поэтической школе, ознаменовавшей оформление идеала национального искусства во Франции. В трактате "Defense et illustration de la langue fran oise" (Защита и прославление французского языка 1549), значение которого выходит за пределы литературной теории, отражая эстетическую концепцию как самого автора, так и целой эпохи в истории французской культуры, Дю Белле формулирует свое видение задач, стоящих перед литературной общественностью Франции - создание значимой поэзии, способной возвеличить страну и дать образцы, равные лучшим творениям античной словесности и литературы Италии.
Собственно перевод в этом деле поэт считает "занятием бесполезным и даже вредным", поскольку "каждый язык имеет нечто свойственное только ему" и "невозможно передать все это с той же грацией,... соблюдая законы перевода". Скептические рассуждения Дю Белле перерастают в критику переводчиков, которые, во-первых, "предают авторов, лишая их славы" и тем самым "обманывают несведущего читателя"; во-вторых, "берутся переводить с любого языка, не зная даже самых его основ"; и в-третьих, переводя поэтов, не могут передать "той энергии и некой мудрости, заключенной в их писаниях, которая называлась римлянами "genius", создавая "принужденные, холодные, лишенные грации" тексты. Отрицая роль переводов в деле становления французского языка и возвеличивания национальной поэзии, Дю Белле выступает сторонником подражания античным авторам, но предостерегает поэтов от поверхностного восприятия оригинала. Успех подражания напрямую зависит от эрудиции поэта, от того, насколько выбранный образец "согласуется с его натурой" и от его способности к перевоплощению.
."Критические переводы" и опыт освоения "чужого"
В России традиции переводческой критики существуют с XVIII века. Так, Тредиаковский критиковал стиль переводов Сумарокова, а в рассуждениях Карамзина изящность стиля уже становится основным аргументом, влияющим на положительную оценку переводов. В начале XIX в. разгорается жаркая дискуссия по поводу русских переложений баллады Бюргера "Ленора", сделанных Жуковским и Катениным. Спор велся вокруг категории "народности". Критика этих переводов способствовала формированию переводческой концепции Жуковского, выразившейся в его поздних переводах, в частности поэзии Гомера. Критику переводов можно обнаружить в работах Бестужева, Белинского, Тургенева, Дружинина, Короленко, Брюсова и многих других русских писателей и поэтов.
Переводная литература оказалась неотъемлемой частью русской национальной литературы благодаря тому, что многие русские писатели, рассматривавшие перевод как важное средство формирования писательского таланта, регулярно переводили произведения европейских авторов.
Проблемы художественного перевода нашли свое отражение как на практике, т.е. в самих переводах, так и в критических суждениях о них, которые постепенно складывались в теорию. Среди высказываний русских писателей XVIII века о переводе большое место занимают рассуждения о собственных переводческих опытах, в которых дается обоснование принципа и метода передачи подлинника см. напр. высказывания А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского в кн.: Русские писатели о переводе].
Интересное отношение к переводу прослеживается в творчестве русских поэтов XVIII века. Оно находит свое выражение в форме "переводческих состязаний" между поэтами, когда один и тот же подлинник одновременно переводится двумя-тремя поэтами, и потом переводы публикуются вместе.
Основная трудность, с которой сталкивались русские переводчики XVIII века была связана с невыработанностью норм литературного языка того времени. Это явление,которое в разные эпохи было свойственно всем европейским языкам, в каждой стране имело свою специфику. В России оно было связано с существованием "трех штилей" - высокого, среднего и низкого, каждый из которых был закреплен за определенной сферой литературы, за отдельными жанрами.
К концу XVIII - началу XIX века грани между стилями все более стираются и процесс становления литературного языка происходит все интенсивнее. К этому периоду относится деятельность Карамзина, оставившего значительный след в области перевода. Литературная деятельность Карамзина тесно связана с переводческой критикой. В его разборах и замечаниях о переводе слово "критиковать" часто употребляется в смысле "указывать на недостатки". Цитата из рецензии на перевод комедии Коллена д Арлевиля в полной мере отражает концепцию Карамзина-критика: "Что принадлежит до перевода пиесы, то он чист и гладок. Только немногие выражения покритиковать можно"[цит. по: Русские писатели о переводе, с. 75]. В оценках переводов Карамзиным важную роль играет тип оригинала: нехудожественный / художественный текст —» поэзия / проза —» роман / пьеса. Для нехудожественных текстов важным является точность особенно при передаче терминов. Основной критерий удачного перевода художественного текста - ясность и гладкость и чистота слога (в частности, отказ от злоупотребеления славянизмами, относящимися, к "высокому штилю"). Красота стиля - основное положительное качество, которое писатель отмечает и которым он дорожит при критических разборах переводов. Скорее всего такое внимание к стилю объясняется еще одним аспектом деятельности Карамзина на литературном поприще - реформой языка повествовательной и журнальной прозы. Перечень переводческих недочетов занимает основное место в рецензиях Карамзина. Если попытаться сделать типологию этих недочетов, то они могут быть сведены к традиционным пропускам, искажениям и добавлениям. Последние можно условно разделить на две группы: а) добавления, сообщающие новую, по сравнению с оригиналом информацию и б) добавления, не несущие никакой новой информации (критик называет их подставными словами).
Эквивалентность, адекватность и переводческие преобразования как основные категории теории переводческой критики
Таким образом, оказывается, что совокупность мировоззренческих представлений, свойственных носителям какого-то определенного языка, оказывается чуждой и непонятной для носителей другого языка, чьи отношения с миром выглядят иначе. Получается, что взаимное непонимание между людьми является нормой, что перевод теоретически невозможен, а люди, говорящие на нескольких языках страдают шизофренией.
Длительная история перевода противоречит таким выводам. Сегодня, пожалуй, никто не сомневается в том, что любой из современных языков способен выразить, описать, любой фрагмент реальной действительности. Р.Якобсон рассматривал заявления о "непереводимости", которые время от времени провозглашаются скептиками, как попытки однозначного решения множества запутанных проблем теории и практики перевода. "Весь познавательный опыт и его классификацию, - утверждал он, - можно выразить на любом существующем языке" [Якобсон, 364].
Но никто не сомневается и в том, что отражают действительность языки по-разному, асимметрично. Когда в переводе языки оказываются в контакте, когда при описании какого-либо фрагмента действительности значения одного языка с необходимостью определяются через значения другого, асимметрия проявляется наиболее отчетливо. Мы обнаруживаем, что языки по-разному членят действительность, различно описывают одни и те же явления и предметы, обращая внимание на разные их признаки. Люди разных культур по-разному выражают радость и отчаяние, любовь и ненависть, для них по-разному течет время, по-разному мир "звучит" и окрашивается в цвета. У одних есть предметы, отсутствующие у других, одни до сих пор активно используют то, что уже давно вышло из употребления у других. Но люди иных культур и иного языкового сознания способны понять эти различия. Поэтому, если рассматривать перевод только как способ описания той же самой действительности средствами иного языка, то проблема перевода оказывается довольно легко решаемой, и вопрос о "переводимости" не возникает.
Но перевод - это перевыражение. Если всякое речевое произведение представляет собой, в известном смысле, материальное оформление отражения фрагмента действительности сознанием индивида, то перевод является отражением отражения. Он отражает фрагмент действительности не непосредственно, а как уже осмысленный сознанием Другого, ведь, переводим мы не описание факта, а мысль о факте. Насколько точно можно и нужно передавать мысли Другого в переводе, где предел переводческой "верности", когда перевод становится "предательством"?
Собственно сопоставление перевода и оригинала и анализ результатов переводческой деятельности может проводится с точки зрения разных подходов, (в рамках лингвистики текста, прагматики, стилистики и т.д.). Мы избрали семиологический подход, считая что переводчик имеет дело со знаками, поэтому обратимся к основным понятиям семиологии, необходимым для анализа переводческой деятельности с этой точки зрения. То, что в понятии знака сосредоточены главные свойства естественного языка, первым из лингвистов отчетливо сформулировал Ф. де Соссюр.
Понятие (языкового) знака было введено Ч.Пирсом. Упорядочение теоретических основ и методов семиотики связано с именем другого американского ученого Ч.-У. Морриса. В учениях американских лингвистов языковой знак понимается как некая материально-идеальная двусторонняя сущность, обладающая планом выражения, т.е. означающим и планом содержания, т.е. означаемым.
Эти стороны имеют социальную природу, хранясь в памяти каждого человека. Для членов некого языкового коллектива знак обладает, в основном, одним и тем же устойчивым значением, но при этом каждый человек владеет своим языком в разной степени, а потому и может связывать со значением отдельных знаков какие-то собственные представления. Степень и особенности знания и владения языком отдельного человека характеризуют его идиолект. Социальная природа языкового знака позволяет использовать язык как средство коммуникации.
Основная классификация знаков проведена по характеру связи между означающим и означаемым. Ч. Пирс выделил: а) иконические б) индексальные в) конвенциональные знаки. Но на самом деле четкой границы между ними нет и "знак-символ может содержать в себе знак-икону и/или знак-индекс, а "самые совершенные из знаков - те, в которых иконические, индексальные и символические черты перемешаны по возможности равным образом" [цит. по: Якобсон, 1996, с. 168-169]. Типология знаков может быть проведена и по уровням языка. В этом случае среди значимых двусторонних знаков минимальным будет морфема, а максимальным - сложные синтаксические структуры [см.: Кобозева].
Типология переводческих деформаций
Если же обратиться к таким ситуациям общения, когда речевое произведение на одном языке изначально предполагает его перевод на другой, например, во время двусторонних переговоров, или на другие, на конференциях, многосторонних совещаниях и т.п., то текст перевода, несомненно, оказывается функционально "лучше" исходного текста. Кроме того, в результате перевода рождается новое речевое произведение, лишь косвенно соответствующее оригиналу. В этом случае речь идет о трансформации как об обновлении.
Совсем иное значение имеет латинское слово deformatio. Эта лексема соответствует в латинском языке двум омонимам. Первый означает "обезображивание", "искажение", "унижение", "умаление", а второй - "придание вида, формы", "формирование", "обрисовывание, очерчивание". Отрицательная коннотация первого из этих омонимов очевидна. В некоторых современных языках, заимствовавших латинскую лексему, закрепились значения именно первого омонима. Во французском языке слову deformation (деформация), определяемому в его абстрактном значении как ухудшающее изменение, порча (alteration), подлог, фальсификация, в качестве синонимов соответствуют слова "искажение", "обезображивание", "уродование" (defiguration).
Интересно, что в русском языке, слово "деформация", также заимствованное из латыни, внешне предстает как нейтральное, лишенное какой-либо коннотации, о чем свидетельствует приведенное выше словарное определение. Но в языковом сознании оно прочно связывается с разрушительными процессами, ухудшающими состояние вещи.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 1) эти слова обозначают процессы по преобразованию, изменению формы и вида первоначального, оригинального объекта; 2) значения этих слов противопоставляются по признаку "положительный", "отрицательный", т.е. трансформации - это положительные, развивающие изменения, преображающие состояние объекта, а деформации - отрицательные, пагубные преобразования, обезображивающие, уродующие первоначальный объект. Иными словами, эти термины имеют общую семантическую составляющую, тогда как их прагматическое значение различно.
Что нового могут дать эти два аспекта для теории переводческой критики? Обратимся к переводоведению и посмотрим, как там трактуется понятие "преобразования". Начнем с рассмотрения термина "трансформация", в самом общем смысле в значении "преобразование объекта", не принимая во внимание его прагматическую составляющую (хорошо/плохо). При использовании этого термина как категории теории перевода существенным представляется тезис о том, что в процессе перевода не происходит никакого преобразования объекта в том смысле, что преобразование предполагает уничтожение первичного состояния (формы) объекта и их замену новыми. Объект же (исходный текст) продолжает благополучно существовать, не претерпевая никаких изменений. В результате перевода возникает новый объект, в большей или меньшей степени напоминающий первый и существующий параллельно с ним. В связи с этим важно понять, что именно преобразуется в процессе перевода, и к чему применим термин "трансформация".
Заимствованный из генеративной лингвистики и получивший широкое распространение в современной теории перевода термин "трансформация" имеет неоднозначную трактовку. А.Д. Швейцер, в частности, определяет его как 1) отношение между исходными и конечными языковыми выражениями; 2) замена в процессе перевода одной формы выражения другой (называя ее образно "превращение"); 3) межъязыковая операция перевыражения смысла. [Швейцер, 1988, 118]. То есть трансформация, таким образом предстает в трех ипостасях: отношения между единицами двух языков; межъязыковых операций и процесса перевода как такового. А.Попович трактует трансформацию как "модификацию языка, стиля оригинала" при "реализации инвариантного ядра в процессе перевода" для "создания определенной степени эквивалентности". [Попович, 195]. Таким образом, в трактовке ученого "трансформация" также связана с операциями (1), происходящими в процессе перевода (2) и с отношением перевода как результата (3) этих операций к оригиналу.
В этой связи важно вспомнить, что и сам термин перевод определяется двояко: во-первых, как процесс, в ходе которого на основе исходного текста на языке 1 возникает новый текст на языке 2, и во, вторых, как результат этого процесса, т.е. сам переводной текст. [Комиссаров, Швейцер и т.д.].