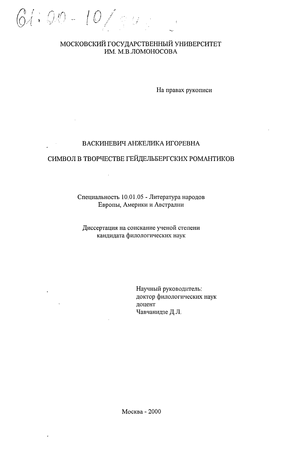Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Соотношение категорий "символ", "аллегория", "миф" в немецкой эстетике начала XIX века (формирование основных теоретических концептов к 1810-1812 гг., их истоки и непосредственное влияние) 15
Глава 2. Символ в романтической поэтике периода зрелого гейдельбергского романтизма 1808-1812 гг 38
1. Символ розы: основной символ поэтического эпоса "Романсы о Розарии" К.Брентано 39
2. Пояснение первое. Символы Розы и Авроры: женский образ как символический репрезентант 50
3. Пояснение второе. Идея становления и конструирование образа в гейдельбергском романтизме: столкновение смысловых вариантов 54
4. Символ кольца: центральный символ романа А. фон Арнима "Графиня Долорес" 77
5. Пояснение третье. Идея искусства и образ художника в творчестве гейдельбергских романтиков 92
6. Пояснение четвертое. Проблема интерпретации: постановка вопроса в текстах зрелого гейдельбергского романтизма 105
7. Символы леса и сада. Сад как центральный символ романа Й. фон Эйхендорфа "Предчувствие и действительность" 108
Заключение 119
Примечания 126
Библиография 146
- Пояснение первое. Символы Розы и Авроры: женский образ как символический репрезентант
- Пояснение второе. Идея становления и конструирование образа в гейдельбергском романтизме: столкновение смысловых вариантов
- Пояснение третье. Идея искусства и образ художника в творчестве гейдельбергских романтиков
- Пояснение четвертое. Проблема интерпретации: постановка вопроса в текстах зрелого гейдельбергского романтизма
Введение к работе
В связи с известной терминологической неопределенностью и неоднородностью употребляемых понятий 'символ' и 'гейдельбергский романтизм', необходимо их уточнение. Если установить понятие гейдельбергского романтизма можно путем обозначения условных временных рамок и круга авторов, то для прояснения смысла, вкладываемого в понятие символа, потребуется рассмотрение даного понятия в контексте эпохи романтизма, его употребления в текстах теоретической эстетики гейдельбергского периода и в современных литературоведческих работах, этого периода касающихся.
1. Зрелый гейдельбергский романтизм как хронологический период и эстетическое единство.
Понятие гейдельбергского романтизма в истории литературы употребляется широко, но неоднородно, оно колеблется от самого узкого и наиболее признанного значения деятельности Арнима и Брентано в области собирания народной поэзии (издание "Волшебного рога мальчика" в 1806-1808 гг., в 3-х томах) до синонимичного младшему поколению романтиков (jimgere Romantik), пришедшему на смену старшему поколению йенских романтиков (altere Romantik), и расцвету романтизма в целом (Hochromantik). Соответственно колеблется и причисление тех или иных авторов к гейдельбергскому романтизму. Вне сомнения относят к нему Арнима и Брентано, далее братьев Гримм - в связи с собиранием памятников народного творчества и/или гейдельбергский академический круг, в первую очередь И.Гёрреса и Ф.Кройцера. Й.Эйхендорфа относят либо к гейдельбергскому, либо к позднему романтизму.1
Как локальное единство гейдельбергский романтизм просуществовал недолго. Важной предпосылкой для формирования новой школы явилось, как известно, духовное возрождение Гейдельбергского университета, начавшееся в 1803 году. Возникновение и становление гейдельбергского романтизма связано во многом с академическим движением в этом университете, в первую очередь с деятельностью Ф.Кройцера и И.Гёрреса. К.Брентано и А.фон Арним, знакомые еще с 1801 г., были связаны с представителями академического круга общими интересами и личными отношениями. Ф.Кройцер был профессором Гейдельбергского университета с 1804 г., в этом же году в Гейдельберг переехал сам К.Брентано, в 1805 - А. фон Арним, в 1806 - Й.Гёррес, получивший в университете место доцента. Основная деятельность представителей романтической школы в Гейдельберге связана с идеями возрождения национальной старины. Центральная роль в формировании гейдельбергского кружка как культурного и эстетического единства принадлежит К.Брентано. Под влиянием Брентано начались германистические штудии Якоба и Вильгельма Гриммов. Савиньи, основатель исторической школы права, был связан не только личными отношениями с Брентано, но и с идеями гейдельбергского кружка учением об органическом развитии "духа народа". Й.Гёррес также участвовал в возрождении национальной старины и опубликовал в 1807 г. статью "Народные книги". Известна широкая полемика, разгоревшаяся вокруг сборника "Волшебный рог мальчика" (1806-1808). В 1807 г. в Гейдельберг приезжает Й.фон Эйхендорф, посещает лекции Гёрреса,
завязывает с ним личное знакомство. Был ли Эйхендорф лично знаком с Брентано в Гейдельберге, неясно.2 Позже в части мемуаров "Галле и Гейдельберг" (1857) Эйхендорф опишет свои впечатления от атмосферы, царившей в Гейдельберге того времени, называя среди важнейших фигур Гёрреса, Кройцера, Арнима и Брентано. В 1807 г. выходит сатира "Чудесная история Богса, часовщика" - продукт совместного творчества Брентано и Гёрреса; в 1808 г. - печатный орган гейдельбергской школы "Газета для отшельников" (Zeitung fur Einsiedler), издаваемая А.фон Арнимом при участии Брентано, Гёрреса, Тика, братьев Гримм, Ф. и А.В. Шлегелей, Фуке, Уланда. На 1808 г. приходится и завершение работы над "Волшебным рогом мальчика", публикация второго и третьего томов сборника. В этом же году гейдельбергский кружок как локальное единство практически прекращает свое существование.3
Локальное определение гейдельбергского романтизма вполне возможно и обосновано, и как узкое значение данного понятия приемлемо. Характерна осуществляемая романтиками поэтизация города, восприятие руин гейдельбергского замка как романтического ландшафта.4 По мнению Эйхендорфа, "Гейдельберг сам являет великолепие романтизма" (Heidelberg ist selbst eine prachtige Romantik).5 Однако узкое "локальное окрашивание, которому способствует этикетка "Гейдельберг" вводит в заблуждение"6, поскольку "движение имеет уходящую на годы назад предысторию и еще более длинный эпилог. [...] Под его влияние попадали умы, которые оставались вне Гейдельберга или прибыли туда гораздо позднее. Это место было эпицентром культурного землетрясения, волны которого распространялись далеко за пределы данного региона." В связи с этим принято и более широкое значение понятия 'гейдельбергский романтизм'. Достаточно часто встречается упоминание Гейдельберга как одного из центров второго этапа романтизма наряду с Галле, Дрезденом, Мюнхеном, Марбургом, Веной. При этом Гейдельберг признают основным центром зрелого романтизма, поскольку именно там происходит его становление и оформление: "Гейдельберг был центром, в котором обрела единство новая фаза развития романтизма."8
Становление и отграничение гейдельбергского романтизма как понятия связано во многом и с его противостоянием классицистскому движению в университете. С целью совместной работы над обработкой "Песни о Нибелунгах", "Парцифаля" и других памятников старонемецкой поэзии Брентано пытался в 1804 г. уговорить Л.Тика переехать в Гейдельберг, ходатайствуя через Кройцера и Савиньи о предоставлении ему места профессора в университете. Отказ Тика имел для гейдельбержского кружка свои последствия - вакантное место профессора было предоставлено Й.Г.Фоссу, приехавшему в Гейдельберг в 1805 г. и составившему оппозицию романтическому движению. Полемика Фосса с романтиками началась еще в ранний период (неодобрительная рецензия Фосса на "Волшебный рог мальчика") и продолжалась вплоть до 20-х годов XIX века. Следы спора между гейдельбергским романтизмом и классицизмом отразились, в частности, в романе Арнима "Графиня Долорес".
На этапе 1808-1812 гг. локальное единство - концентрирование вокруг города Гейдельберг и гейдельбергского университета - практически утеряно, однако как эстетическое единство гейдельбергский романтизм выражает себя наиболее полно именно в эти годы. Гейдельбергский кружок явился
фундаментом, на котором строятся теории Гёрреса и Кройцера, и почвой, из которой вырастают художественные творения Арнима, Брентано и Эйхендорфа. Ранний и зрелый периоды гейдельбергского романтизма тесно взаимосвязаны. Для Арнима и Брентано мирочувствование периода 1808-1812 гг. было, несомненно, во многом подготовлено их ранним периодом - собиранием материала и изданием "Волшебного рога мальчика", обращением к коллективному сознанию, народному творчеству, католической образности.
Наиболее серьезная попытка обоснования понятия 'гейдельбергский романтизм' как эстетического единства принадлежит В.М.Жирмунскому.9 Он отмечает, что кружок гейдельбергских романтиков, образовавшийся вокруг Брентано и Арнима, занимает промежуточное положение между ранним и поздним романтизмом. Если в начале своей деятельности Арним и Брентано являются во многом учениками и эпигонами ранних романтиков10, то в их последующем самостоятельном развитии совершается отречение от чувства жизни, присущего раннему романтизму. Существенным становится сознание реальности зла, греха, страдания в мире, не свойственное не только раннему романтизму, но и предшествующему XVIII веку, Гёте и течению бури и натиска. Это сознание приводит постепенно к внутренне необходимому отречению от идеалов раннего романтизма, от индивидуалистической мистики и философского гностицизма йенской поры, к возвращению к традиционным католическим ценностям. Общее жизнечувствование, а соответственно, и общность тематики, определяет и эстетическое единство писателей гейдельбергского кружка. Годы 1809-1811, проведенные Брентано и Арнимом в совместной жизни и общей работе в Берлине, посвящены поэтическим произведениям, характерным для трагедии отречения; в истории позднего романтизма эти годы имеют такое же значение, как 1799 - 1800 гг. для нового религиозного чувства йенского кружка. Эйхендорф посещает Арнима и Брентано в Берлине в феврале 1810 г., под влиянием "Романсов о Розарии"11 Брентано и в еще большей степени романа Арнима "Графиня Долорес" он приступает к роману "Предчувствие и действительность", близкому гейдельбергскому кружку по поэтическому мироощущению. Характерно проявление общих тенденций не только в творчестве, но и в судьбе представителей гейдельбергского романтизма. И.Гёррес, связанный в пору пребывания в Гейдельберге с Брентано личной дружбой и участвовавший в возрождении национальной старины, впоследствии проделает, как и Брентано, путь возвращения к католичеству. В.М.Жирмунский обращает внимание на то, что религиозное развитие Ф.Шлегеля и Ф.В.И.Шеллинга приводит и их к идеям (осознание проблемы зла, отрицание пантеизма), сближающим с мировоззрением гейдельбергских романтиков. Эта тенденция проявляется в работе Ф.Шлегеля "О языке и мудрости индийцев", написанной в год его перехода в католичество (1808), в исследовании Шеллинга "О сущности человеческой свободы и связанных с ней представлениях" (1809). В эти годы представители раннего романтизма теоретически приходят к постановке тех же проблем, которые дают импульс поэтическому творчеству гейдельбергских романтиков.
Понимание идей гейдельбергского романтизма, в том числе религиозного обращения писателей данного круга как результата внутреннего развития романтизма, содержащееся в концепции Жирмунского, утверждается и в современном немецкоязычном литературоведении, например, в работе
К.Петера.12 Соответственно "духу времени" меняется не только мировоззрение, но и эстетическая концепция внутри романтизма. Критика абсолютизированного эстетизма присутствует не только у Арнима, Брентано, Эйхендорфа, но и у Ф.Шлегеля, который в 1808 году отрекается от эстетизма своих ранних лет, осуждая его как "пустую игру с формой (Formenspielerei)", "недостойную большого времени и ему неподобающую".13 В это время осуществляется переход от эстетики автономности к результативной эстетике (von der Autonomie- zur Zweckasthetik)14, отрицание имманентной значимости художественного произведения и утверждение оценки его значимости в рамках религиозной концепции.
Представляется целесообразным, не нарушая сложившейся терминологии, но несколько уточняя ее, говорить далее о годах 1808-1812 как об этапе зрелого гейдельбергского романтизма, принимая во внимание наличие раннего этапа 1804-1808 гг. с локализацией вокруг Гейдельбергского университета и превалированием интереса к народной поэзии (к народному творчеству и сознанию; католической образности). Зрелый гейдельбергский романтизм вбирает в себя как теорию и творчество представителей сформировавшегося на раннем этапе гейдельбергского кружка, к данному времени утратившего локальное единство, так и концептуально близкие работы этих лет Ф.Шлегеля, Ф.В.Й.Шеллинга и находившееся под его влиянием творчество И.фон Эйхендорфа. Основными значимыми ориентирами являются: 1808 г. - "О темной стороне естественных наук" Г.Г.Шуберта; 1809 г. - "Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах" Ф.В.Й.Шеллинга; наиболее интенсивный период работы над "Романсами о Розарии" К.Брентано (-1812, неоконч.), сборник новелл Арнима "Зимний сад"; 1810 г. - "Мифология азиатского мира" Й.Гёрреса; "Символика и мифология древних народов, в особенности греков" Ф.Кройцера (-1812); роман А.фон Арнима "Бедность, богатство, прегрешение и покаяние графини Долорес"; начало работы над романом "Предчувствие и действительность" Й.фон Эйхендорфа (законч. 1812, опубл. 1815). В данном исследовании будут рассмотрены поэтический эпос К.Брентано "Романсы о Розарии", романы Афон Арнима "Бедность, богатство, прегрешение и покаяние графини Долорес" и И.фон Эйхендорфа "Предчувствие и действительность".
2. Освещение проблемы символа в период зрелого гейдельбергского романтизма в критической литературе.
Проблема символа в эстетике и поэтике зрелого гейдельбергского романтизма с точки зрения общетеоретической (а не только в аспекте интерпретации конкретной символики) практически не затрагивалась по отношению к стихотворному эпосу Брентано "Романсы о Розарии", зато неоднократно возникала в отношении прозы Арнима и Эйхендорфа, в особенности романов "Графиня Долорес" и "Предчувствие и действительность". Тем не менее данная проблема остается не до конца разрешенной.
Одной из тенденций, характерных для работ, касающихся поэтики гейдельбергского романтизма, является сложившееся еще в довоенные годы, но проявляющееся до настоящего времени, противопоставление "классического символа" и "романтической аллегории". Это противопоставление заложено работами В.Беньямина и Ф.Штриха. В.Беньямин в книге "Происхождение
немецкой трагедии" указывает на аллегорический характер барочного искусства и символический характер искусства классицизма; негативно оценивая попытку романтического переосмысления символа, приведшую, по мнению автора, к терминологической путанице, указывает на двойственность позиции Кроицера в определении символа и на близость идей романтической эстетики символа к принципам барочной аллегории.15 Ф.Штрих в докладе "Символ в поэзии" проводит разграничение между понятием "символизма", указывая на свойственное представителям французского символизма, в частности Верлену, использование суггестивных средств создания настроения и "внутреннего душевного ландшафта", и классическим понятием "символа" у Гёте как репрезентации общего в частном, прафеномена в феномене. Творчеству Гёте, основанному на его "символическом миросозерцании", в котором значение совпадает с бытием, автор противопоставляет аллегорический характер романтического творчества (на примере Эйхендорфа), коренящийся в мировоззрении, основанном на христианско-дуалистическом восприятии мира, ведущем к разрыву между феноменальным и прафеноменальным миром и порождающем механизм зашифровки-расшифровки мира и значения. 1б
С 50-х годов XX века все больше проявляется тенденция понимания эстетики периода зрелого гейдельбергского романтизма как символической, по отношению к поэтике данного периода вводится понятие формулообразования.
Основные работы, посвященные исследованию романа Арнима "Графиня Долорес", появившиеся в конце 1950-х гг., хотя и отмечают различие символа у Гёте и у Арнима, широко употребляют по отношению к поэтике последнего
именно понятие символа. Г.Фурман посвящает символике романа отдельную главку, обращая внимание на символы дворца и замка, конструирующие пространственно-временную структуру романа, предметные символы (гранат, кольцо и т.п.), эмблематические символы (Sinnbilder) - виньетки к частям романа, символические памятники, символические сны и видения, символические картины природы, символические события (пожар дворца, потеря кольца), символику имен, числовую символику. Символическое значение задается Арнимом либо прямо (пояснение в тексте), либо косвенно (должно быть установлено читателем из всего контекста романа). Фурманн проводит сравнение романа Арнима с романом Гёте "Избирательное сродство" и устанавливает различие их символического метода именно на основе допущения Арнимом прямого комментария в тексте: предмет либо событие в этом случае не является (ist) символическим, а становится (wird) им благодаря последующему пояснению. Позиция Э.-Л.Офермапса1* менее однородна. С одной стороны, он поддерживает тезис о различии классического символа Гёте (слияние идеи и явления) и романтической аллегории, основанной на дуалистическом миросозерцании, где мир является шифром (Schiffrenschrift) божественной идеи; с другой стороны, в работе доказывается стремление Арнима к выходу за рамки дуалистической системы, конструирование синтеза на основе христианского понятия спасения (Erlosung); намекающие на возможность данного синтеза явления имеют "символически пророческий" характер. Оферманс постоянно говорит о 'символике' романа, анализируя символы дворца и замка утверждает "не просто аллегорическое, но сущностное отождествление персонажа, строения и временной тенденции" и т.п. Отдав дань тезису о различии классического символа и романтической аллегории, автор работы далее указывает на два типа символического (курсив мой, А.В.)
изображения в романе Арнима. Первый применяется для описания "нового времени" и его героев, это "пребывающая в чистой имманентности" репрезентация общего через единое с ним частное, - характерно, что именно этот "поверхностностныи" уровень символизации сравнивается исследователем с гётевским понятием символа; второй используется для изображения "мифической основы мира", "правремени", трансцендируя реальное явление к его праоснове. Если символы, относящиеся к первому типу, могут быть поняты сами из себя в своей единичности, то символы, относящиеся ко второму типу, образуют в романе сеть символических отношений и могут быть поняты лишь из творчества Арнима, из всего контекста романа, народной традиции или "духа времени". Персонажи, относящиеся к кругу "старого времени", часто имеют аллегорические черты.
В.Кольишкдт19, рассматривающий проблему устойчивого символа в романтизме на примере прозы Й. Эйхендорфа, развивает понятие символической формулы (symbolische Formelhaftigkeit) в противовес распространенному тезису о субъективности романтизма. Как считает Кольшмидт, тенденция к образованию стилистических формул проявляется и в сентиментализме конца VIII в., и у Гёте, и в раннем немецком романтизме, например, у Вакенродера, и является характерной для эпохи в целом. Романтическая формула имеет свои особенности. Ее корни уходят в старонемецкую легенду и народную песню, из которых романтизм черпает устойчивую, даже стереотипную образность и стилистические формы. С приятием устойчивой формулы связано и позитивное отношение романтизма к поэтике барокко. С этой позиции в статье рассматриваются некоторые характерные для прозы Эйхендорфа мотивы.
Г.Нирхаус20 отмечает в романах Эйхендорфа повторяемость определенных мотивов и выделяет ряд лейтмотивов; принимая тезис Колынмидта о тяготении стиля Эйхендорфа к образованию устойчивых формул (Formelhaftigkeit), он понимает эту особенность как мотивное формулообразование (motivische Formelhaftigkeit). К подобным формулам-мотивам, по мнению Нирхауса, относятся парковый и садовый ландшафт, мраморные статуи, фонтаны, пение жаворонка, игра на гитаре, восход солнца, шум леса, звон колоколов в тишине и т.п. При этом, вслед за другими исследователями Эйхендорфа21, автор работы понимает данную особенность образования устойчивых мотивов не как слабость и стереотипность стиля, но как конструктивное использование вариативных возможностей устойчивого мотива, сравнимое с музыкальной разработкой темы (лейтмотив и вариации). Предлагаемая интерпретация 12-й главы романа "Предчувствие и действительность" представляет собой, однако, простое перечисление некоторых мотивов (мотивы леса, замка, звука охотничьего рожка, кольца и т.п.), практически без их анализа. В прилагаемой таблице мотивов данной главы неясны критерии, по которым совершается классификация: событийный (Geschehensmotiv), центральный, сопутствующий, сценический, вводящий (Aufbaumotiv), лейтмотив. Так, лейтмотивами, по мнению автора, являются: звук рожка, взгляд из окна, чтение стихов, мотив игрушки; мотив кольца, пропасти, колдовства являются центральными мотивами, а тесно связанные с ними мотив сада, блуждания в лесу, утренней зари - всего лишь сценическими мотивами.
Б.А.Сёренсен отмечает, что в теоретических работах Эйхендорфа отсутствует четкое терминологическое разграничение между символом и аллегорией при ощущении их различия: в аллегории превалирует значение; в символе явлено единство образа и значения; символ воздействует эмоционально и иррационально, в отличие от аллегории, имеющей рациональный характер. По мнению исследователя, Эйхендорф отдает предпочтение символу. Не оспаривая тезиса Кольшмидта о тяготении стиля Эйхендорфа к формулообразованию, автор утверждает, что особенность воздействия языковой формулы у Эйхендорфа определяется ее музыкально-суггестивным, а не механически-дискурсивным характером.
Пересекается с мнением Кольшмидта и исследование Д.Кёлера23, также
отмечающего устойчивость стиля Эйхендорфа на протяжении всего его
творчества, повторяемость определенных тем, мотивов, образов и символов,
сцен и ситуаций, фигур и конфигураций, ландшафтов, звуков, воспоминаний и
снов. Эта тенденция образования устойчивых формул и циклов
(Formelhaftigkeit) продолжает, и по мнению исследователя, традицию барочной поэтики, где жизнь представлена рядом типических или фигуративных форм поведения. Отдельные произведения проявляют себя как вариации одной темы, что приводит, с одной стороны, к потере автономии и индивидуального характера каждого отдельного произведения, но, с друой стороны, к обретению каждым мотивом, ситуацией, темой, фигурой многозначности, сложности и, таким образом, уникальности (Einmaligkeit). Устойчивыми ситуациями являются, например, ситуации путешествия, паломничества, воздействия мраморной статуи; устойчивыми оппозициями места действия - город-деревня или Германия-Италия.
Некоторые исследователи высказывают мысль об эмблематичности стиля Эйхендорфа, при этом 'эмблема' понимается в широком значении. О.Зейдлин24 в работе о "символическом ландшафте" Эйхендорфа указывает на употребляемое им понятие иероглифического письма (Hieroglyphenschrift) и приходит к выводу, что ландшафт в произведениях Эйхендорфа является "видимой теологией", ключом к перспективам развертывания истории, ее лейтмотивом, изображением основных экзистенциальных ситуаций человека в целом и героя в частности (поиск и возвращение домой, искушение и спасение и т.п.). Ландшафт, таким образом, имеет не орнаментальный и не субъективный характер, а эмблематический.
Несколько иные акценты расставляет близкая в целом к традиции исследования поэтической формулы у Эйхендорфа работа А.Бормана15. Признавая тенденцию поэтики Эйхендорфа к формулообразованию, исследователь утверждает, что данные формулы направлены не на лирический субъект, но на объективное положение вещей, они имеют характер не аллегории или шифра, но эмблемы. Специфику эмблематического стиля Эйхендорфа автор трактует,через понятие естественной поэзии (Naturpoesie) в смысле топоса говорящей природы (Natura loquitur); трехчастная структура эмблемы - inscriptio, pictura, subscriptio - выражается у Эйхендорфа в стремлении объединить истину, природу и поэзию. Автор работы утверждает, что поэтика Эйхендорфа не может быть описана в раннеромантических категориях, однако прилагает к ней понятие романтического иероглифа, характерное и для раннего романтизма. Несмотря на утверждение, что "поэтическая техника Эйхендорфа не является символической в строгом смысле слова", исследователь
подчеркивает ее диалектический характер: природа явлена в ней одновременно сама по себе и как несущая значение (fur sich erscheint, doch zugleich als gedeutete).2<5
Наиболее репрезентативным исследованием специфики поэтики романтизма на временном отрезке 1808-1815 гг., является работа Хорста Майкснера "Романтический фигурализм. Критические штудии романов Арнима, Эйхендорфа и Гофмана".27 Автор исследует романы "Графиня Долорес" Арнима, "Предчувствие и действительность" Эйхендорфа и "Эликсиры дьявола" Гофмана, определяя их как "романы современности" (Gegenwartsromane), моделирующие образ морально-религиозного состояния мира и касающиеся проблем современности и действительности (в отличие от раннеромантического романа, действие которого происходит в изначально поэтической сфере). Остановимся на основных положениях этой работы. Персонажи романтического романа современности, по мнению исследователя, проявляют себя как индивидуальные образы (Gestalten) и как фигуры (Figuren); фигурами они становятся лишь в процессе романного повествования: интерпретация их индивидуальных судеб как таковых отходит на задний план за фигурациями (Figurationen), в которых персонажи становятся репрезентантами религиозных и универсально-исторических идей. При этом происходит стилизация под религиозно-фигуральные образцы из христианской сферы. Образ (Gestalt) становится фигурой, а фигура - назидательным примером (Exemplum); аллегорическое оказывается неразрывно связано с назидательным. Исследователь считает романтический фигурализм феноменом сознания и одновременно стилизации. Романтическая аллегория противопоставляется классическому символу. Именно аллегорический взгляд на мир конституирует, по мнению автора, образность романа современности; фигурализм является одной из форм данной аллегорической образности. Мир современных событий является для романтической поэзии несущностным, получающим смысл и значение лишь в аллегорической отсылке к высшему, поэтическому, праисторическому миру, который в действительности проявляется лишь фрагментарно, иероглифично, зашифрованно. Язык романов имеет тенденцию к образованию устойчивых индивидуальных формул (individuelle Formelhaftigkeit). Парадокс индивидуальной формулы разрешается в напряжении между индивидуальным выражением и универсальным намерением. Именно это напряжение формирует аллегорический метод и своеобразие романтически-аллегорического образного мира. У Арнима это своеобразие носит поучительно-образцовый (lehrhaft-exemplarische) характер, у Эйхендора - натурпозтически-эмблематический, у Гофмана - риторически-патетический. Хотя Х.Майкснер утверждает, что символическое самораскрытие (Selbstdarstellung) смысла романтическая аллегория отрицает как всякая аллегория, далее он несколько корректирует свое суждение. Своеобразие романтически-аллегорического образного мира уходит корнями в учение о знаке (Signaturlehre) XVI-XVII вв., но претерпевает значительные изменения. Романтическая аллегория - это не преобразование (Umsetzung) понятия в образ, но сукцессивное последовательное нагружение образа значениями. Объективированное, т.е. зафиксированное в сборниках эмблем, значение образов субъективируется посредством системы отсылок, которая, хотя и использует традиционный материал, нагружает его значениями, которые, с одной стороны, черпаются из романтической натурфилософии и философии
тождественности (Natur- und Identitatsphilosophie), с другой стороны,
определяются функционированием образа в целостности произведения.
Схематическая определенность значений становится по крайней мере
сомнительной. В этом смысле романтическая аллегория может быть, по
мнению исследователя, ошибочно принята за символ. Она однако отличается
от символа в той мере, в какой многообразие чувственного воплощения
(Versinnlichung) мысли отличается от целостной представленности
чувственного явления.
Частные исследования последних десятилетий, касающиеся отдельных произведений данного периода, в основном варьируют основные положения вышеуказанных работ, в особенности работы Майкснера. К.Петер , предлагающий интерпретацию романа Арнима "Графиня Долорес", придерживаеся концепции Майкснера, в том числе его критики аллегоризма Арнима с точки зрения психологического подхода. Автор связывает концепцию Майкснера с концепцией В.Беньямина, считая, что противопоставление классическому символу, которое Беньямин демонстрировал на примере барочной аллегории, Майкснер описывает в "романтической аллегории". К.Петер также рассматривает "Графиню Долорес" с точки зрения конфликта с классической и раннеромантической эстетикой. По мнению исследователя, в романе образуется рассогласование смыслового и событийного уровней, введение рационального (философского) уровня для их согласования мыслится невозможным, он заменяется введением народной традиции, которая, с одной стороны, являет собой единство религии и обычая (Sitte), с другой стороны, выражает себя не в понятиях, а в образах, примерах, символах и т.п. Принцип фигурализации в романе выражен не только вертикально (соотнесенность конкретного образа со смыслом), но и горизонтально - многочисленностью фигур, представляющих, по сути, единую идею. Эта особенность также связана с народной традицией, в которой индивидуум соотносится не только с богом, но и с другими людьми, что, в свою очередь, является признаком того, что все происходит из единого и в единое возвращается. Указывается на недоверие Арнима к персоне как к индивидуальному образу (individuelle Gestalt). Аллегорическое стихотворение, которое расказывает граф Карл Долорес и комментарий Арнима - "что каждое произведение (Dichtung) сохраняется само по себе, даже если оно имеет отношение к камому-то конкретному событию, никогда не приходило ей в голову" - позволяет заглянуть в творческий метод писателя. Если бы графиня была только индивидуумом, наделенным определенным характером, ее идентичность должна была бы исчезнуть после ее перерождения. Но она является и девушкой из аллегорического стихотворения Карла, и Марией Магдаленой, и в этом контексте ее преображение не вызывает сомнений. То, что отрицает индивидуальная психология, оказывается на фигуративном уровне вполне логично. К. Петер ссылается здесь на Ренате Мёринг, говорящей в связи с этим о "религиозной психологии" героев Арнима.29 Интересным, по мнению автора, является вопрос, который не затрагивает Мёринг: в каком соотношении находится "религиозная психология" с коллективным бессознательным Юнга.
В комментарии П.М.Лютцелера к академическому изданию Арнима30 также утверждается отрицание классического понимания символа в романе "Графиня Долорес". Вопрос о форме романа ставился уже современниками Арнима. Гёте не принял морализирующего католицизма и хаотической формы
романа, он увидел в нем образец романтической литературы и противоречие классическим воззрениям на сущность искусства.31 Комментатор, придерживается мнения (в частности, приводя суждения Майкснера), что приближение к достижению целостности произведения, единства сущности и явления происходит у Арнима не как у Гёте через систему символов, а через процесс аллегоризации, при помощи эмблематических атрибутов, пост- и конфигураций и живых картин (Tableaus). Персонажи подвергаются деиндивидуализации, превращаются в стилизованные фигуры. В произведении господствует аддитивно-вариативный принцип рассказывания, выражающийся во включении в повествование многочисленных вставных историй.
Логика рассуждений нашего отечественного исследователя КГ.Ханмурзаева*2 ведет от утверждения В.М.Жирмунского о том, что Арним "осуждает идею универсального аллегорического романа, с которым долго носились первые романтики" к определению Э.Л.Офермансом "Графини Долорес" как "универсального романтического романа о современности". С одной стороны, исследователь соглашается с мнением Майкснера о тенденции к созданию "фигур" в романе, с другой стороны, подчеркивает большую, по сравнению с раннеромантической, индивидуальность персонажей романа Арнима, преодоление "пафоса безымянности" и "монологической манеры". Ханмурзаев придерживается распространенной еще среди современников Арнима идеи, что нравственная установка в романе вступает в противоречие с логикой развития персонажей. Резкий поворот в судьбе бездуховной, не склонной к рефлексии графини Долорес (ее раскаяние и обращение к религии) недостаточно убедителен, характерология романа поставлена в зависимость от дидактических намерений автора. Живая индивидуальность отступает перед заранее заданной схемой развития. Следуя принципам романтической эстетики, Арним мифологизирует конкретную житейскую ситуацию, вовлекает ее в универсальный контекст. И все же повторяемость случившегося с Карлом вступает в контраст с неповторимостью индивидуального переживания, и это придает роману особое своеобразие. Своеобразие самого романа Арнима исследователь видит не в какой-то отдельной особенности его поэтики, а во взаимодействии противоположных эстетических решений. По отношению к роману Эйхендорфа "Предчувствие и действительность" К.Г.Ханмурзаев утверждает тезис о действии в рамках сюжетной символики - жизнь как странствие и странствие как жизнь.
Выдвинутое Майкснером понимание понятия фигуративное оспаривает Е.М.Кастии2ер-Рилейъъ. Как указывается в работе, сам Арним употребляет понятие конфигурации (Konfiguration) в смысле синтеза отдельных частей. Вслед за Офтерманнсом исследовательница утверждает, что основным стилистическим принципом прозы Арнима является синтез антитетичных положений и именно за этим принципом закрепляет понятие конфигурации. В качестве манифестационных вариантов данного принципа выделяются: "синхронистическая" конфигурация, определяющая временной синтез хронологически противопоставленных исторических и мифологических персон в одной фигуре; синтез антитетичных этических ценностей, выраженных в полярно противопоставленных фигурах (или синтез полярно противопоставленных этических ценностей в одной фигуре); "сценический" синтез на символическом уровне, конфигуративная связь абстрактных понятий через их изображение в конкретных ситуациях (in konkreten loci).
Две работы, касающиеся творчества Эйхендорфа, само название которых аппелирует к понятию аллегории, расставляют абсолютно разные акценты в восприятии данного понятия. Работа Т.А.Рилей 34 содержит попытку аллегорической интерпретации романа "Предчувствие и действительность", отмечая влияние на роман "Божественной комедии" Данте и трактуя его как "изображение в символах истинного и ложного в немецком романтизме", прямо соотнося образы некоторых персонажей с представителями романтической эпохи либо понятиями эпохи романтизма. Работа Р.Мюльхера35 рассматривает понятие "живой аллегории" в теоретических работах Эйхендорфа и реализацию данного понятия в его творчестве. Смысл, вкладываемый Эйхендорфом в понятие "живой аллегории", близкое для него к понятию символа и противопоставляемое "мертвой формуле" (tote Formel), восходит к традиции платонизма, воспринятой через философию немецкой мистики и культуру Ренессанса. Понятие аллегории употребляется Эйхендорфом в широком смысле, синонимичном понятию символа, характеризуемого им, в том числе, как "органический символ". Это понятие органического, естественного символа (Natursymbol) Р.Мюльхер связывает с понятием знака как подобия, соответствия (Signatur) у Бёме и понятием иероглифического письма (Hieroglyphenschrift) у романтиков, подчеркивая отличие от принципов создания нового символического языка у ранних романтиков, связанных с его укорененностью (за исключением Новалиса) в протестантизме, своего символического языка не имевшем. Отсюда возникает ориентация раннего романтизма на пантеизм и разработка понятия арабески и иероглифа. У Эйхендорфа данная традиция подвергается эстетическому сомнению, поскольку приносит с собой языческие, дохристианские элементы. Мировоззрение Эйхендорфа, его эстетические позиции и многие мотивы и символы, характерные для его творчества, достаточно подробно
рассматриваются в данном исследовании в их взаимосвязи.
*
Обзор критической литературы показывает, что основная проблема различия интерпретационных подходов к вопросу о символе у гейдельбергских романтиков сводится к употреблению понятий 'символ' либо 'аллегория' при анализе поэтики текстов зрелого гейдельбергского романтизма. Проблема возникновения различных точек зрения относительно символической либо аллегорической основы поэтики данного периода возникает не только в связи с терминологической неопределенностью, царящей в современном литературоведении, в связи с некоторым анахронизмом прямого перенесения современного употребления понятий "символ" и "аллегория" на литературные тексты начала XIX века (подобным анахронизмом является и употребление отрицаемого романтиками понятия "формулы", однако здесь литературоведческая традиция по крайней мере не проявляет внутренней противоречивости), но и в связи со сложностью самой эстетической ситуации в эпоху романтизма, в том числе в ее гейдельбергский период.
Идея символа становится для зрелого гейдельбергского романтизма центральной сферой как теоретического интереса, так и художественных поисков. Около 1810 года в немецкой литературе и культуре происходит концентрация и экспликация - как на теоретическом, так и на художественном уровне - интереса романтической эпохи к границам смысловой значимости образа; разработка идеи, понятия и эстетических возможностей символа,
проблемы символического языка, символико-аллегорической репрезентации и интерпретации. Тем не менее, теоретическое определение символа в данный период не обладает терминологической однозначностью. Наибольшая путаница наблюдается в употреблении понятий символа и аллегории, несмотря на тенденцию к их различению. Это приводило к недоразумениям внутри романтической эпохи, а в настоящее время проявляется в возможности различных трактовок и неоднородного употребления данных понятий в критической литературе, посвященной проблемам эстетики и поэтики периода зрелого гейдельбергского романтизма.
В связи с такой ситуацией необходимо рассмотреть в первую очередь следующий вопрос: имеется ли действительно противоречие между "классическим символом" и "романтической аллегорией". Вопрос распадается на несколько подвопросов: что представляет собой "романтическая аллегория"; доминирует ли в теоретических текстах романтизма, в том числе гейдельбергского, понятие аллегории по сравнению с понятием символа; какие различия между понятиями 'символ' и 'аллегория' устанавливаются в данный период развития эстетической мысли в теоретических трудах классической и романтической школы; производится ли соотнесение романтической поэтики и культуры в целом с понятием аллегории внутри самой романтической эпохи и самосоотнесение классической культуры с понятием символа; в чем заключается различие между классическим и романтическим пониманием символа, в частности, между пониманием символа у Гёте и романтиков. Вопросы сходства и различия классической и романтической школы на уровне поэтики рассматриваться не будут.
В соответствии с общими задачами работы, целью первой главы является не полное и развернутое рассмотрение отдельных концепций разных авторов, например, общее сравнение теоретической классификации Ф.Кройцера с классификацией Ф.Шеллинга, концепциями Ф.Шлегеля или Гёте, а обозначение основных эстетических идей романтической эпохи, значимых для теории и художественного творчества писателей гейдельбергского круга. С другой стороны, невозможно рассматривать идеи гейдельбергского периода вне контекста романтической и предромантической эпохи, наоборот, в связи с возникшей традицией сопоставления "классического символа" и "романтической аллегории" необходимо обращение не только к концепциям представителей гейдельбергской школы, но и к более широкому кругу авторов-теоретиков. Идеи, значимые для философии или, к примеру, естественных наук того времени, кажутся значительными в той мере, в которой обнаруживают пересечение или органическое единство с художественными принципами, оказываются связаны с общими основаниями эстетики. Теория, таким образом, представляет интерес с точки зрения прояснения проблем идейно-художественного синтеза - целостного эстетического сознания гейдельбергского периода, истоков его становления. В связи с этим отдельного обзора работ, касающихся теоретических проблем символа и аллегории в романтическую эпоху, производится не будет, результаты данных исследований будут учтены при предлагаемом анализе эстетической ситуации начала XIX в. Определенная иллюстративность подачи материала в следующей главе связана именно с необходимостью выявления того общего теоретического фона, на котором четче становятся видны особенности поэтики зрелого романтизма в его гейдельбергский период.
Пояснение первое. Символы Розы и Авроры: женский образ как символический репрезентант
Романтическое требование "жизненности" имеет мало общего с реалистическим или натуралистическим; жизнь в данном случае не обладает самодостаточностью (иначе она бы являлась "чистым особенным", по терминологии Шеллинга), но обладает символичностью именно в ее реальной данности и актуальном существовании, понимается как проявленность божественного откровения. Носителем этого откровения часто оказывается девушка. Восприятие девушки как живого символа, символической явленности, характерна для романтизма в целом, ср. у раннего Ф.Шлегеля: "Цветущая девушка - прелестнейший символ чистой доброй воли".261
Женские образы являются в романтической поэтике в большинстве случаев символическими репрезентантами. В общем виде идеальное символическое воздействие женщины выражено у Уланда в статье "О романтическом", 1807 г.: "Дух романтической любви заключается в следующем: чувствуя духовное и физическое влечение к женщине, мужчина думает в божественном образе найти свое небо. Детская наивность женщины представляется ему детством высшего мира. Прекрасный покров представляется ему целью всех его стремлений, всей его бесконечности. Отсюда боготворение любимой и преклонение перед ней. Ее лик, подобный розе, предстает его взору просветленным, из ее очей в него струится небесный свет. Самый незначительный знак благосклонности кажется ему благословением неба, каждое нежное слово - откровением."262
Женские образы оказываются схематизированы и недостаточно разработаны, поскольку при создании образа учитываются лишь черты, представляющиеся сущностными для про-явления идеи: "Ты - божественная красота (Herrlichkeit), вечная жизнь в самой милой оболочке (Hiille)." - "Ах! Генрих, ты же знаешь судьбу роз [...] - "Если бы ты только смогла видеть, как ты являешься мне, какой чудесный образ пронизывает твой облик и сияет мне отовсюду, ты бы не стала бояться возраста. Твой земной облик - только тень этого образа. Земные силы борятся и бурлят для того, чтобы удержать его, но природа еще не достигла зрелости; образ является вечным праобразом, частью неизвестного божественного (heiligen) мира." - читаем мы у Новалиса.
Наиболее распространенными именами, употребляемыми для женских образов, связанных со смыслом репрезентации божественного, в романтической эстетике становятся Роза и Аврора и их варианты.
Позитивный женский образ с необходимостью должен воплощаться в живой девушке - живом символе божественного откровения. У Тика в "Романсе о Розе" и в "Романсе о Лилии" любовь является первоосновой цветения. В "Романсе о Розе" происходит сочетание понятий "роза", "девушка" и "любовь"; расцветающий бутон является символом развития девушки; солнце, под лучами которого она расцветает, соотносится с возлюбленным.264 У Арнима в "Графине Долорес" метафора мира, скрытого в бутоне цветка (ср. Блейк - "и небо в чашечке цветка" или Гёррес - "на вершине распускается Солнцем Роза, и Мировой дух колышется в чашечке цветка"265) дана в ироническом контексте в стихотворении Флорио о Дивине: красота девушки сравнивается с бутоном цветка, скрывающего в себе мир, но при появлении звуков гармония нарушается - сравнение Дивины и Арники основывается на оппозиции внешней красоты и звука, трактуемой как противопоставление глупости и духовности (308)266. У Эйхендорфа в "Предчувствии и действительности" Фридриху, взгляд которого встречается со взглядом Розы, кажется, что "перед ним открывается новый красочный чудесный мир прадревних воспоминаний и никогда не знаваемых желаний." (3) 2б7
Уже в конце XVIII в. в немецкой литературе прослеживается тенденция сопряжения образов Розы и Авроры. В поэтическом творчестве метафоры, соотносящие образы роз и заката или восхода, считались в начале XIX в. обычными, стершимися, употреблявшимися авторами второго и третьего плана.268 Эйхендорф в ранний период (1804 г.) употребляет данные образы применительно к девушке в шутливом бытовом контексте: "цветок цветов, маленькая утренняя заря"269 и разрабатывает эти образы в ряде стихотворений, этой девушке посвященных. Тик, Брентано, художник О.Рунге употребляют данные образы в разнообразно обыгрываемом символическом значении и, таким образом, производят их "оживление", актуализацию.271 В "Романсах о розарии" К.Брентано происходит объединение образов розы и авроры на основе их соотнесенности с Девой Марией (394-397). В "Эликсирах сатаны" Гофмана девушка Аврелия является в определенной степени воплощением святой Розалии, при этом подчеркивается их генетическая связь и сходство облика.
Оба образа связаны с мифологемой смерти-возрождения; роза при этом вписывается в парадигму потерянного (в излагаемых Гердером еврейских легендах - увядшего2 ) земного и обретаемого путем прохождения через тернии-шипы небесного рая; Аврора (Утренняя звезда) знаменует восход нового мира, понимаемого и в религиозном смысле как заря христианства, освещающая мир после языческого "заката богов" (например, у зрелого и позднего Эйхендорфа)273, и в историческом (на рубеже XVIII-X1X вв. Гердер намеревался издавать журнал "Аврора" и рассуждал во вступительной речи к этому изданию (1799, опубл. 1809) об "Авроре будущего", "Авроре нового столетия" и т.п.274 Журнал "Аврора" издавал в 1804-1805 гг. Аретин, в нем печатался, в частности, Й.Гёррес, в одной из работ которого также упоминается "Аврора нового Времени, пышный сад пламени, жар роз".275 Образ Авроры, утренней зари, употребляется романтиками в первую очередь как символ нового времени в конце времени дня, года, жизни, мира, "конечный пункт любого стремления", ибо "Утро является безграничным освещением универсума" (О.Рунге).276 В подобном исторически-философском значении подает этот образ и Й.Эйхендорф в одной из теоретических работ: "Если мы окинем взором новую историю, нас невольно охватит серьезное, одновременно печальное и возвышенное чувство. Разрушенные замки одиноко лежат в вечерней тишине, [...] и звоны дальних колоколов доносятся, как прощальные звуки погибшего (untergegangenen - буквально: зашедшего277) времени. - Но на обломках замков весело играют розовощекие мальчишки, и из всех трещин в стенах, прорывая замшелые камни, растет и перелетается свежая зелень; [...] и с радостным трепетом мы обнаруживаем, что утренней зарей является то, что мы считали закатом."278 - Идея и образность этого высказывания пересекается со сценой сновидения из романа "Предчувствие и действительность": "Однажды ему приснилось, [...] что его разбудил сияющий ребенок [...] Фридрих увидел [...] города с разбитыми огромными колоннами, замок его детства, странно разрушенный, [...] его умерший отец, каким он часто видел его на картинах, смотрел необычно серьезно, [...] внезапно через дым прорвался закат, [...] он увидел того же самого прекрасного ребенка, стоящего [...] в центре солнца. [...] Его охватила неописуемая тоска и страх, что солнце навсегда утонет в море. Тогда ему показалось, что прекрасный ребенок [...] сказал: "Если ты меня действительно любишь, спускайся вместе со мной, тогда ты снова взойдешь, как солнце, и мир станет свободен!" (176-177) 279 В данной сцене используется образ, параллельный образу утренней зари: восход солнца; прекрасный ребенок соотносится не только с солнцем, но и с зарей, так как имеет ее атрибут -розовоперстость. Характерно, что роман Эйхендорфа начинается и заканчивается сценой восхода солнца.
Заметим, что концовка романа предлагает несколько параллельных вариантов разрешения проблемы герой / современный ему мир, представленных развязкой судьбы разных персонажей романа. Если Фридрих и Роза - каждый по-своему - в итоге приходят к религии и отходу от мира как единственному выходу, то Рудольф удаляется в Египет - страну чудес, чтобы предаться там магии, Фабер отправляется в пеструю жизнь, а Юлия и Леонтин уплывают на корабле из Европы в другую часть света. Сам Эйхендорф отмечает: "Конец является также в высшем смысле удовлетворительным, поскольку все герои романа предстают наконец успокоенными в божественном мире (Gottesfrieden), это состояние перемирия умов (Waffenstillstand der Gemiiter)" Интерпретация символа восхода солнца неоднозначна. Она должна, несомненно, учитывать и возможности связи со значением священной истории (Heilgeschichte), однако основным значением все же является ощущение полноты жизни, что подтверждается как в начальной сцене романа.
Пояснение второе. Идея становления и конструирование образа в гейдельбергском романтизме: столкновение смысловых вариантов
В романтическом конструировании женского образа особенно значимы оказываются традиция петраркизма и соотнесенность с Девой Марией, с одной стороны, и соотнесенность с сиреной, увлекающей в пучину, Венерой из истории о Тангейзере и средневековым образом Госпожи Мир (Frau Welt), с другой. Впервые средневековая параллель "Госпожа Мир - Госпожа Венера" появляется в романтизме у Л.Тика в новеллах "Верный Эккарт и Тангейзер" и "Руненберг".
Позитивный женский образ - живая девушка как символ божественного откровения часто противопоставляется негативным образам (например, Венеры), представляющим собой временно ожившую статую (как у Эйхендорфа в "Мраморной статуе") или картину (как у Гофмана в "Эликсирах сатаны").
Образ ожившей статуи имеет длинную предысторию. История эротической связи человека и статуи Венеры, обозначаемая также, как история о кольце Венеры, известна с "Деяний правителей английских" (de gestis Regiim Anglorum libri quinque, 1224-1225) Вильяма Мальмсберийского. Мотив оживления статуи известен еще с античности (Пигмалион), так же, как и мотив обручения со статуей; демонизация же античной богини происходит лишь с введением христианства. Интересно, что в кайзерской хронике 1135-55 статуя Венеры превращается в статую ангела (мотив, близкий "чуду Марии").296 Наибольшую популярность история о кольце Венеры приобретает благодаря книге Кормана "Гора Венеры" (Moris Veneris, 1614) и роману Жака Казотта "Влюбленный дьявол", в котором, между прочим, дьявол является влюбленному офицеру под видом прекрасной Бьондетты - это же имя использует Брентано в своих "Романсах о Розарии". Книга Кормана и роман Казотта оказали влияние на литературу эпохи романтизма. Обработка мотива обручения со статуей или оживления образа встречается в немецкой литературе у Гёте в "Коринфской невесте" (1798), у Брентано в "Годви" (1801/02) и "Романсах о Розарии", у Апеля в "Обручальном кольце" (1812), у Эйхендорфа в стихотворении "Волшебство Венеры" (1816), в "Мраморной статуе" (1819), в "Юлиане" (1852/53), у Арнима в "Папессе Иоанне"(1813) и "Рафаэле и его соседках" (1824), у Гофмана в "Эликсирах дьявола"(1815), у В.Алексиса в "Венере в Риме" (1828), у Г.Гейне во "Флорентийских ночах" (1836). Э.Френцель отмечает, что романтическим новшеством в обработке материала явилось понимание обручения со статуей как подвластность образу воображения, сна, желания, фантому собственного Я, являющяяся гибельной. Перенесение проблематики на образ художника означает перенесение подобной опасности в сферу эстетического.297
Этическое отрицание пластической формы является одной из отличительных особенностей гейдельбергской эстетики. В художественной практике противостояние пластический символ / мистический символ реализуется как оппозиция пластическая форма / становящийся дух. Уже у раннего Брентано понимание пластики как "завершенной буквы", застывшей, омертвевшей формы ведет к переоценке пластического символа, его отрицанию. Аллегория через понятие становления, наоборот, обретает смысл истинного откровения и истинной символики. Понимание статуи как чистой формы и соотнесение данной формы с чистой чувственностью298 появляется уже в первой части романа "Годви"; оно заявлено как утверждение, вложенное в уста одного из персонажей (письмо леди Ходфилд): "Потому что статуя призвана выразить поверхность, она представляется мне поэтическим вымыслом - жизнью, вывернутой наизнанку, в которой все проявления жизни идут извне вовнутрь. [...] весь талант ваятеля заключен в плотской любви"299. "Холодная статуя" "покоится в постоянной страсти, без того, чтобы быть покоем", она понимается как "грустная памятная колонна (Denksaule) утерянной божественности"300, в то время как памятник Виолетты является одним из "исполненных значения произведений, которые одновременно прекрасны [...]. Посредством значения хорошая картина всегда обретает высшую жизнь, так как историей ее возникновения является победа над своим знамением для того, чтобы стать прекрасной."" Аллегорические полотна Франческо Фьормонти - образы Вальпургис и Аннонциаты - "не являются (sind), но вечно становятся (werden)", каждая из этих картин "не заполняет (erfullt) момент, а представляет тихое движение одной насыщенной души (eines dichten Gemuthes)", девушка, изображенная на ней, расцветает, как цветок.302 Греческая любовь к оформленному образу (Gestaltenliebe) выразилась в "заблуждении искусства" - в стремлении к чистой форме, в любви к мальчику.
Если в йенской поэтике, в том числе и у Брентано в ранний период его творчества, образ-символ представлен на уровне рассуждения, то в зрелой гейдельбергской поэтике, сохраняющей элемент рассуждения, образуется уже целая. система символов с разветвленными внутренними связями, так что обращение к одному из них актуализирует целый комплекс соположенных образов. Теоретическая, этическая и эстетическая концепция вырастает из самого произведения через структуру мотивов и символических образов с разветвленными внутренними связями. Обращение к одному из них актуализирует целый комплекс соположенных образов и в определенной степени задает априорные условия поэтической мысли. В "Мраморной статуе" Эйхендорфа оппозиция статуя / девушка соотносится со следующим рядом противопоставлений: мертвое (застывшее) / живое; репрезентация ложного божества (Gotzendienst) / репрезентация божественного; пластическая форма, ложный символ / девушка, истинный символ; чувственное / духовное; завершенность / становление; античное / средневековое и, конечно, языческое / христианское. В единстве образа можно наблюдать связанность этической и эстетической оценки (пластическое - античное - языческое).
Пояснение третье. Идея искусства и образ художника в творчестве гейдельбергских романтиков
Интересно, что в романе Арнима потеря кольца Долорес происходит во время морского путешествия (449-450), но и достать потерянное кольцо графу в итоге помогает через принца Палагонии водная нимфа (556). Род принца происходит от "морской феи". Когда путешественники подъезжают к дворцу принца, Долорес смотрит в воду и наблюдает за "чужим" подводным миром, из которого выныривают сирены и поют песню, призывая в свое царство, где нет любовных страданий и ревности, но есть вечная радость, где хранятся сокровища древних времен, и где они танцуют в кругу. (451) То, что сирены в итоге оказываются переодетыми девушками, помещает происходящее в иронический контекст, однако следующая далее история рода Штауффенбергов (454-459), также связанная с проблемой нарушения верности, переводит события в мифологический план, остылая к "правремени".448 Характерно, что именно в саду принца Палагонии, несмотря на его "перевернутый", гротескный характер Долорес чувствует себя как в раю (454); принц впоследствии становится лучшим другом графа Карла; а памятник Долорес связан с водной стихией, в которой он указывает морякам правильный путь.
Образ сирены в гейдельбергском романтизме, хотя и является всегда олицетворением стихии, связан также далеко не только с негативными чертами. Двойственная интерпретация образа Сирены проявляется уже у Брентано в
"Романсах о Розарии". Сирена - танцовщица, приемная мать Бьондетты. Упоминание в романсе "Покаяние Косме" (130) о "ядовитых песнях сирены" появляется на фоне картины заката, придающей практически любому символу негативные коннотации (ср. сравнение кровной вины - Blutschuld - с украшением розами на закате, 127). Сама история Сирены рассказывается в романсе "Бьондетта в театре". Напомним, что Бьондетта дает последнее представление в театре, так как собирается назавтра покинуть сцену и уйти в монастырь - надеть монашеское покрывало (den Sclileier nehmen). Переход из театра в монастырь мыслится как переход из "храма искусства" в "более чистый храм". В театре она приносит в жертву "сюжет внешней жизни" (des auBren Lebens Fabel), после чего ее ждет жертвование своей внутренней жизнью на церковном алтаре. Эти две жертвы Бьондетта собирается принести в честь своей приемной матери Сирены: первую "на пестром пламени искусства" - ее жизни, вторую - ее блаженной смерти (136-138).
"Сюжет внешней жизни" Бьондетты и составляет содержание даваемого ею театрального представления, при этом описание происходящего на сцене сливается с описанием реакции публики. Публика, собравшаяся в театре, подобна морю, по которому проходит Бог; волны моря прикованы к мелодии Бьондетты, задающей ритм приливов и отливов горя и блаженства; над возвышающимися над вечной водой скалами поднимается светлый образ Марии, голову которой озаряет звезда моря... Далее и возникают отсылки к образу Девы Марии как "звезде моря" - maris Stella, выводящая людей "через темное от греха время" "к светлым берегам звездной вечности" (139), развертывание аллегорической метафоры гибели Розатристис как кораблекрушения. Розатристис умоляет спасти ее ребенка, эту мольбу сжаловаться и вынести младенца из "гневной стихии" - доносит до Девы Марии (звезды моря) Сирена (олицетворение моря и водной стихии), жертвующая Деве Марии жемчуг и кораллы (139). Сирена выносит "сокровище", "образ милости" - младенца из дикой стихии на спасительную скалу (141). Сирена "вплетает сквозь сон" Бьондетте "своих песен священных змей" (интересно, что образ змеи здесь снова употреблен в позитивном значении). Воспитание Бьондетты происходит одновременно в сфере искусства и религии: "Also in dem Tand dcs Lebens [Так, выросшая в мишуре жизни Und in Abdacht schon erwachsen, //[...] Ив благочестии молитвы, Friihc lehrt sie niich zu scluveben Она рано учит меня кружить Auf des Tanzes Wunderbahnen, На волшебных дорогах искусства, Friiher noch die Blicke hebeii Еще раньше - поднимать вторы к богу Und zu Gotl die Handlem fallen. II И складывать руки для молитвы. Und sie lehrt die junge Seele И она учит юную душу Sich erschwingen im Gcsangc, Взлетать в пении Und niit Engeln auf der Tone И на звуках небесной лестницы Hiniinclslcitcr frcudig lanzcn. II Радостно танцевать с ангелами. Aber endlich sprach Sirene: Но наконец Сирена сказала: Folgc mir in mcine Kammer; Следуй за мной в мою комнату; Fest ist schon in dir das Lcbcn, Жизнь уже прочна в тебе, Lerne nun, dich zu verwandeln! II Теперь учись превращаться! Alles Leben lerne leben, Ты должна пережить все жизни, Alle sclionc Klage klagen. Выкричать все стенания, Alle Freude schon erheben, Возвызнть в прекрасном все радости, Alle Geistcr aufwarts tragen! II Вынести наверх любой дух! Alle Hcrzen sollen beben Все сердца должны трепетать In dem Klange deinerHarfc! В звуках твоей арфы! Bannen sollst du alle Seelen Ты должна подчинить все души In die Kreise deines Tanzes! II Кружению твоего танца! Mit der Kunste heil gem Zepter Священным скипетром искусства Schlage an das Herz der Sklaven, Стучи в сердца рабов, Die du in den Sinnen fesselst, Чувства которых ты приковываешь, Um in Geist sie zu entlassen! //[...] Чтобы освободить их дух! Nieder stieg ich. Tief im Felsen Я спустилась вниз. Глубоко в скале Tut sich auf ein bunter Garten, Раскрылся пестрый сад, Rauschet, stromet Toneswellen, Зажурчали, потекли волны звуков, Um das Eiland aller Farben!" (143-144) Омьпзая остров всех цветов!]
Далее возникает образ Марии, скала с Бьондеттой опускается в море, но тут из дикой морской стихии появляется сияющий чудесный остров; далее следует действо с Девой Марией; затем пожар театра. Монашество Бьондетты, как и монашество Розарозы, осталось неосуществленным, однако после пожара театра на его месте, по предсказаниям, должен быть построен монастырь.
Каждый из обозначенных этапов жизни Бьондетты - театр (светская, мирская жизнь) и монастырь (жизнь духовная) - мыслится важным и необходимым: на месте театра должен быть построен монастырь, но прежде театр призван сыграть свою роль в общем процессе становления духа, что подчеркивается наставлением, даваемым Бьондетте ее приемной матерью, певицей Сиреной, а также возникающими параллелями между театром и небом: так ангелы славят Деву Марию "с небесных сцен" (139), а пение и танец не только "приковывают" души, но и позволяют танцевать с ангелами на "звуках небесной лестницы". Характерно, что Бьондетта играет на арфе (138), арфа же ассоциируется как традиционно, так и в тексте "Романсов" с "хрустальными арфами" (139) небесной гармонии. Сирена воплощает образ, призванный примирить Деву Марию - звезду моря - с "тем, что живет в земном разладе" в морских глубинах (139).
В приведенном отрывке встречаются многие мотивы и образы, характерные для гейдельбергской поэтики. Известно, что позже, в период "религиозного отречения" Брентано назовет "Романсы о Розарии" "накрашенными, надушенными туалетными грехами нехристианской юности", обвинит их в "поэтическом сиреносиропизме"449 и даже захочет сжечь450; однако по отношению к этапу создания "Романсов" суждение Эйхендорфа - "в том заключается своеобразное значение Брентано, что он не воспринимал это демоническое начало щадяще как гениальную добродетель и не стремился ее одухотворить до искусства, но вечно ненавидел как языческий фатум..." -кажется несколько преувеличенным.
Интересно, что символ сирены явился своеобразным камнем преткновения в знаменитой полемике Фосса с "Символикой" Кройцера, критике интерпретации данного символа Кройцером посвящена целая третья часть "Антисимволики".451
Сирена в "Романсах о Розарии" является не только персонификацией стихии, ищущей примирения с божественной гармонией; она представляет искусство. "Срединность", промежуточность искусства соответствует "срединности" человека в его положении между божественной сущностью и земной жизнью. В одном из писем Рунге Брентано называет поэзию "садом между небом и землей"
Пояснение четвертое. Проблема интерпретации: постановка вопроса в текстах зрелого гейдельбергского романтизма
Одной из особенностью текстов гейдельбергского романтизма является включение вопроса об интерпретации в рамки самого произведения.
В "Романсах о Розарии" Брентано вопрос о правомерности той или иной интерпретации ставится в обсуждении учениками Апоне картины Гвидо (100-103). На картине Гвидо изображены три дочери Кекропа, охваченные безумием - нарушив запрет Афины, они заглянули в священную корзину и увидели змееногого младенца Эрихтония и двух змей, охранявших его. Ученики Апоне предлагают различные варианты интерпретации изображенного (один из учеников утверждает, что "каждое законченное произведение должно основываться на вечных понятиях", но смысл ему не открывается вовсе; другой трактует змею возле ребенка как указание на страдания Господа и грехопадение; третий видит в трех сестрах иудеев, христиан и сарацин, спорящих об истинной церкви; четвертый продолжает: это - три добродетели христианства, вера, надежда и любовь; пятый узнает в них харит; шестой - три эссенции, составляющие сущность Бога; и т.д.), рассерженный Гвидо указывает им на истинный смысл: дочерей Кекропа постигла кара за попытку проникнуть в тайны богов; картина обращена к современникам, "обнажающим то, что Бог хочет видеть целомудренно прикрытым". Гвидо, плача, уничтожает свою картину, так как следует заповеди "если глаз твой соблазняет тебя, вырви его" (103). Данный эпизод проливает свет и на "трагедию отречения" - Гвидо уничтожает свою картину из-за неадекватности интерпретаций. - Отречение происходит не только из-за отрицания искусства как такового, но и от искусства как повода лжеинтерпретаций. - Характерно, что интерпретация учениками Апоне является как раз аллегорической - аллегория здесь уже (в отличие от теоретического постулата Кройцера) является именно тем, что пытается обнажить покров тайны.
В романе Арнима ложной оказывается интерпретация графиней Долорес стихотворения Карла о "Девушке с поля" лишь как аллегории, вызывающей у нее смех (Карл - Христос), в то время, как он ожидает реального воздействия своего сочинения. Однако и сам Карл склонен к аллегорическому восприятию действительности: "Граф, который еще с юности тяготел к определенной аллегорической мифологии, думал найти в ней [Клелии] дружбу, так же, как в сестре [Долорес] нашел любовь." (39) В этом несоответствии реальности, намерения и интерпретации текста заключается проблематичность как судьбы Карла и Долорес, так и судьбы романа о их судьбе.
В тексте Арнима, кроме указанной интерпретации Долорес стихотворения Карла, приводится несколько интерпретаций фигуры морской феи, от реалистического до аллегорического: "Морская фея, [...] а значит, вероятно, ребенок, которого он [основатель рода Штауфенбергов478] привез с собой из одного из своих морских путешествий..." (454) В отношении другой морской феи - подруги принца - княгиня замечает: "...предполагаемая чудесная союзница принца возможно является музой: [...] так как этот подарок [минералы] слишком научен для морской феи или пиратки." - На что следует ответ графини: "Нет, -сказала графиня, которая ненавидела все аллегорическое, которое отбирало у нее реальность, в которую она верила, - это точно морская фея, которая доверяет своему другу все великолепные сокровища с затонувших кораблей" (459). Аллегорическое воспринимается здесь как наделение мифологического образа - обладающего для Долорес реальностью бытия -абстрактным значением: морская фея понимается как муза. Таким образом, Арним проводит в . данном эпизоде определенную грань между мифологическим и аллегорическим образом, при этом аллегория понимается как проявление "несвоего", несобственного, условного, абстрактного значения, аллегоризация - как абстрагирование по отношению к более реальному (хотя и мифологическому) образу, этот процесс оценивается негативно.
В романе Эйхендорфа "Предчувствие и действительность" имеется эпизод обсуждения романа Арнима "Графиня Долорес" (149-153), - таким образом, устанавливается прямое концептуальное перекрещивание данных двух романов (149-153). Одно из приводимых мнений о романе Арнима: слишком прозаично, "Если мы получим еще много подобных романов, наша поэзия снова станет простой аллегорической персонификацией морали (bloBe allegorische Person der Moral)" (150) Фридрих оспаривает это мнение; мужчина из деревни рассказывает, как этот роман изменил его жизнь - таким образом, в качестве позитивной эстетики утверждается эстетика воздействия, находящаяся в сопряжении с религиозной этикой, утверждаемой Фридрихом, - роман создан как "хвала Господу" (zu Gottes Lobe). - Интересно, что гейдельбергским романтикам заранее известны контраргументы против их эстетической концепции, в том числе обвинение в аллегоричности. Эйхендорф, однако, противопоставляет пониманию романа Арнима как аллегорической персонификации понимание его как эстетики воздействия - жизненного, живого влияния, а не схематичной, условной аллегоричности. Эта эстетика противопоставлена эстетизму чайного общества.
Обсуждению романа "Графиня Долорес" на вечере у министра предшествует сцена интерпретации стихотворения Романы. Обсуждается центральная фигура стихотворения Романы о принцессе в саду.
Само стихотворение таково. В лесу стоит замок, в котором живет волшебница. Из леса часто доносятся манящие звуки - кто их услышит, следует им и пропадает. Замок уже полуразрушен, в нем сидят за круглым столом древние герои. Управляет домом старик, носящий разноцветный складчатый плащ. Принцесса играет и чудесными вещами, спрятанными в его плаще, но ей надоедает игра, и она, "с утренней зарей в сердце", хочет заново увлечь мир. (Когда-то сюда ее прислал из родного сада отец, она бросила кольцо на землю в знак обручения с нею.) К ней со всего мира приезжают женихи, но превращаются в игрушки, с которыми играет старик. Наконец они приходят в себя и снимают маскарадные костюмы охотников и рыцарей и заявляют: "Это была лишь игра, мы - поэты!". И мир лежит спокойный как раньше, а принцесса в одиночестве играет в прежние игры в саду старика.
Интерпретация, предлагаемая собравшимся обществом, содержит весь набор смысловых вариантов центрального женского образа гейдельбергской поэтики: Венера, Красота, Поэзия жизни, сама графиня (мнение Фридриха), Дева Мария. Фридрих отрицает последнюю возможность интерпретации как кощунственную, так как "стихотворение графини, как и вся ее красота, показалось ему языческим и исполненным гордыни." (149) Далее утверждается необходимость проведения границы между языческим и христианским (149). Важно, что сама Романа отказывается давать однозначную аллегорическую трактовку своему стихотворению, она лишь отшучивается, что сама этого не знает (149).