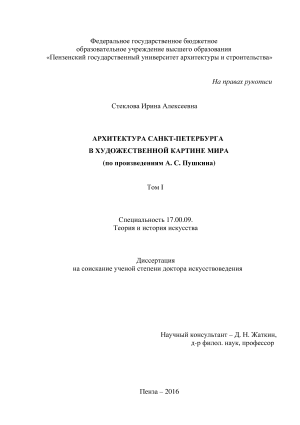Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Романтизм: воля архитектуры к смыслопорождению в художественной картине мира
1.1. Романтизм и интенция смыслопорождения архитектуры в пространстве и языке 43
1.2. Смыслообразующие функции архитектуры в художественных картинах реальности и в художественных картинах мира русского романтизма 56
1.3. Выводы 77
ГЛАВА 2. Идеалистическое мифотворчество романтизма и архитектура санкт-петербурга в произведениях А. С. Пушкина
2.1. Архитектурное пространство Царского села между историей и мифом (на примере лицейской лирики А. С. Пушкина) 80
2.2. Архитектурное пространство Санкт-Петербурга между современ-ностью и мифом (по материалам творчества А. С. Пушкина 1817–1827 гг.) 106
2.3. Выводы 129
ГЛАВА 3. Критическое мифотворчество романтизма и архитектура санкт-петербурга в произведениях А. С. Пушкина
3.1. Урбанистические трансформации архитектурной среды Санкт-Петербурга (по художественным и публицистическим произведениям А. С. Пушкина 1827–1837 гг.) 131
3.2. Адаптация идеалов к реалиям экстерьеров и интерьеров Санкт-Петербурга (по прозе А. С. Пушкина) 151
3.3. Исторические константы эволюции архитектурной среды Санкт-Петербурга (по стихам, публицистике, роману «Арап Петра Великого», поэме «Полтава») 163
3.4. Выводы 169
ГЛАВА 4. Русское миропонимание в архитектонике художественной картины мира А. С. Пушкина
4.1. Архитектоника универсалий миропонимания в архитектонике художественной картины мира 172
4.2. Архитектоника природных и архитектурных ландшафтов в художественной картине мира 182
4.3. Власть и свобода в архитектонике архитектурного пространства Санкт-Петербурга (по стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и другим произведениям А. С. Пушкина) 190
4.4. Выводы 211
ГЛАВА 5. История, миф, утопия и героизация санкт-петербурга в художественной картине мира А. С. Пушкина
5.1. Архитектоническая экспрессия архитектурного пространства Санкт Петербурга: время и история (по повести «Пиковая дама») 213
5.2. Гармония и дисгармония архитектурного пространства Санкт-Петербурга: история и миф (по поэме «Медный всадник») 237
5.3. Воля и неволя архитектурного пространства Санкт-Петербурга: миф и утопия (по подготовительным текстам к «Истории Петра») 270
5.4. Выводы 287
Заключение 290
Список литературы 297
Общая литература
- Смыслообразующие функции архитектуры в художественных картинах реальности и в художественных картинах мира русского романтизма
- Архитектурное пространство Санкт-Петербурга между современ-ностью и мифом (по материалам творчества А. С. Пушкина 1817–1827 гг.)
- Адаптация идеалов к реалиям экстерьеров и интерьеров Санкт-Петербурга (по прозе А. С. Пушкина)
- Власть и свобода в архитектонике архитектурного пространства Санкт-Петербурга (по стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и другим произведениям А. С. Пушкина)
Введение к работе
Актуальность темы, сблизившей заведомо не рядоположенные масштабности, заключается в насущной потребности вывести единый фронт смыслообразо-вания, дабы оценить и по возможности активизировать его текущую динамику, развернуть художественную картину современности. Романтические накопления объективированной субъективности в восприятии архитектуры Санкт-Петербурга, являют не только историческую и предметно-теоретическую значимость, но и пример продуктивной встроенности художественной рефлексии, далекой от нор-
мативных предписаний, в сугубо практическое созидание. Укрупнение смыслов, трансформирующихся в беглых соприкосновениях и глубоких взаимопроникновениях разнородных феноменов искусства, показывает всепроницающую способность идей, мотивов, образов. Так, обращение к поэтической и прозаической вербализации реалий архитектуры в реконструируемой художественной картине мира русского романтизма перспективно для расширения и профессионального сознания архитекторов, и всей сферы искусствоведения.
Состояние проблемы. Подход к знанию, связанному с образованием смыслов архитектуры, потребовал систематизации обширного текстового и иконоло-гического материала. В результате были выделены четыре группы источников: во-первых, архитектуроведческие и искусствоведческие источники, относящиеся непосредственно к архитектуре Санкт-Петербурга; во-вторых, филологические источники, посвященные образам Санкт-Петербурга в поэзии и прозе; в-третьих, источники, рассматривающие мифологию Санкт-Петербурга; в-четвертых, философская классика, оснащающая реконструкцию художественной картины мира опытом междисциплинарных сопряжений. Каждая из этих групп по-своему осваивает бытие архитектуры и позиционирует ее смыслы.
Темы образования смыслов не обошел ни один из западных историков и теоретиков архитектуры, начиная с Г. Вельфлина, Э. Панофски, З. Гидиона, К. Линча. В отечественной традиции ее целенаправленно разрабатывали Е. В. Асс, А. В. Боков, Ю. П. Волчок, Г.Ф. Горшкова, П. В. Капустин, В. В. Карпов, К. В. Кияненко, В. Ф. Маркузон, С. В. Норенков, А. А. Пучков, А. Г. Раппапорт, С. А. Шубович и др. Данная тема высвечивалась и попутно, вместе со ссылками на пристрастную зоркость прозаиков и поэтов, в фундаментальных монографиях и статьях И. А. Азизян, Е. Л. Беляевой, И. А. Бондаренко, А. В. Бунина, В. Л. Гла-зычева, А. Э. Гутнова, И. А. Добрицыной, Н. А. Евсиной, А. И. Каплуна, Г. С. Лебедевой, М. В. Нащокиной, В. И. Пилявского, А. А. Тица, Ю. С. Ушакова и т.д. К содержательности образов архитектуры в литературном преломлении вплотную приблизилась Е. А. Борисова, поднявшая в числе прочего вопрос о стилистической доминанте в пушкинской интерпретации Санкт-Петербурга. Наконец, то, что
русское зодчество второй трети XIX в. выпало из обоймы государственных приоритетов, прямо отнесено А. В. Иконниковым, Е. И. Кириченко, Л. Д. Тыдманом к усилению роли изящной словесности. Главным основанием для такого вывода стали изменения в облике северной столицы, которому посвящены труды И. Э. Грабаря, Г. З. Каганова, Ю. И. Курбатова, В. Г. Лисовского, С. П. Луппова, М. Н. Микишатьева, А. Л. Пунина, А. Л. Ротача, Ю. Р. Савельева, С. В. Семенцова, Т. А. Славиной, А. В. Степанова, М. З. Тарановской, О. А. Чекановой, Д. О. Швидков-ского и др. Примеры экспрессивно трактованного восприятия, поэтической и прозаической рефлексии архитектурного пространства поддерживали анализ и художественных стилей, и объемно-планировочной организации, преемственной в геометрии, пропорциях, ритмах, масштабных и планировочных регламентах. То есть, ракурс на формирование солидарного художественного образа Санкт-Петербурга так или иначе приоткрывался. Классическое архитектуроведение, замкнутое привычным кругом текстовых и графических документов, многократно убеждалось, что смыслы его предмета превращаются в принадлежность массового сознания, вызревая за пределами данного круга, в частности, в литературе, однако не признало здесь самодостаточной проблемы.
Ситуация парадоксального пробела сглаживается искусствоведением, представленным Т. В. Алексеевой, А. Н. Бенуа, Е. К. Блиновой, С. С. Ванеяном, Б. Р. Виппером, В. Г. Власовым, Н. А. Дмитриевой, Н. Н. Коваленской, Е. Б. Муриной, Г. И. Ревзиным, Ю. Р. Савельевым, Вл. В. Седовым, С. С. Степановой, Л. И. Та-руашвили и др. Сообщаясь с архитектуроведением, оно прицельно выбирает смыслы архитектуры из публицистических и художественных текстов, как делает, например, Л. И. Таруашвили, восстанавливая тектоническую символику ордера по гекзаметрам Гомера. Посредничество слова активно используется и в приграничье искусствоведения, перетекающего в философию, социологию, семиотику и пр. Эти сегменты знания, персонифицированные А. Г. Габричевским, Г. Ю. Гаче-вым, М. С. Каганом, В. Я. Проппом, П. А. Флоренским, Н. А. Хреновым и т.д., занимаются еще более интенсивной универсализацией, созидают энциклопедический фундамент науки совместно с филологией, в лице С. С. Аверинцева, Н. Я.
Берковского, В. В. Бибихина, Вяч. Вс. Иванова, А. Ф. Лосева, М. Л. Гаспарова, Р. О. Якобсона и др. Причем архитектура оказывается и частью собираемой ими монументальной картины мира, и целым, вмещающим в себя картину мира. В установках семиотики элементы миропонимания высматриваются и вычитываются там по вербально верифицируемым знакам, символам, эмблемам. В частности, чтобы разглядеть такую картину в архитектурном пространстве Санкт-Петербурга, Ю. М. Лотман, патриарх московско-тартуской семиотической школы, выдвинувшей С. Г. Барсукова, А. К. Жолковского, А. Л. Осповата, Р. Д. Тименчика, Т. В. Цивьян, Ю. К. Щеглова и др., отредактировал колоссальный массив литературных свидетельств восприятия города, задав побочную траекторию в развитии архитектурной мысли.
Само обращение семиотики к литературе как к рабочему инструменту и главному формату конституирования мировоззренческих смыслов говорит о приоритете данной оптики и универсализме филологической герменевтики. Показательно, что именно здесь, в прибежище словесности, родилась компаративистика, устраивающая диалоги, триалоги, полилоги наук об искусстве и разворачивающая картины мира. Методологическую опору для этого обеспечили эксперименты, начатые А. Н. Веселовским и продолженные М. П. Алексеевым, К. А. Барштом, М. М. Бахтиным, В. М. Жирмунским и т.д. К смыслообразующему источнику слова возвращается всякое гуманитарное знание, вплоть до когнитивных наук, дерзнувших провести параллель между мыслительным и физическим пространствами, чем занимались П. Я. Гальперин, Е. С. Кубрякова, Н. Н. Нечаев, Э. Лассан, С. А. Лишаев, В. А. Маслова, Е. С. Яковлева.
Автономный взгляд филологии проницает все. С его подачи, например, выражение Б. Л. Пастернака «мистический урбанизм» вошло в оборот архитектуро-ведения, по сравнению с которым у филологии есть завидные преимущества: ей не нужно прикладывать усилия для пошагового проявления смыслов архитектуры, которые прописаны буквально, выталкивая к легитимности идейного, эмпирического или автобиографического задела. В частности, выдающиеся ученые, возглавившие безбрежную науку о Пушкине: П. В. Анненков, Д. Д. Благой, В. Э.
Вацуро, С. А. Венгеров, В. В. Виноградов, Г. А. Гуковский, Н. В. Измайлов, А. Л. Слонимский, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский, Д. П. Якубович, – отдавали должное этому заделу в насыщении поэтических и прозаических изображений Царского Села, Санкт-Петербурга, Москвы, деревенских усадеб и т.п. В силу ряда причин, первенство здесь отдается изображениям Санкт-Петербурга и, прежде всего, образу, предъявленному максимально крупным планом в поэме «Медный всадник». Резонанс этого образа с идеями вневременного значения разъясняется А. Н. Архангельским, А. А. Белым, С. Г. Бочаровым, В. Я. Брюсовым, М. Н. Виро-лайнен, Н. В. Измайловым, Е. А. Майминым, Г. П. Макогоненко, В. В. Набоковым, В. С. Непомнящим, А. Л. Осповатом, С. С. Рассадиным, И. З. Сурат, И. М. Тойбиным, С. Л. Франком, В. Ф. Ходасевичем и т.д. Автор поэмы стал гением места Санкт-Петербурга, связываясь по умолчанию с прототипической натурой. Его изобразительная сила заразительна настолько, что вызывает интерес и к натуре, и к аналогичным фонам, объектам, деталям в других произведениях. Более того, благодаря этой силе, поток преемственных интерпретаций архитектурного пространства Санкт-Петербурга не иссякает, что располагает к разрешению проблемы взаимодействия архитектуры и литературы как образования смыслов первого во втором на материале конкретного пространства и конкретных интерпретаций.
Самая масштабная систематизация литературных интерпретаций Санкт-Петербурга была произведена в «Петербургском тексте» В. А. Топорова – в теоретическом конструкте, легализовавшем миф Санкт-Петербурга. Многоуровневый анализ мифа констатировал очевидное: новшества на невских берегах спровоцировали стихийное тиражирование редкостно схожих ассоциаций, питающих что апологетику, что критику. В определенном смысле, образ города раздвоился, отбросив от себя молву правдиву, как непомерную тень, на свободу самовоспроизведения.
Миф Санкт-Петербурга, задерживающий набегание стереотипов, поглотил усилия нескольких поколений мыслителей, от Н. В. Гоголя и В. Г. Белинского до Н. А. Бердяева, В. В. Вейдле, Вяч. И. Иванова, Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова и др.
Если с начала XVIII в. смыслы архитектурного пространства северной столицы интерпретировали поэты и художники, то с середины XIX в. историки, философы, культурологи, искусствоведы интерпретируют эти интерпретации. Во второй половине XX в. эстафету интерпретаций подхватили Н. П. Анциферов, Е. А. Вильк, И. И. Евлампиев, К. Г. Исупов, Г. С. Лебедев, Л. Морева, Л. Сальмон, Д. Л. Спи-вак, Л. Н. Столович и т.д. Их интересы определили названия альманахов и сборников: «Феномен Петербурга», «Метафизика Петербурга», «Парадигма», «Москва – Петербург: pro et contra», «Санкт-Петербург как эстетический феномен», «Символы, образы, стереотипы: художественный и эстетический опыт», «В лабиринтах культуры» и т.д. Косвенно колебания представленной здесь рефлексии: от восхваления архитектурного пространства до эсхатологических прогнозов – указывают на амплитуду оценок взаимодействия архитектуры и литературы. Условием историчности их соизмерения служит многоголосье художественной культуры, озвученное в работах К. М. Долгова, А. Л. Казина, Г. С. Кнабе, Н. А. Кормина, Д. С. Лихачева, В. В. Мартыненко, А. М. Панченко, Е. Н. Устюговой, А. Г. Щел-кина и др.
Миф не столько ставит, сколько снимает вопросы, в том числе посредством философских размышлений А. А. Гликина, И. А. Ильина, В. К. Кантора, М. К. Мамардашвили, Ю. С. Осаченко, В. А. Подороги, А. М. Пятигорского, С. Я. Сен-деровича, В. А Соловьева и т.д. К феноменологическим структурам мифа, помогающим реконструировать картины мира, обращались Р. Барт, Э. Гуссерль, Э. Кассирер, К. Леви-Строс, М. Полани, М. Фуко, К. Юнг и др., в то время как к герменевтическому потенциалу самих картин мира – Г.-В.-Ф. Гегель, М. Планк, М. Хайдеггер, О. Шпенглер, А. Эйнштейн и т.д. В частности, о герменевтических преимуществах картин мира в предметных проекциях искусства писали Г. А. Беляев, И. А. Бражников, А. И. Демченко, Б. С. Мейлах, Л. С. Пестрякова, А. С. Янушкевич и пр. Онтологические, экзистенциальные, феноменологические аспекты, актуальные для понимания архитектуры в художественных картинах мира, конструируемых литературой, затронуты в трудах Г. Башляра, Х.-Г. Гадамера,
Ж. Делёза, Ж. Деррида, В. Дильтея, Р. Ингардена, И. Канта, К. Норберга-Шульца, П. Рикёра, К. Юнга и т.д.
Объект исследования – архитектурное пространство Санкт-Петербурга в реалиях и художественных образах, созданных в литературе и изобразительном искусстве.
Материал исследования представлен архитектурой как таковой, литературой и изобразительным искусством, сфокусированным на архитектуре.
Первая часть – обстоятельства эволюции архитектурного пространства Санкт-Петербурга, объективированные его современным состоянием и доскональной научной рефлексией.
Вторая часть – беловые и черновые тексты А. С. Пушкина: художественные, критические, эпистолярные, дневниковые, деловые, – запечатлевшие нюансы понимания архитектуры, пространственные впечатления, суждения, представления, фантазии.
Третья часть – планы Санкт-Петербурга XVIII–XIX вв., скрупулезная архитектурная графика, живописные, гравированные, литографированные изображения экстерьеров и интерьеров столицы первой половины XIX в., любительские рисунки, в том числе рисунки А. С. Пушкина. Это документальные свидетельства реалий архитектурного пространства и самые выисканные ракурсы эстетики барокко, классицизма, историзма в работах Ф. Я. Алексеева, И.-В. Барта, К. П. Бег-грова, М. Н. Воробьева, С. Ф. Галактионова, А. М. Горностаева, И. А. Иванова, Дж. Кваренги, А. И. Ладюрнера, И.-Г. Майра, А. Е. Мартынова, Б. Патерсена, Ф.В. Перро, В. П. Петрова, В. С. Садовникова, Л. Тюмлинга, Н. Г. Чернецова, Ф. П. Толстого, Ж.-Б. де ла Траверса и т.д.
Предмет исследования – смыслы архитектуры Санкт-Петербурга, конституированные в русской художественной картине мира образами А. С. Пушкина.
Цель исследования – реконструировать русскую художественную картину мира, выделив в ней смыслы архитектуры Санкт-Петербурга, ее объективных сущностей: архитектонической, объемно-планировочной, стилистической.
Задачи исследования.
-
Представить концепцию литературоцентричности образования смыслов архитектуры.
-
Выделить смыслы архитектурного пространства Санкт-Петербурга, характерные для идеалистического мифотворчества русского романтизма, по произведениям А. С. Пушкина.
-
Показать смыслы архитектурной среды Санкт-Петербурга, характерные для критического мифотворчества русского романтизма, по произведениям А. С. Пушкина.
-
Реконструировать художественную картину мира А. С. Пушкина и обозначить место ассоциативного потенциала архитектуры в ее архитектонике.
-
Развернуть метафорический ресурс архитектуры Санкт-Петербурга в художественной картине мира А. С. Пушкина, предопределивший идейные границы романтизма в крайностях идеалистического и критического мифотворчества.
Методология исследования отталкивается от идеи Петербургского текста, сводимой, по мнению Р. Ходеля, к противопоставлению литературного образа города его эмпирическому бытию, с намерением доказать обратное – преемственность образа бытию, объективным сущностям архитектурного пространства. Предполагается, что эта преемственность может быть понята рационально при посредничестве эталонного русского языка, в реконструкции художественной картины мира, связывающей образ Санкт-Петербурга со смыслами его архитектуры.
Как известно, искусство снимает, конструирует образы мира. Однако можно сказать, что онтологическая претензия искусства – возвращать миру целостные образы путём его рационально-чувственной деконструкции. В таком случае, образ архитектуры – умозрительная оформленность объекта, желающая художест-
венного воспроизведения и принципиально недостижимого смыслового тождества в вербальной оформленности; смысл архитектуры – ментальная величина, участвующая в оформлении образа. Для спрямления настоящего рассуждения: образ Санкт-Петербурга – солидарный образ архитектурного пространства в переходе из эмпирической в художественную стадию и наоборот; смыслы архитектуры Санкт-Петербурга – производные от ее объективных сущностей, ищущие большего в вербальной оформленности образа. В качестве элементов такой оформленно-сти рассматриваются архитектурные топы – моменты представления городов, городских, деревенских, усадебных и садово-парковых пейзажей, домов и прочих построек, строительных конструкций, декоративных деталей и т.д.
Выбор места и способа построения методологической модели, на основе которой осуществляется реконструкция художественной картины мира, отвечает запросам и теории, и истории искусства в его целостности. Ракурс целостности предполагает существование общих закономерностей в эстетическом отражении действительности с самых разных подходов, наличие межпредметных структур в поэтике разнородных искусств. Тем самым упреждается право пересматривать одну художественность через другую, охватывать всю художественную образность, наконец, реконструировать художественные картины мира с их многообещающим герменевтическим потенциалом – в универсальной полноте, в предметных проекциях, созидаемых разными видами искусства, от лица отдельных авторов, плеяд, поколений.
Опору методологической модели представляет пересечение предметных проекций: мира, явленного в архитектуре, и мира, явленного в литературе. Для ее устойчивости в пересечение вовлекается третья, дублирующая, рефлексирующая, стабилизирующая, проекция – мир, явленный в изобразительном искусстве, включая виртуозную архитектурно-градостроительную иконографию. Это непосредственный взгляд романтизма. Согласно Э. Панофски, планы, чертежи, перспективы города представляют «логическую форму» этого взгляда, чья имитационная точность в передаче натуры сочетается с непреодолимым пристрастием к эстетическому совершенству, охотно выдающим желаемое за действи-
тельное. Данная оптика сливалась с профессиональной оптикой архитекторов и корректировала оптику прозаиков и поэтов. Поскольку для атрибуции художественности нет стандартов, отслеживание диалога между столь непохожими феноменами, как архитектура и литература, с помощью такой проекции может служить наименее грубым механизмом вмешательства в ее тонкие настройки.
Получается, что три части материала исследования образуют три предметные проекции художественной картины мира, чье пересечение необходимо и достаточно для ее реконструкции. Основным местом их расположения выбрана герменевтическая платформа компаративистики, основным способом пересечения – феноменологическая редукция, основным фактором целостности – контекст пушкинских произведений.
Принцип беспредпосылочного познания, введенный И. Кантом и разработанный Э. Гуссерлем, допускает равноправное извлечение смыслов из произведений архитектуры, литературы, изобразительного искусства, подвергаемых характерным видам анализа. Это: во-первых, историко-архитектурный и формально-композиционный анализ архитектурного пространства; во-вторых, сравнительно-исторический анализ литературной поэтики, дистанцируемый, насколько это корректно, от чисто филологических аспектов; в-третьих, иконографический анализ, сосредоточенный не на формате, а на предмете изображения как на трансляции смыслов, фундированный С. С. Ванеяном и примененный Г. З. Кагановым к веду-там Санкт-Петербурга. То есть, принципиально не верифицируемая феноменология интерпретирует результаты верифицируемых аналитических процедур. Она снимает смыслы архитектуры с письменной и иконографической рефлексии и накладывает их на биографическую схему пушкинского творчества с максимальным охватом эстетически емких процессов, центрируясь в самых чувствительных точках романтизма.
Данная модель, сориентированная примерами рассуждений А. Г. Раппа-порта как последовательного сторонника самоочевидных истин архитектуры, идеями А. В. Иконникова и междисциплинарными опытами И. А. Азизян, требует оговаривания допусков. Феноменологическая интерпретация смыслов архитекту-
ры, прослеживаемых в образах Пушкина, прорывает замкнутость синхронного им кругозора, выходя к полноте знания, которое с годами только прибывает: несмотря на то, что одни нюансы понимания образов практически утеряны, другие открываются с годами все более глубоко и тонко, в том числе в поэтике, непревзойденной по объему и полярности разночтений. При том, что смыслы, взятые из отредактированного и откомментированного собрания художественных, публицистических, эпистолярных и графических сочинений А. С. Пушкина, не тождественны тому, чем были два века назад, их актуализация имеет методологическую законность, поскольку субъективное видение, заработавшее статус классики:
– уже являет собой объективную оптику, перепроверенную непреходящей востребованностью;
– всегда опережает рациональные представления и более того, задает траектории неведомого;
– предопределяет путеводные ориентиры в искусстве.
Границы исследования – первая половина XIX в., период взлета русской литературы и реализации самых грандиозных отечественных проектов, отраженный в завершении формирования имперского облика Санкт-Петербурга и мифа Санкт-Петербурга.
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении совокупности идей и художественных практик такого глобального для России явления, как романтизм, в самой постановке проблемы взаимодействия разнородных феноменов искусства, обусловленных солидарным мироощущением. Впервые смыслооб-разующие функции архитектуры, уравненные с ее жизнестроительными функциями, рассмотрены изнутри вербального метафорообразования в качестве имманентного предмета романтической рефлексии, продолжающей доминировать в мифологическом синтезе отечественной культуры. Полученные результаты и методологическая модель, примененная к решению проблемы, открывают перспективные направления в развитии искусствоведения, архитектуроведения, культурологии, а в отдельных аспектах – и для смежных наук: философии, истории, литературоведения.
На защиту выносятся:
– Концепция литературоцентричности образования смыслов архитектуры.
Понимание архитектуры как формообразующего авангарда пространства, обладающего эстетической и этической силой внушения, артикулируется в метафоричности языка, в самом центре литературы. Смыслы, порождаемые архитектурой, образуются в конструируемых здесь художественных картинах мира. На подъеме романтизма литературоцентричные смыслы ответили онтологическим, экзистенциальным запросам общества, показав, что русская архитектура – консолидирующая часть духовной культуры, красноречивый феномен национального и мирового искусства.
– Положение о романтической норме взаимоисключающих смыслов архитектуры в литературе.
Поэтические и прозаические образы архитектуры отразили идеалистические и критические тенденции романтического мифотворчества. С ними русская архитектура познала собственную волю к гармонизации и гипертрофии неизбежных противоречий действительности, а триединство ее объективных сущностей: архитектонической, объемно-планировочной, стилистической, – помимо пропаганды банальных целей пользы, прочности, красоты, породило взаимоисключающие смыслы в интерпретации истории, в моделировании миропонимания, в мифологическом синтезе.
– Положение об историко-интерпретирующих смыслах архитектуры, раскрывающих национальную идентичность Санкт-Петербурга как всемирную отзывчивость.
Романтическая литература внушала соотечественникам, что история подбирает монументальные обличья, чтобы подчеркнуть достоинства национальной идентичности. Помимо силы, гражданственности, героизма она выделила для русской архитектуры ассоциативный потенциал духовности, призывая к всемирной отзывчивости в его освоении, к умному использованию чужих форм прошлого как истинно своих. Усилия литературы содействовали становлению кон-
цептуальной основы историзма в русской архитектуре, диагностируемого, прежде всего, архитектурой Санкт-Петербурга.
– Положение о миромоделирующих смыслах архитектуры Санкт-Петербурга, представляющих русское миропонимание в измерении власти и свободы.
Поэтика романтизма нуждалась в безотказных константах порядка, оптимального для устойчивости частей целого. Архитектура принималась в литературу, раскрывая архитектоническое устройство мира и внутреннего мира человека. Архитектурное пространство Санкт-Петербурга в художественных картинах мира А. С. Пушкина моделирует русское миропонимание по отношению к оппозиции власти и свободы, выводя ее из мирского измерения. Вертикально-горизонтальные соподчинения в представлении классического и урбанистического образов Санкт-Петербурга, связанных с гармониями и дисгармониями эволюции, подключаются к власти и свободе в метафизике бесконечности.
– Положение о мифосинтезирующих смыслах архитектуры Санкт-Петербурга, показывающих неизбывность русской утопии в выборе между волей и неволей.
Санкт-Петербург, чье архитектурное пространство признавалось воплощением принципиально не воплощаемой утопии, был сделан А. С. Пушкиным противоречивым литературным героем, после чего превратился в противоречивого героя одноименного мифа. В центре мифа – город как субъект истории, колеблющийся между волей и неволей, испытывается на жизнеспособность. С ним испы-тывается и вся русская история с ее виновностью и жертвенностью. Надежда на будущее связывается с искупительной красотой города, а также с отражением этой красоты в художественной картине мира, обладающей интерактивностью универсальных соизмерений.
Теоретическая и практическая значимость работы. Сложившееся в процессе исследования видение закономерностей порождения и образования смыслов архитектуры в литературе, обусловленности содержания этих смыслов романтической системой координат, обеспечившей преемственность исторического само-
сознания и миропонимания у создателей и интерпретаторов соответствующих объектов, должно послужить основанием для переосмысления импульсов формообразования в отечественном искусстве. Результаты исследования могут составить раздел в искусствоведении, архитектуроведении, культурологии. Кроме того, они могут способствовать модернизации методик архитектурного образования, а также обновлению профессиональной тактики в организации предметно-пространственной среды, в решении конкретных творческих задач.
Апробация исследования. Результаты исследования отражены в двух монографиях и в статьях, в том числе в 39 статьях, опубликованных в 13 изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки России, изложены на различных международных конференциях и семинарах, в частности, в МАРХИ, НИИТИАГ, УралГАХА, ПГУАС, МГУ им. Н. П. Огарева, ПензГТУ. Положения работы были использованы в лекционных курсах «История искусства», «История культуры и искусства», «История пространственных искусств», «История современного искусства».
Структура, состав и объем исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии (562 наименования) и приложения, составленного из репродукций живописи и графики (653 наименования). Первая глава служит экспозицией диссертации и представляет концепцию литературо-центричности образования смыслов архитектуры, размечая контуры ее дальнейшего содержательного наполнения. В ней позиционируется интенция смыслопо-рождения архитектуры и ее смыслообразующие функции в литературе: мифосин-тезирующая, историко-интерпретирующая, миромоделирующая. За точку отсчета каждой последующей главы берется одна из этих функций и одна из объективных смыслопорождающих сущностей архитектуры: стилистическая, объемно-планировочная, архитектоническая – и, наконец, совокупность функций и триединство сущностей.
Смыслообразующие функции архитектуры в художественных картинах реальности и в художественных картинах мира русского романтизма
Данная тема высвечивалась и попутно, вместе со ссылками на пристрастную зоркость прозаиков и поэтов, в фундаментальных монографиях и статьях И. А. Азизян, Е. Л. Беляевой, И. А. Бондаренко, А. В. Бунина, В. Л. Глазычева, А. Э. Гутнова, И. А. Добрицыной, Н. А. Евсиной, А.И. Каплуна, Г. С. Лебедевой, М. В. Нащокиной, В. И. Пилявского, А. А. Тица, Ю. С. Ушакова и т.д. В частности, в исследовании И. А. Добрицыной замечается, что «корни поэтики различных видов искусства всегда погружены в стихию умонастроений эпохи. При всем том, что поэтика архитектуры и поэтика литературы – весьма различные феномены, вполне логично предположить, что поэтика, складывающаяся как в той, так и в иной сфере, вполне сопоставима на глубинном уровне ментальной общности»4.
К содержательности архитектурных образов в литературном преломлении вплотную приблизилась Е. А. Борисова, поднявшая в числе прочего вопрос о стилистической доминанте в пушкинской интерпретации Санкт-Петербурга, которая привычно «ассоциируется с классицизмом, хотя во времена Пушкина романтизм уже завоевал позиции в русской художественной культуре»5. Наконец, то, что рус Маркузон В. Ф. О закономерностях развития и семантике архитектурного языка // http://niitiag.ru/markuz100_05.html.
Карпов В. В. Упражняя добродетель в онтологии. Герменевтика Природы у Альберти // Ис-кусствознание. – М., 2009. – № 3/4. – С. 96–117.
Пучков А. А. Поэтика античной архитектуры. – Киев: Феникс, 2008. – С. 16. Добрицына И. А. Поэтика архитектуры эпохи постмодернизма / И. А. Азизян, И. А. Добрицы-на, Г. С. Лебедева. Теория композиции как поэтика архитектуры. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – С. 340. Борисова Е. А. Русская архитектура в эпоху романтизма. – СПб: Дмитрий Буланин, 1999. ское зодчество выпало со второй трети XIX в. из обоймы государственных приоритетов, прямо отнесено А. В. Иконниковым, Е. И. Кириченко, Л. Д. Тыдманом к усилению роли изящной словесности. Главным основанием для такого вывода стали видоизменения в облике северной столицы, которому посвящены труды И. Э. Грабаря, Г. З. Каганова, Ю. И. Курбатова, В. Г. Лисовского, С. П. Луппова, М. Н. Микишатьева, А. Л. Пунина, А. Л. Ротача, С. В. Семенцова, Т. А. Славиной, А. В. Степанова, М. З. Тарановской, О. А. Чекановой, Д. О. Швидковского и т.д. Примеры экспрессивно трактованного восприятия, поэтической и прозаической рефлексии Санкт-Петербурга поддерживали анализ и художественных стилей, и объемно-планировочной организации архитектурного пространства, преемственной в геометрии, пропорциях, ритмах, масштабных и планировочных регламентах. То есть, ракурс на формирование художественного образа города, ставшего солидарным, так или иначе приоткрывался. Архитектуроведение, замкнутое привычным кругом текстовых и графических документов, многократно убеждалось, что смыслы его предмета превращаются в принадлежность общественного сознания, вызревая за пределами данного круга, в частности, в литературе, однако не признало здесь самодостаточной проблемы.
Недооценку языкового аспекта в понимании архитектуры А. Г. Раппапорт назвал презумпцией «неподсудности языковой практики» в профессии и вокруг нее, когда, с одной стороны, «каждый участник коммуникативного процесса исходит из совершено неадекватной идеи общепонятности любого – и, прежде всего, его собственного языка»1, с другой, надеется на достаточность специфического дискурса, что «ведет к еще большей путанице, так как слова теряют связь и с предметом (архитектурными сооружениями), и с опытом их понимания и переживания»2. Ситуация парадоксального пробела сглаживается искусствоведением, представленным Т. В. Алексеевой, А. Н. Бенуа, Е. К. Блиновой, С. С. Ванеяном, Б. Р. Виппером, В. Г. Власовым, Н. А. Дмитриевой, Н. Н. Коваленской, Е. Б Му 17 риной, Г. И. Ревзиным, Ю. Р. Савельевым, Вл. В. Седовым, С. С. Степановой, Л. И. Таруашвили и др. Сообщаясь с архитектуроведением, оно прицельно выбирает смыслы архитектурного пространства из публицистических и художественных текстов. По гекзаметрам Гомера, например, Л. И. Таруашвили восстанавливал тектоническую символику ордера в русле «свойственной антично-классической поэтике тенденции к выявлению стабильности предмета в его словесно-визуальном образе»1.
Посредничество слова активно используется и в приграничье искусствоведения, где занимаются еще более интенсивной универсализацией. Например, А. Г. Габричевский не столько классифицировал, сколько сплачивал феномены искусства, видя в них суть сигнала, подаваемого к «постижению образа»2. Пространство и время в его онтологии – пластические категории: пространство выражается в форме, являя статическую фазу динамического становления, а форма есть результат пластического самопредъявления пространства во времени. Искусствоведение, перетекающее в философию, социологию, семиотику и пр., персонифицированное А. Г. Габричевским, Г. Ю. Гачевым, М. С. Каганом, В. Я. Проппом, П. А. Флоренским, Н. А. Хреновым и т.д., созидает энциклопедический фундамент науки совместно с филологией, в лице С. С. Аверинцева, Н. Я. Берковского, В. В. Бибихина, Вяч. Вс. Иванова, А. Ф. Лосева, М. Л. Гаспарова, Р. О. Якобсона и др. Причем архитектура оказывается и частью собираемой ими монументальной картины мира, и целым, вмещающим в себя картину мира. В установках семиотики содержательные компоненты высматриваются и вычитываются там по знакам, символам, эмблемам, что позволило, например, проявить соотнесенности миропонимания с «политической символикой Версаля и архитектуры Брахманидов в Индии, восточно-православным храмом и символикой Дворца Советов в Москве, масонской символикой храма Христа Спасителя Витберга и библейской символикой Башни III Интернационала Татлина»3. Г. И. Ревзин констатировал, что ничего не изображающая архитектура «просто есть, и в этом смысле она никакая не картина мира, но просто мир. С другой стороны, этот мир не молчалив, подобно ландшафту, но, напротив, вовсю транслирует идеи и идеологии и в этом смысле о чем-то повествует, является картиной чего-то»1. Для того чтобы разглядеть такую картину в архитектурном пространстве Санкт-Петербурга, Ю. М. Лотман, патриарх московско-тартуской семиотической школы, выдвинувшей С. Г. Барсукова, А. К. Жолковского, З. Г. Минц, А. Л. Осповата, Р. Д. Тименчика, Т. В. Цивьян, Ю. К. Щеглова и др., отредактировал колоссальный массив вербальных свидетельств восприятия. Из описаний рядовых обывателей и профессиональных сочинителей извлекалась «гетерогенная смесь», совмещающая передовые «представления с глубоко мифологическими образами и назойливыми привычками видеть мир в его бытовых очертаниях. На этот субстрат накладываются образы, создаваемые искусством или более углубленными научными представлениями, а также постоянной перекодировкой пространственных образов на язык других моделей»2.
Даже если архитектура «никоим образом не является ни означающим, ни коммуникационным медиумом или чем-то подобным»3 и представляет, согласно У. Эко, всего лишь проверку семиотического проекта, методология, использующая литературу как рабочий инструмент, задала побочную траекторию в развитии архитектурной мысли, увлекла ее головокружительностью «семиотического по-лиглотизма», наиболее впечатляющего в северной столице. Таковой обнаруживается там повсюду – в плане, отдельных сооружениях, топонимике, обрядах, быте: «Реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный генератор новой информации»4.
Архитектурное пространство Санкт-Петербурга между современ-ностью и мифом (по материалам творчества А. С. Пушкина 1817–1827 гг.)
Архитектура нагляднее прочего свидетельствовала о необратимом приобщении России к семье «просвещенных народов», благосклонных к «непросвещенным». Стана, вчерашний медвежий угол Европы, начала коллекционировать архитектурную экзотику сама, останавливая снисходительный взгляд на всем, что не подчинялось ее династическому греко-римскому высокомерию, но имело некоторый след в истории цивилизации. Когда разные художественные формы, стянутые из всевозможных точек пространства и времени, выстроились рядом, национальная идентичность страны раскрылась вдруг в своей всемирной отзывчивости. Согласно этой отзывчивости характерный романтизм русского мироощущения начал обретать конкретные стилистические черты, отражая принцип историзма.
Ведущий для русского романтизма принцип историзма отозвался в классицистической архитектуре второй половины XVIII – начала XIX вв. уклоном в стилистический плюрализм, подразумевающий универсальную терпимость по отношению к уникальным ценностям инородных культур, всемирную отзывчивость национального самосознания.
Выступая эстетической страховкой для самых смелых творческих экспериментов, безотказный классицистический контекст выступил в качестве общеисторического и интернационального. Не случайно, даже верный интерпретатор античного наследия Дж. Кваренги захотел совместить на своей акварели Виттолов-ский канал, Башню-руину и Гатчинские ворота (рис. 2.49), а И.-Г. Майр – Кагуль-ский обелиск, Башню-руину и Концертный зал2 (рис. 2.7: 26; 2.50), на одном из барельефов которого Аполлон играл на лире, а на другом – женщины несли атрибуты искусства (рис. 2.51):
Концертный зал – Дж. Кваренги, 1781–1788 гг. Любил я светлых вод и листьев шум, И белые в тени дерев кумиры, И в ликах их печать недвижных дум. Всё — мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в мраморных руках, На главах лавры, на плечах порфиры1…
Вполне возможно, что зачарованность мраморными кумирами, всплывшая в стихотворении 1830 г., настигла поэта в Летнем саду или под влиянием запредельных дантовых фантазий. Только все сады, увиденные или воображенные им в течение жизни, были обречены отражать раскаты впечатлений от конкретной полистилистической структуры, пропитанной романтизмом античности, в которой, например, не возникало вопросов, для чего миниатюрная Кухня-руина изображает заброшенный римский храм (рис. 2.7: 27; 2.52; 2.53; 2.54). Напротив, все знали, что именно так и нужно, и что для этого из Италии были доставлены ветхие куски коринфских и композитных капителей, фризов, карнизов. При этом никого не смущало то, что Кухня-руина соседствовала как с кариатидами Вечернего зала2 и погребальной урной А. Д. Ланского (рис. 2.7: 28, 29; 2.55), так и с ложно-китайскими ярусами, позолоченными драконами и агрессивно загнутой чешуей Скрипучей беседки3 (рис. 2.7: 30; 2.56; 2.57).
Стилистический плюрализм архитектурного пространства, являющего «феномен творимой жизни... на игре различий, на переходах границ туда и обратно»4, фиксируется на многих листах Кваренги-акварелиста. Рафинированный вкус не помешал маэстро вписать Скрипучую беседку в классицистический фон из Зубовского флигеля Екатерининского дворца, Кагульского обелиска и Камероновой галереи, а также в виды Александровского парка, который начинался за Вечерним залом и Скрипучей беседкой, через Подкапризовую дорогу:
ПСС: В 10 т. В начале жизни школу помню я. – Т. III. – С. 190. Вечерний зал – П. В. Неелов, Л. Руска, 1796–1811 гг. Скрипучая беседка – Ю. М. Фельтен, 1778–1786 гг. Берковский H. Я. Романтизм в Германии, Л.: Художественная литература, 1973. – С. 425. И часто я украдкой убегал В великолепный мрак чужого сада, Под свод искусственный порфирных скал1.
Подкапризовая дорога пролегала под сводами Большого и Малого капризов2, двух искусственных гор (рис. 2.7: 31, 32). Названия этих объектов говорили за себя – смыслы привносились сюда со стороны. Так, китайский венец Большого каприза, восемь колонн розового мрамора на семиметровой вышине с изящно выгнутой кровлей (рис. 2.58; 2.59), стал для юного поэта пустынным приютом любви3.
Оба Каприза и Скрипучая беседка предваряли большой розыгрыш китайской темы в южных боскетах Нового сада (рис. 2.60; 2.61). Там появилась Китайская деревня (рис. 2.7: 33) с Большим, Крестовым и Железным мостами4 и домиками наподобие фанз (рис. 2.62; 2.63; 2.64). И это при том, что из центра Нового сада, близ спирального Парнаса5, упредившего пришествие парнасского народа6 (рис. 2.7: 35), начиналась палладианская композиция Александровского дворца7 (рис. 2.7: 34). Каре, поставленное на ось, перпендикулярную к главной оси дворцово-паркового комплекса, открывалось сзади – ротондой, вынесенной аккордом ступенчатых уступов (рис. 2.65). Парадный фасад дворца оформляла двойная колоннада коринфского ордера, дефрагментируя габаритный контур, оставляя на месте изымаемых кубатур безмятежную гладь больших и малых флигелей и свидетельствуя об органичном вживлении объекта в окружающую среду (рис. 2.66; 2.67).
Адаптация идеалов к реалиям экстерьеров и интерьеров Санкт-Петербурга (по прозе А. С. Пушкина)
23 мая 1827 г. А. С. Пушкин третий раз в жизни вернулся на брега Невы после большого перерыва. Известно, что накануне он попросил прислать ему план города, в котором не был семь лет. Скорее всего, это был гравированный план 1825 г. с обрамлением из двадцати знаковых пейзажей и тонировкой территорий, затопленных во время последнего из катастрофических наводнений (рис. 3.1; 3.2). Что именно вычитывалось из презентуемых линий и пятен, неизвестно. Однако отношение к их информативности уже было сформулировано:
Как с облаков ты можешь обозреть Всё царство вдруг: границы, грады, реки1. Волнение рядового обывателя в аналогичной ситуации будет описано через шесть лет: «Ныне, покидая смиренную Москву и готовясь увидеть блестящий Петербург, я заранее встревожен при мысли переменить мой тихий образ жизни на вихрь и шум, перед отъездом в столицу ожидающий меня; голова моя заранее кружится...»1. Иначе, миф о Санкт-Петербурге как о самостоятельной субъективной воле сохранял свои позиции в 1830-е гг., пусть, и в иронической ретрансляции. Город сам по себе подчинял и навязывал. Людям, попавшим в зависимость от него, приходилось, например, соблюдать «самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург»2.
Поэт поселился в гостинице Демута, на углу Невского проспекта и Мойки, в скромном двухкомнатном номере с окнами во двор (рис. 3.2: 1). Еще четыре года, он будет то и дело уезжать и приезжать обратно по причине гербовых забот3, но не только. Здесь аккумулировались способствующие творчеству разнородные силы, органичная взаимосвязь которых неоднократно подчеркивалась. Сохранилось предание, согласно которому Пушкин, разглядывая картину К. П. Брюллова «Итальянское утро», уподобил собственное мастерство прославленному мастерству ровесника: «Кисть как перо: для одной глаз, для другого – ухо... Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих – и все начали писать хорошо»4 (рис. 3.3).
Произведения на посещаемых художественных выставках свидетельствовали не только об уровне ремесла, но и о философском, эстетическом уровне осмысления действительности. Собственно, о последнем у живописцев и графиков можно было судить уже по организации рабочего процесса. В частности, бывая у О. А. Кипренского, В. М. Ваньковича, А. О. Орловского, поэт видел в их предметном окружении отношение к культивируемому идеалу: кому-то требовалась поддержка верных греческих богов, кому-то – натура буквально с улицы или сама улица в качестве натуры (рис. 3.4; 3.5; 3.6). Если на рубеже XVIII–XIX вв. книжные лавки столицы торговали, в основном, подражаниями Д.-Б. Пиранези, то с 1816 г. – видами Санкт-Петербурга. Скрупулезно точные рисунки А. О. Орловского, А. П. Брюллова, К. Ф. Сабата, С. П. Шифляра, В. С. Садовникова и др. тиражировались в литографиях С. Ф. Галактионова, К. П. Беггрова, К. И. Кольмана, И. А. Иванова и т.д. Как писал Г. З. Каганов, они «висят на стенах, украшают почтовую бумагу, абажуры, посуду, появляются даже на оконных занавесках»1. Популярность литографий говорила как об интересе к предмету, так и об интересе к его представлению. Бывало, смотр литографий на светских вечерах поглощал внимание гостей настолько, что заменял общий разговор2.
Инерция идеального в восприятии действительности, «выходящей за пределы искусства»3, не отвечала ее сложности. Этические противопоставления, обуславливавшие у А. С. Пушкина эстетическую целостность архитектурного пространства Санкт-Петербурга, не вмещались в русло идеализации, что обрело контуры самостоятельной темы в произведениях 1827–1837 гг.:
Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит4...
Стройный вид, скука, холод и гранит – свидетельства эстетики архитектонической целостности и романтически двойственного отношения к ней. Как полагал В. В. Виноградов, о романтизме произведения можно говорить, если его тема «субъективно повертывается в сторону разных предметов и лиц, эмоционально притягивает их к себе и как бы сливает их с собой, обнаруживая сложность и эластичность своего смыслового содержания»5.
Столь разнородные производные города указывали как на город, так и на горожан. Тем самым они представляли не столько безотносительное к человеку архитектурное пространство, сколько архитектурную среду. В. Л. Глазычев писал: «В отличие от города-пейзажа, великолепно отображаемого живописью, города-калейдоскопа, запечатляемого фотографией, города-процесса, доступного средствам кино, среда как таковая воспринимается всеми чувствами сразу. Всякая попытка ограничиться только зрительными впечатлениями заведомо неполна, и только литература выработала за тысячи лет своего развития художественные средства трансляции тотально чувственного восприятия среды»1. В современном понимании именно среда расправляет многообразные резервы пространства в полноте чувственной данности, неся в себе и «топологически противоположный смысл: середина, сердце. В этом слове центр и периферия, внутреннее и внешнее даны неслиянно и нераздельно»2.
В восприятии лирического героя архитектурное пространство инертного города, пышного с лицевой аристократической стороны и бедного с изнаночной демократической, окончательно очеловечивалось, становилось архитектурной средой, оживляясь маленькой ножкой и локоном золотым – не метафорами как таковыми, а полнотой метафорических противопоставлений. Как писал С. Г. Бочаров, противопоставления сначала «располагаются рядом на плоскости как несвязанные контрасты, вторая же половина пьесы обращает плоскостную картинку в объем. ... Милый малый масштаб совершенно уравновешивает огромную панораму и оправдывает ее. Поворот картины – и мы проникли за внешний фасад, за которым открылась теплая жизнь, и недаром она является на грандиозном фоне в малых деталях…»3.
Власть и свобода в архитектонике архитектурного пространства Санкт-Петербурга (по стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и другим произведениям А. С. Пушкина)
Возможно, без свободы, обретенной в Крыму и на Кавказе, А. С. Пушкин не познал бы исторического и нравственного смысла вертикали. Свобода в бесконфликтной архитектонике гор и горных поселений, перекроила его восприятие горизонтального мира. Однако, спустившись вниз, поэт вернулся к рукотворным вертикалям простора. В частности, он очутился между вертикалями столицы, необходимость которых Гоголь объяснял тем, что с их вершин мы не просто озираем дали, но «строим в этом дальнодействии взгляда прошлое и тем самым исто рию мира»1. В целом архитектура Санкт-Петербурга, как полагали Н. А. Кормин и В. В. Мартыненко, и задает эту «надмирную точку наблюдения»2.
Вертикали плоского города стали, с одной стороны, удовлетворением его потребности в живописном ландшафте, с другой – красноречивыми жестами дальновидной мифологии России, тревожащей романтиков необходимостью самоопределения по отношению к свободе и мирской власти как препятствию к свободе:
Но у подножия теперь креста честного, Как будто у крыльца правителя градского, Мы зрим поставленных на место жен святых В ружье и кивере двух грозных часовых3.
Считается, что восприятие вертикального ритма, нарастающего в архитектурном пространстве, отражая «образно самый процесс строительства»4, является рейтинговым фактором позитивности места. Вертикальный ритм в Санкт-Петербурге задавали культовые сооружения, взмывающие в вышину, башнеобразные объекты гражданского назначения, праздные знаковые столбы. Последние как пластические метафоры власти над горизонтальным миром были особенны тем, что поднимали данный смысл на технически возможную высоту. В соответствии с кодексом классицизма таковой зависал и в экстерьерах, в интерьерах города (рис. 4.40; 4.41). Ради его внедрения в массовое сознание деревянный обелиск перед Казанским собором имитировал благородный монолит (рис. 4.2: 1; 4.42), памятник А. В. Суворову в обличье бога Марса5 мигрировал с севера на юг Марсова поля (рис. 4.2: 2; 4.43), а четырнадцатиметровый обелиск П. А. Румянцеву-Задунайскому, в военных трофеях и с орлом на верхушке6, – с юга Марсова поля к
Академии художеств (рис. 4.2: 3; 4.44; 4.45; 4.46; 4.47). Развивая уникальную типологию триумфальных сооружений, столбы, колонны, обелиски с идеальным совпадением символических и художественно-композиционных функций явили образцовую для остальных городов отечества петербургскую традицию, что фиксировалось вездесущей поэзией. Об этом, например, говорили оба «Воспоминания в Царском селе» с Кагульским обелиском, Чесменской колонной и Морейским памятником подвигу И. А. Ганнибала.
Самой заметной шкалой измерения мирской власти и свободы в творчестве Пушкина стал монумент на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, поставленный в честь победы в Отечественной войне и победителя Александра I. Во всяком случае, именно этот монумент привлекает внимание исследователей как главный прототип противопоставления памятнику нерукотворному:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа1.
Закономерно, что роль России в победе над Наполеоном потребовала нового мифологического синтеза, который осуществился в традициях архитектурного пространства, где ампир, романтичный выдох классицизма, не скрывал амбиций по совершенствованию мира. В некотором смысле, художественный стиль объекта на столь ответственную роль обрекался стать стилем мифологии мирской власти, ознаменовать собой планомерно внедряемую государственную идеологию.
Идея триумфальной колонны как центрирующей оси Дворцовой площади принадлежала К. И. Росси (рис. 4.2: 4). Энергично объединяя пустынную площадь, маэстро раскрыл полуцилиндрический сегмент Генерального штаба к фрон-тали Зимнего дворца и вывел Большую Морскую улицу через поворот трех грандиозных арок на поперечную дворцовую ось (рис. 4.2: 5, 6, 7). В «проектах планировки площади еще в 1819 г.»2 было решено, что усиление горизонтальной оси нужно закрепить вертикальной осью (рис. 4.2: 4, 5, 6; 4.48). Циркульный очерк арочного проема, вписанный до упора в землю, повторенный в вертикальных плоскостях двух других арок и мягко отраженный в горизонтальном изгибе почти семисотметрового корпуса, явился совершенной рамой, которая, однако, не показывала ничего, кроме отодвинутого вглубь фасада Зимнего дворца (рис. 4.49; 4.50; 4.51). Полученному полузамкнутому пространству не хватало мощного начала, структурирующего его по горизонтали и вертикали. Композиционно оно просилось и со стороны Мойки, и на выходе с Невского проспекта, и от Адмиралтейства, и изнутри (Рис. 4.2: 8; 4.52; 4.53; 4.54; 4.55; 4.56).
Задачу остановить бессодержательную пустоту Дворцовой площади, почти улетающую в бесконтрольном кружении, посадкой на вертикальную, победную, ось выполнил О. Монферран. Он же трактовал ее стилистически. Перечень ориентиров для этого варьировался в журнальных и газетных публикациях с начала 1830-х гг.: «колонна Помпеева в Александрии, колонна Пантеона в Риме обелиск на площади Святого Петра, обелиск Александрийский, или игла Клеопатры, колонны Исаакиевского собора»1. Объект, позиционируемый в качестве носителя государственной идеологии, встраивался в этот ряд. Его стиль, синтезирующий, по определению Б. Р. Виппера, «в некоем зримом художественном единстве всю историческую специфику архитектуры, духовную и материальную»2, был предопределен.