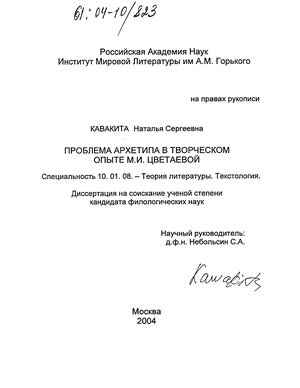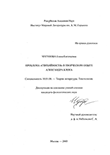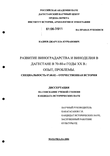Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Теория архетипов как объект и способ литературоведческого исследования стр.20
Глава 2 Архетипы в образности М. Цветаевой, соотносимые со сферой эмпирического существования стр. 60
Глава 3 Архетршы в образности М. Цветаевой, соотносимые со сферой над-эмпирического существования стр. 132
Заключенрїе стр. 179
Список использованной литературы
- Теория архетипов как объект и способ литературоведческого исследования
- Архетипы в образности М. Цветаевой, соотносимые со сферой эмпирического существования
- Архетршы в образности М. Цветаевой, соотносимые со сферой над-эмпирического существования
Введение к работе
Универсальными могут быть не только научные понятия, но и конкретно-непосредственные творческие решения. Они вырабатываются сугубо личными усилиями, но в явной соотносимости с искусством слова самых разных времён и народов. На языке классической диалектики, они обнаруживают в любом отдельном и особенное, и всеобщее.
Когда Лев Толстой сравнивает свою эпопею с древним Гомеровым шедевром, и наука считается с этим1, мы убеждаемся в серьёзности сразу нескольких обстоятельств: 1) что писатели имеют право и основания предполагать и искать своё родство друг другу; 2) что это родство вполне реально при сколь угодно крупных расхождениях; 3) что наука, удостоверяя повторяемость, совершенно положительно строга и точна.
Вблизи науки, в наукоподобных выкладках возможно допущение: не каждая эпоха нуждается в том, чтобы её достоверное воссоздание или увековечение искусством прибегало к помощи универсально распространённых образов — давно испытанных, намеченных или обозначившихся исподволь решений.
Например, склонность к такой опоре может быть приписана, как эксплуатация «чужого», временам скудным - или говорить о скудости литературных стихий, которые этим временам служат. Аналогично, такая склонность может быть усмотрена за художниками, которые обделены самобытностью видения либо воображения.
По-иному, в уже обозначенной логике, соотносят себя с универсальным историко-литературные эпохи другого рода. Это эпохи, которым дарована высокая и богатая собственная насыщенность. В этих условиях самобытно продуктивно общество, и ярко беспрецедентны его художественные достижения. В силу собственной полноты времени, искусству для решения крупных задач менее всего нужна опора на далёкий, когда-то ранее опробованный опыт. Если он и оправдал себя, то лишь однажды. Он должен
быть сочтён, при подобном подходе, за устаревший и непригодный. И прибегающий к нему писатель должен быть уличён как эпигон не потому, что преемственность ему не по силам, а потому, что она в принципе излишня.
Однако есть основания отнестись с наибольшим доверием к иной логике, а по существу к иной теории и методологии оценок преемственности.
Ведь если взглянуть на эпохи, наделённые особой или чрезвычайной исторической ёмкостью, то в них вполне можно обнаружить, как преемственные связи и проявляются, и не противятся своему удержанию. Это идёт на пользу самим эпохам.
Связь нового с фундаментальным в кризисах и катастрофах может быть спасительна. Она по крайней мере обеспечивает самый общий азимут, указывающий издалека и вперёд. Даже надломы и разломы вписывают себя тогда в общий опыт человечества, и выраженное при этом некое давнее, всемирное (универсальное) устремление служит тяжёлому времени перспективой и поддержкой. В катастрофически надвигающемся новом тогда находят не без оснований реализацию, хотя бы и не вполне зрячую, извечных устремлений народа (народов); человеческой личности («человека в принципе», гражданина, человека и гражданина); человечества в целом.
Искусство свидетельствует об универсальности отдельного выбором соответствующих художественных средств. Оно прибегает ко всемирно значимому, и всеисторически, если так можно выразиться, пригодному — либо даже повсеместно и издавна опробованному образному репертуару. Этот репертуар - достояние подчас многих национальных культур - либо же, в крайнем пределе, всех культур мира. Его образуют «традиционные, возвращающиеся образы».
Начало XX века в России являет собою весьма выразительный, вполне наглядный образец всемирной содержательности «локального». И когда Горький писал о Буревестнике, его отклик на положение именно в России
уже самой панорамой (море - небо, «между тучами и морем») мог намекать на всемирность происходящего или готовящегося.
Возможно, этот «космизм» был стилевой гранью избранного писателем притчевого или «эзопова» языка: рисуя бурный мир, писатель осторожно подразумевает Россию. Маяковский, ближе к Октябрю, прямо и открыто грозил прежде всего старой России как таковой. Именно она «пропахла ладаном» - и, естественно, «я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски»; однако «Мистерия-буфф» с её «ковчегом» и т.п. открыто говорит о российской буре как всемирном потопе, что не лишено оснований.
То же и у современников Горького и Маяковского. Для Пастернака русская революция - «Жанна д'Арк из сибирских колодниц»: она ведёт всемирную ноту, за красноречивым здесь сращением русской и французской символики - чуть ли даже не сопряжённость Востока и Запада (её же по-своему, но снова в древних измерениях, отмечал «Скифами» ещё в 1918 году Блок). Революция, как ранее петровские времена — это Апокалипсис или страшный суд, то есть опять нечто всемирное (это есть и у Розанова, и у далёкого ему Платонова). В картине Революции находится место и апостолам (в обмотках, в «шинелишках солдатских» и при «ружьецах»), и нежному Христу (как у Блока в «Двенадцати», отчасти у Андрея Белого). А для многих это ещё и напор-натиск вторгающихся в современность издалека «бесов» — что предлагается обнаружить через хореический финал «Двенадцати». Здесь же - то есть в сходной манере восприятия - опять может мерещиться вступление в свои права Антихриста - то есть величие с обратным знаком, но всё равно вселенских масштабов. Универсальность этого образного репертуара бесспорна.
Кроме того, сродни российскому самоопределению в истории оказывался, при восприятии этих борений со стороны литературы, образ корабля, застигнутого штормами, доступного штормам, испытуемого штормами. На это указывает, много веков после грека Алкея либо римлянина Ювенала, «Капитан земли» Сергея Есенина. (Разумеется, тут налицо
наследование и Пушкину с его гимнами шкиперам и кормчим обновляющейся России - среди них и престолодержатели, и тираноборцы.) Ко всемирной палитре красок прибегла и литература гражданской войны. В связи со столкновениями и крушениями судеб, с драмами идей и путей стало возможным говорить о новых Гамлетах, Дон-Кихотах, Одиссеях.
Здесь — повсюду — важно не богатство и не прихотливость художественной фантазии как таковой, а её весьма значительная однородность и, главное, её очевидная мотивированность как социальной историей, так и историей литературы.
В качестве настойчиво и мотивированно воспроизводимого в истории литературы её теория уже давно выделила такую категорию, как «вечный образ» (по более осторожному обозначению И.М.Нусинова, «вековой образ»)3.
Наиболее радикальная концепция универсальности связана с известными воззрениями греко-римской античности. Универсальное здесь в буквальном смысле сверхисторично, предисторично либо внеисторично. Творчество следует памяти, являет собою воспоминание-припоминание. Эта память направлена, однако, не на предшествующий опыт, а на идеальные праобразы, заданные и существующие, в статусе высшей реальности, ещё до какого бы то ни было своего воплощения в чём-то вещном либо в слове искусства. Так видел истоки творчества - воспоминания Эсхил в «Прометее», указал на это и Платон в своей поэзии (стихи об Афродите и её статуе), а также с ещё большей обстоятельностью в своём философском учении. Овидий в «Метаморфозах» - «вдохновение влечёт воспеть воплощение образов в новые тела» - планомерно и пространно развил именно такой взгляд.
Просвещение не менее сильно, чем живопись Ренессанса, продвинуло литературу к образцам греческой античности; оно в изобилии представило и увлечения универсальным в природе человека (Гердер и Гёте). Эпоха романтизма не менее настойчиво обращалась к идеям универсального и
универсалий. По письму П.Я.Чаадаева к А.С.Пушкину (от 18 сентября 1831 г.), это выглядит так: «начиная с индейца Вальмики и грека Орфея, до шотландца Байрона, всякий поэт принуждён был доселе повторять одно и то же, в каком бы месте света он ни пел»4.
Место некоего изначального «небесного» набора праобразов, исчерпывающих возможности поэта, здесь, возможно, как раз и занимает идущая от Просвещения идея существенного родства наций - любых наций в любые эпохи. Поэтому, и в этой мере, однородна и их художественная активность. В любом случае, слова «принуждён был» звучат настолько решительно, что творческая свобода поэта словно отводится в сторону -особенно вразрез с тем, что готов был предоставить поэзии романтизм. В конце русской романтической эпохи А.К.Толстой компенсировал это призывом к деятельной воле самого художника. Подлинный артист ищет в репертуаре вечного своё собственное вполне целеустремлённо, но сама идея вечного как предвечного сохраняется. (Такова теория творчества, изложенная А.К.Толстым в «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель...», 1857.)
Гораздо более уравновешенными выглядят представления реализма. В мышлении Льва Толстого идеалистическая апелляция к предвечно заданному свыше отсутствует. И если это не мешало писателю, как мы помним, сравнить свою «Войну и мир» с «Илиадой», то природа соотносимости для него в другом. Толстой стремится не столько ввысь, сколько вглубь. Подобие разных художественных решений у разных авторов закономерно и для него, оно ему дорого и драгоценно, однако обеспечивается иначе.
«Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее»5. Отнесение сходств не к горнему миру праобразов и первоидей, но к единству человеческой сущности, «общей всем», для реализма весьма характерно.
Однако и единство человеческой сущности способно иметь различные толкования. В их числе и абстрактное понимание «человеческого рода», как это было свойственно Просвещению, и религиозные толкования родства
людей и народов, и материалистические объяснения однородного в сущности наций как обществ, и физикалистски-биологизированные интерпретации человеческих свойств.
Толкования последнего типа в новейшее время предлагались весьма активно (хотя к физико-биологическим аргументациям, в соединении с вульгаризированным социологизмом, прибегают и доктрины, рассекающие единство человеческой культуры по т.н. «тендерному» признаку, обосновывается легитимизация «андерграунда» и т.п.).
Ряд направлений в науках о человеке утвердили себя в XX веке новой постановкой вопроса о явном диктате сверхисторического, внеисторического и досознательного, который лишь и обеспечивает культуре целостность.
Зигмунд Фрейд настаивал на фатальности и всеобщности болезненных психических комплексов, способных однообразно проявляться в опыте любой человеческой личности. Овладевая духовным миром индивида, эти комплексы могут роковым образом влиять на художественное творчество человека. Отвергший клинический фатализм Фрейда швейцарский психолог Карл Юнг взглянул на общность данного человечеству репертуара иначе. Эта общность коренится не в больной психике индивидов, а в естественно мощной, сложившейся за тысячелетия стихии «коллективного бессознательного». Согласно гипотезе Юнга, именно эта стихия задаёт человечеству образцы-архетипы, которые, попадая в поле сознания с его особыми возможностями, регулируют отношения с миром и для отдельной личности. Такие ориентиры человек получает и для своей практической деятельности, и в сфере сверхэмпирической, мировоззренческой.
Не без решительного - и решающего - воздействия такой регламентации оказывается и художественная деятельность человечества. Как свидетелю крупных исторических драм истекшего столетия, К.Г. Юнгу была явлена и суровая диалектика категории «коллективного бессознательного». Оно могло быть слепым и разрушительно изменчивым инстинктом толпы, а могло и обеспечивать как обществу, так и личности
уравновешенно-спасительный путь. И даже в случае разлада между личным и общим опыт множества поколений оставлял для индивида возможности оздоровительного роста. (В литературе России XX века обе эти возможности засвидетельствованы, через судьбу казачества, монументальной эпопеей М. Шолохова.)
Сугубый теоретизм и высокая абстрактность понятия о предельно общем типе, «чертеже» и схеме не исключает возможности проиллюстрировать ощутимость схематического житейски наглядно. Если собственно художественные персонажи драмы Шиллера «Коварство и любовь» - живые лица и живые образы (отец и дочь Миллеры, кознодей Вурм), то заглавие той же драмы, которое тщательно и разумно ориентирует читателя, представляет отвлеченные категории. В сравнении с полноценно живыми образами, эти коварство и любовь есть подобие архетипических характеристик, причем взятых именно из области психологии человека. Многогранной личностью и полновесным образом является и Отелло в реалистической трагедии Шекспира; отвлеченные же Ревность (или Зависть, или Смерть) как персонажи средневековой «школьной драмы» тяготеют к архетипической схематике и воспроизводят ее с рационалистичным, хотя и простодушным буквализмом.
Оба приведенные примера представляются полезными для теории. Они свидетельствуют о следующем: 1) что и типизированная схематика способна нести содержание; 2) что восхождение к образу от схемы есть реальное свойство литературы; для искусства оно не менее характерно, чем трансформация «вечных образов» или освоение разными авторами общих мотивов (которые лишь для фрейдизма неизменно патологичны).
Очевидно, что образ, созданный абсолютно произвольной фантазией, без каких либо реальных источников, - либо немыслим, либо обречен на бессодержательность. Так, между прототипом и образом-портретом реального лица в искусстве разница может быть значительной, а образы с общим прототипом могут различаться (Сталин у Булгакова и Сталин у
Михалкова или Гроссмана). Но если между тем и другим совсем нет
соотнесенности, то предложенный художником образ тяготеет к абсурду
(«Госпожа Ленин» у Хлебникова). Художественные построения, лишенные
полностью архетипического компонента, едва ли возможны. Но едва ли
достаточно и понимание архетипики, ограниченное чисто житейскими
представлениями о психологии человека (о тех же любви или коварстве, а в
случае Плюшкина и Собакевича - бытовыми понятиями о скупости и
жадности, и т.п.).
Поэтому гипотеза о значимости архетипов для искусства не лишена
смысла. Для художественной деятельности человечества архетипика
представляет не набор раз и навсегда готовых решений, а то, что по аналогии
с языком и речью человека можно считать неким подобием «тезауруса» -
словаря исходных корней, которые и вступают в живом росте языка в
бесчисленные, все новые и новые и продуктивные смысловые соотношения.
Изобилие вероятных смыслообразующих возможностей в таком бытовании
архетипики велико, и лишь абсолютизация ее исходного содержания привела
бы науку к абсурду. (В свое время структурализм не без основания упрекали
в том, что для него, в пределе, текст и язык суть не что иное, как «особым
образом организованный алфавит».)
Итак, если архетипическое - не только конструкция отвлеченной
мысли, но и исходная реальность художественного процесса, особенно
очевидная, когда этот процесс рассматривается в предельно широких
исторических рамках, то учения об архетипах достойны быть предметом
описания и теоретического осмысления.
***
В русском литературоведении конца XIX в. возникло направление, в котором специфика феноменов искусства выводилась также из психологии творящей личности. А.А.Потебня трактовал процесс понимания (в том числе и понимания художественного текста) как субъективный психологический акт, а его содержание (идею) - как совокупность мыслей, вызванных в
читателе образами произведения. Д.Н.Овсянико-Куликовского интересовала прежде всего психология творческого процесса. Личность в целом (и творческую - в частности) ученый определял как синтез всех элементов и процессов психики.
К литературоведению обращаются отечественные психологи, в частности Л.С.Выготский. В работе «Психология искусства» ученый проанализировал ряд произведений литературы (среди них - «Гамлет» Шекспира, «Легкое дыхание» Бунина и др.), пытаясь выявить закономерности психологического воздействия тех или иных художественных образов и композиционных приемов на сознание читателя.
В последней трети XX - начале XXI века заметной вехой стало развитие в отечественном литературоведении герменевтического направления, с его теорией т.н. имплицитных смыслов. Использование данных психологии рассматривается в его рамках как средство проникновения в глубинные пласты скрытых смыслов произведения. Ряд отечественных ученых-филологов говорят, что это сулит немалые возможности как в сравнительном изучении литературы, так и в историко-литературных изысканиях.
Осознавая и намечая круг проблем, которые могут быть решены в рамках методологии, опирающейся на данные ряда наук, необходимо учитывать ограничения, накладываемые спецификой любой из этих дисциплин. Так, литературоведение способно лишь к очень ограниченному проникновению в ту область, которая связана непосредственно с психологическими сторонами художественного творчества. Для психологии же недоступной является сущностная природа искусства, самый изощренный психоанализ никогда не ответит на вопрос, что есть искусство (литература в частности) само по себе; ответ на этот вопрос нужно искать в области эстетики. Это ограничение вполне осознавал сам Юнг, отвергая фрейдовскую культурологию.
Совмещение литературоведческого анализа с использованием данных психологии осуществлено на практике рядом зарубежных и отечественных исследователей. Среди них Н.Фрай («Анатомия критики»), М.Бодкин («Архетипические образцы в поэзии»), Р.Ахметшин («Аналитическая психология» К.Юнга и рассказы А.П.Чехова»), А. Майкова («Интерпретация литературных произведений в свете теории архетипов Карла Юнга»). Интерес к архетипическому в искусстве характерен для современного литературоведения. Ю.Лотман выделяет ряд архетипов в произведениях Пушкина, Ю.Манн - в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», «Тарасе Бульбе» и петербургских повестях Гоголя. М.Бахтин, Е.Мелетинский, В.Топоров исследуют архетипический пласт творчества Достоевского. Но, возможно, наиболее примечательной работой, ищущей и вскрывающей в русской литературе архетипические пласты и элементы, является мсследование Б.М. Гаспарова «Поэтика «Слова о полку Игореве»» (1984, Вена). Число выявленных в образности «Слова» тропов и других поэтических решений, имеющих мифологично-архетипическую природу (и подчас едва ли осознаваемых как архетипичные самим создателем произведения), чрезвычайно велико. По мнению исследователя, мифологический архетипизм «Слова о полку Игореве» своей насыщенностью даже отодвигает на второй план историческую конкретику песни о битве русских с половцами. На наш взгляд, это едва ли колеблет классическую формулу о сущности «Слова» (призыв к объединению как раз перед монгольским нашествием); и не исключено, что и сам объем массивов архетипического, определенный в исследовании, несколько гипертрофирован. Однако и половины того, что предложено в качестве образности, растущей из архетипов и складывающейся в стройную систему, достаточно для того, чтобы признать внимание к архетипике небесполезным для науки. Архетипическая насыщенность и стройность «Слова» в сравнении с той схематикой и фрагментарностью, которые в этом же отношении характерны для
«Задонщины», явственно говорят в пользу подлинности и древности первого памятника и подтверждают вторичность произведения XIV века.
Архетипически ориентированные исследования - немаловажное средство познания поэзии. И естественно, что ученые-цветаеведы также обращаются к проблематике архетипического. (В случае М.И. Цветаевой это дополнительно поддержано тем обстоятельством, что, по К. Юнгу, творческие натуры именно экстатически-визионерского склада наиболее расположены к восприятию древнейшей архетипики.)
Польский исследователь Е.Фарыно в монографии «Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» - «Царь-Девица» — «Переулочки»)6 делает вывод о том, что Цветаева-художник позволяет соотносить ее образность с исходными для культуры мифологическими сюжетами. В 1970-х - 1990-х годах были выполнены цветаеведческие исследования Ю.Лотмана («Анализ поэтического текста»7), М.Гаспарова («Поэма воздуха» М. Цветаевой: опыт интерпретации» ), О.Ревзиной («Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М. Цветаевой»9, «Горизонты Цветаевой (Анализ цикла «Куст»)»10). Обобщающим можно назвать монографическое исследование С.И.Ельницкой («Поэтический мир Цветаевой: Конфликт лирического героя и действительности»11), где своеобразие лирического героя поэтессы ищется на уровне глубинных праобразов и с помощью центральной оппозиции «истинное» - «неистинное» обнажается диалектика поэтического мира Цветаевой.
Ряд западных исследований об устойчивых признаках цветаевской поэзии обнаруживают переклички с определенными аспектами проблематики, разработанной К.Юнгом. Речь идет о следующих работах: Jane A. Taubman «Tsvetaeva and the Feminine Tradition in Russian Poetry» ; Scotto P. «Towards a Reading of Tsvetaeva's Phenics»13; St.Sandler «Embodied Words: Gender in Tsvetaeva's Reading of Pushkin»14; и др. К сожалению, некоторые работы подобного характера представляют собой скорее иллюстрации к т.н. тендерной теории, чем самостоятельные изыскания. В таких статьях, как
«Мать-Природа против амазонок» (Д. Бургин15), «Бог-Дьявол Цветаевой» (Л.Фейлер16) не соблюдены этические принципы интерпретации, - что в общем характерно и для «гендерных» исследований. Выгодно выделяется на этом фоне объективная и аргументированная работа Е.Лавровой «Поэтическое миросозерцание М.И. Цветаевой» , вышедшая на Украине.
Термин «архетип» в широком смысле начал использоваться при анализе цветаевской поэзии в 1990-х годах.
Одной из первых его употребила Laura D.Weeks в работе «I Named Her Ariadna»: The Demetres - Persephone Myth in Tsvetaeva's Poems for Her Daughen>18. Архетипические черты Богини-Матери выделила в структуре образа Царь-Девицы исследовательница А.В.Сухова («Ритуально-мифологическая архетипика образа Царь-Девицы в одноименной поэме М. Цветаевой»19). Н.О.Осипова в докторской диссертации «Художественный мифологизм творчества М.И. Цветаевой в историко-культурном контексте первой половины XX века» продемонстрировала возможность вычленения архетипического на нескольких уровнях: мотивном; образно-смысловом; сюжетно-жанровом. Аналогичного подхода придерживается Ю.В.Малкова. Построив определение архетипа на базе дефиниций К.Юнга и Е.Мелетинского, исследовательница предпринимает попытку рассмотреть многоуровневый мифологизм как основу поэтики Цветаевой (кандидатское диссертационное исследование «Своеобразие мифологизма в творчестве М.И. Цветаевой 1920-х годов /«После России» - «Молодец» - «Федра» ). Один из вариантов интерпретации «Поэмы Воздуха» - истолкование сквозь призму архетипов «жизнь», «смерть» сюжета восхождения - был представлен в виде доклада на конференции 2001 года в культурном центре «Дом-музей М. Цветаевой» Г.Ч. Павловской («Поэма воздуха» М. Цветаевой: от текста к психологии творческой личности»).
К цветаеведческим работам, в которых функционирует категория архетипического, можно отнести и кандидатскую диссертацию Т.Н. Гурьевой «Концепция творчества в художественном сознании М. Цветаевой». В ряду
важнейших составляющих этой концепции исследовательница называет "архетипическое переживание"22. Этой же исследовательнице принадлежит трактовка образа Егорушки из одноименной поэмы как носителя архетипических черт («Архетипические мотивы в мифотворчестве М. Цветаевой (по поэме «Егорушка»)» ). Доклад М.В. Ляпон, представленный на научно-тематической конференции в Доме-музее М. Цветаевой в 2000 («Пушкиниана Цветаевой как отражение ментального модуса личности)»), содержит идеи, созвучные юнговским представлениям о психической конституции личности. Исследовательница отмечает, что «образ Пушкина ее дограмотного детства обладает всеми признаками архетипа Юнга»24. Болгарская исследовательница Г. Петкова предприняла попытку выделить в определенных образах «Божественной комедии» Данте и некоторых произведений Цветаевой архетипические черты юнговского Духа-Вожатого («Данте - Цветаева: архетипическая фигура «Водителя Души»).
Настоящая диссертация, предлагая теоретическое осмысление того, как в образном мире поэзии XX века находят воплощение складывающиеся в длительном опыте человечества и универсально распространенные константы, также опирается на художественный опыт М. Цветаевой, но стремится к его охвату во всей его целостности.
С учетом современной ситуации в науке нель исследования была определена следующим образом. В условиях, когда потребность культуры в преемственном развитии и сам факт такого развития нередко подвергаются сомнению, а логика этого развития искажается внеисторичными либо внесоциальными тенденциями (теории исключительно субъективного самовыражения, упрощенный социологизм, нивелирующий глобализм, биологизм), всесторонне оправдан вклад в объективно-уравновешенные теоретические представления о диалектике личного и всеобщего, эмоционально-психологического и мировоззренческого, вечного и эпохально-специфического, национального и всемирного в искусстве слова.
Основная задача работы - проверка теории, имеющей высокую степень отвлеченности, на художественном материале, который, напротив, богато насыщен историческим, социальным содержанием. Задачей являлось также оспорить свойственные ряду литературно-эстетических учений XX века представления о несовместимости «нового» и «вечного», согласно которым творчески продуктивные эпохи не нуждаются в опоре на опыт прошлого.
Избранные в качестве комплексного предмета исследования теория универсальных архетипов поэзии (К.Г. Юнг, его последователи и оппоненты) и творческий опыт М. Цветаевой обеспечивают диссертации научную новизну. (Важно учесть, что если доктрина Юнга занимает достаточно устойчивое положение в науке и нередко находит отклик или применение в русистике, то с творчеством М. Цветаевой в целом общая совокупность теоретических положений о природе архетипа и его функциях в искусстве соотносится впервые.) Впервые предлагается и формулируется и содержащаяся в диссертации система принципиальных коррективов к доктринам архетипа и способам их использования в литературоведении.
В соответствии с этими задачами и целями, исследование устойчивых художественных констант, которые обеспечивают искусству прочность роста, а науке - совершенствование и пополнение познаний о существе и специфике художественной преемственности, об их реализации в индивидуальном поэтическом творчестве с трансформированием универсального пра-образа в живой образ, обладает высокой актуальностью.
Методология исследования предполагает и включает в себя:
позитивное изложение концепций, выявляющих и толкующих феномен универсальных констант в литературе;
верификацию приложимости исследуемых концепций к реальному художественному материалу;
сравнение степени научной достоверности различных концепций архетипического;
коррекцию наличных в современной науке доктрин, объясняющих художественный образ через его архетипические элементы;
выявление в динамике развития литературы реального баланса между творческой волей, культурной памятью, сознательным и неосознанным, глубинной психологией творчества и отчетливой ориентацией художника на идеал и традицию.
Логика взаимосвязей между исходно-архетипическим, традиционно становящимся и индивидуально претворяемым в поэтический образ вскрывается с опорой на принципы историзма и системности. Существенную помощь в системном осмыслении теории архетипа нам оказали критико-аналитические работы Э. Самуэлса («Юнг и постьюнгианцы» ) и С.С. Аверинцева («Аналитическая психология К. Юнга
*)*7
и закономерности творческой фантазии» ) а также труды А. Лосева, Е. Мелетинского, В. Топорова.
При анализе поэзии Цветаевой были учтены методологические подходы и научные результаты, представленные в работах отечественных литературоведов - Е. Коркиной, Н. Осиповой, О. Ревзиной, М. Серовой и др. В работе реализован целостный подход к художественной системе Цветаевой. Эта система в высокой степени концептуальна, пронизана едиными этико-эстетическими установками. Таким образом, в орбиту исследования представилось необходимым включить не только собственно художественные тексты и художественно-эстетические манифесты, но и мемуары, дневники, эпистолярий, эссе. Такие произведения, по мнению Л.Я. Гинзбург, дают «мощное средство для выявления <...> неисследованных элементов человеческой психики» - хотя мы скорее бы указали на несколько иное: психологическая атмосфера воспоминаний, эссеистики, переписки дает многое для постижения собственно художественного мира писателя.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Палиевский П. Русские классики. Опыт общей характеристики. - М., 1987. - С. 137;
Небольсин С.А. Пушкин и европейская традиция. - М, 1999. - С. 206 - 210.
2 Палиевский П. Русские классики. Опыт общей характеристики. - М, 1987. - С. 199.
3 Нусинов И.М. Вековые образы. - М., 1937.
4 Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. - Т. 2. - М., 1991. —
С. 70.
5 Толстой Л.Н. О литературе. - М., 1955. - С. 264 (письмо к Н.Н.Страхову).
6 Фарыно Е. Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» - «Царь-Девица» -
«Переулочки»). // Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1995. Sonderband 18.
7 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972.
8 Гаспаров М.Л. «Поэма воздуха» Марины Цветаевой: опыт интерпретации. // Труды по
знаковым системам. Тарту, 1982, с.576.
9 Ревзина О.Г. Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М. Цветаевой. //
Уч.зап. Тартуского университета, 1979, Вып.481.
10 Ревзина О.Г. Горизонты Марины Цветаевой.// Здесь и теперь, 1992,№2.
11 Ельницкая Е.И. Поэтический мир Цветаевой: Конфликт лирического героя и
действительности. Wien, 1990.
12 Taubman J. Tsvetaeva and the Feminine Tradition in Russian Poetry. II Marina Tsvetaeva:
One Hundred Years. Papers from the Tsvetaeva Centenary Symposium. Amherst Colledge,
Amherst; Massachusetts, 1992.
13 Scotto P. Towards a Reading of Tsvetaeva's «Phenics» II Marina Tsvetaeva: One Hundred
Years. Papers from the Tsvetaeva Centenary Symposium. Amherst Colledge, Amherst;
Massachusetts, 1992.
14 Sandler St. Embodied Words: Gender in Tsvetaeva's Reading of Pushkin II Slavic & East
European Journal, 1990, V34, №2.
15 Бургин Д. Мать-Природа против амазонок. // Бургин Д. София Парнок: жизнь и
творчество русской Сафо. Спб., 1999.
16 Фейлер Л. Бог-Дьявол Цветаевой. // The Russian School of Norwich University. A
Centennial Symposium Dedicated to Marina Tsvetaeva. Нортфилд, Вермонт, 1992.
17 Лаврова Е.Л. Поэтическое миросозерцание М.И. Цветаевой. Горловка, 1994.
18 Weeks Laura D. «I Named Her Ariadna»: The Demetres — Persephone Myth in Tsvetaeva's
Poems for Her Daughter II Slavic Review, 1990, V49, №4.
Сухова А.В. Ритуально-мифологическая архетипика образа Царь-Двеицы в одноименной поэме М. Цветаевой,// К.Бальмонт, М. Цветаева и художественные искания XX в. Межвуз.сб.науч.трудов. Иваново, 1998.
20 Осипова Н.О, Художественный мифологизм творчества М.И. Цветаевой в историко-
культурном контексте первой трети XX века. Диссертация на соиск. уч, ст. доктора
филол.наук, М., 1998.
21 Малкова Ю.В. Своеобразие мифологизма в творчестве М.И.Цветаевой 1920-х годов
(«После России» - «Молодец» - «Федра»). Диссертация на соиск. уч. ст. кандидата
филол.наук. Спб, 2000.
22 Гурьева Т.Н. Концепция творчества в художественном сознании М. Цветаевой.
Автореферат диссертации кандидата филол.наук. Саратов, 1998, с.16-17.
23 Гурьева Т.Н. Архетипические мотивы в мифотворчестве М. Цветаевой (по поэме
«Егорушка». // Поэмы М. Цветаевой «Егорушка» и «Красный бычок», Третьяцветаевская
международная научно-тематическая конференция, Сб.докл. М.,1995.
24 Ляпон М.В. Пушкиниана Цветаевой как отражение ментального модуса личности. //
А.С.Пушкин - М.И. Цветаева. Седьмая цветаевская международная научно-тематическая
конференция. Сб.докл, М,, 2000, с.34.
25 Петкова Г, Данте - Цветаева: архетипическая фигура «Водителя Души».// «...Все в
груди слилось и спелось». Пятая цветаевская международная научно-тематическая
конференция. Сб. докл.М.,1998, с.201-202.
26 Самуэлс Э. Юнг и постъюнгианцы. М.,1997.
27 Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К.Юнга и закономерности творческой
фантазии. // Вопросы литературы, 1970, №3.
28 Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. Л. 1987, с.56.
Теория архетипов как объект и способ литературоведческого исследования
В работе А.И. Майковой "Интерпретация литературных произведений в свете теории архетипов Карла Юнга" основные тезисы теории архетипов были соотнесены с концепциями видных отечественных психологов Л. Выготского, В.Волошинова, А. Лурии; состоялась попытка установить генезис категории бессознательного в истории философии: античная традиция (Гераклит, Платон, Аристотель) — Декарт — Фихте - немецкая классическая философия (Кант, Гегель, Шеллинг). Иллюстрациями к очеркам теории архетипов становятся мифологические сюжеты и герои: Деметра-Персефона как ипостаси архетипа Великой Матери, Бог-творец как воплощение архетипа Самости. Миф для Юнга, безусловно, не самоцель. Миф интересует ученого как отражение основополагающих структур психе (души), стремящейся к самореализации в личности. Характерный пример — определение Юнгом "Самости", одного из основных архетипов:
"Самость есть единство, объемлющее сознание и бессознательное, но в то же время она есть центр и цель процесса индивидуации, т.е. становления личности"1, причем такое становление не может произойти иначе, как через мучительное выделение сознания из досознательной целостности, то есть в определении Самости налицо совмещение противоположностей в одном понятии. Такой способ построения дефиниций широко распространен в сфере феноменологического описания мифомышления и менее характерен для других областей гуманитарного знания. На пути к нему К.Г. Юнгу предшествовали ряд школ в изучении мифа применительно к проблематике становления личности.
Немецкая романтическая философия мифа. Ф.В. Шеллинг. Заслуга этого направления мифоведения заключается в постановке вопроса о символике мифа. Такой подход к мифу оказал известное влияние на символические теории мифа в XX в. В идее А.Ф. Лосева о строгом различении таких форм воображения, как схематизм (особенное через общее) и аллегория (общее через особенное), и об их синтезе в символе слышны отголоски философии Шеллинга, в последней - истоки представлений Юнга о динамическом взаимодействии обозначаемого и обозначающего как основе символичности мифа. Итак, преодоление традиционного аллегорического толкования мифа в пользу символического — основной пафос этого исследовательского направления.
В труде "Философия искусства" В.Ф. Шеллинг пишет: "Мифология есть необходимое условие и первичный материал для всякого искусства... Она есть не что иное, как универсум в более торжественном одеянии, в своем абсолютном облике, истинный универсум в себе, образ жизни и полного чудес хаоса в божественном образотворчестве, который уже сам по себе поэзия и все-таки сам для себя в то же время материал и стихия поэзии. Она (мифология) есть мир и, так сказать, почва, на которой только и могут расцветать и произрастать произведения искусства".2
Исходя из того, что мифология символизирует вечные начала и является материалом всякого искусства, Шеллинг считает, что мифотворчество продолжается в искусстве и может принять вид индивидуальной творческой мифологии.
"Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию" (выделено мною. — Н.К.).3 Шеллинг указывает в качестве примера таких поэтов, как Данте (миф из ужаса истории и материала существующей социально-политической иерархии), Шекспира (миф из национальной истории и современных нравов), Сервантеса, Гете как автора "Фауста". "Все это — вечные мифы"4, - пишет Шеллинг.
Ф. Ницше. Проблема мифа в соотнесении с проблемой личности многократно всплывает в сложном и противоречивом творчестве Ницше. Знаменательно сближение им мифологии и инстинктивного, хаотического начала в противовес размеренной и рассудочной гармонии. Как известно, Ницше упрекает Сократа и "сократизм" в разрушении скептическим рационализмом античного мифологического мировоззрения, что способствовало гибели античной культуры, так как лишило личность природной творческой силы. Предмодернистский характер имеет ницшевское противопоставление мифа истории, его концепция становления мира как вечного возвращения одного и того же.
Э. Кассирер. Важнейшим принципом теории мифа, выдвинутой этим исследователем, является рассмотрение духовной деятельности человека, и в первую очередь мифотворчества в качестве древнейшего вида этой деятельности как "символической": в своей работе "Опыт о человеке" (1944) Кассирер называет человека "символическим животным"5. Мифология рассматривается Кассирером наряду с языком и искусством как автономная символическая форма культуры, объединенная и характером функционирования, и способом моделирования окружающего мира.
Аналитическая психология. Уже в работах немецкого психолога Вильгельма Вундта ("Психология народов", "Миф и религия") произошло существенное сближение этнологии с психологией, причем в связи с генезисом мифов особо подчеркивалась роль аффективных состояний и сновидений, а также ассоциативных цепей. Перенос аффектов на объект приводит, согласно его теории, к своеобразной объективации и мифологической персонификации (по аналогии с эстетическим "вчувствованием"). Вундт считал мифологическую "апперцепцию" первичной, в мифологических представлениях он находил непосредственно данную действительность, обогащенную дополнительными представлениями по ассоциации (по типу дыхание - душа — облако - птица - небо и т.д.).
Архетипы в образности М. Цветаевой, соотносимые со сферой эмпирического существования
При исследовании места и роли архетипов в творчестве Цветаевой классификационный принцип Юнга использован не только с учетом того, что ряд свойств и граней растущей и становящейся личности одинаково привлекают внимание и ученого, и поэта. Методологически важно также следующее. Достаточно полноценная общая теория должна обнаруживать свою достоверность независимо от того, насколько избранный для ее проверки предмет заведомо соответствует ее логике. Теория может быть признана убедительной в случае: 1) если ее применение подтверждает те результаты, которые при обследовании того же предмета были ранее получены иным путем (хотя бы, в частности, и чисто эмпирическим, но также с высокой степенью достоверности); 2) если ее применение не только подтверждает, но и пополняет и обогащает ранее принятое наукой представление об объекте исследования; 3) если она дает объяснение тому, что при иных подходах вообще не поддавалось достоверному толкованию.
Предполагая, что хотя бы одно из возможных направлений такой проверки способно обеспечить искомые выводы, обратим внимание на те особенности духовного мира М. Цветаевой, которые представляются в свете общих задач работы наиболее важными.
В многочисленных высказываниях Цветаевой (в письмах, записях, критических статьях) запечатлена устремленность ее самосознания в область «начал» и истоков. «Я никогда не была в русле культуры. Ищите меня дальше и раньше», - так определила Цветаева «хронотоп» своего существования [СС-7, VII, 416]. Таково у поэтессы и осознание её «истинного» возраста, никак не определяемого возрастом эмпирическим: «Я помнить начала с тех пор, как начала жить, а помнить - стареть, и я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась» [СС-7, IV, 355]. Отсчет времени на шкале человеческого возраста и на шкале некоего абсолютного возраста поэта идет в разных направлениях - соответственно, вперед и назад, вот почему «в поэте громче, чем в ком-либо, говорит кровь предка» [СС-7, IV, 275]. Многочисленность и четкость подобных высказываний свидетельствуют о том, что Цветаева путь к архетипическим основам бытия проходила сознательно и осмысленно.
Наряду с движением «назад», к первоистокам в поэтическом мире Цветаевой отчетливо выделяется еще один вектор движения - движение вверх. Вознесение, восхождение составляют сюжетную основу многих значимых для цветаевской концептологии произведений - поэм «На красном коне», «Новогоднее», «Поэма воздуха» и др. В стихотворении «Памяти Марины Цветаевой» (1943) Б.Пастернак чутко уловил этот вектор: «Лицом повернутая к Богу, /Ты тянешься к нему с земли...».
Идея движения вверх как одного из главных в цветаевской художественной системе была сформулирована в разных понятийных системах несколькими исследователями. Согласно концепции СИ. Ельницкой, лирическая героиня отталкивается от неистинного мира и стремится приблизиться к миру истинному и даже к истинному Богу, который мыслится как «некая абстрактная величина, оцениваемая в терминах движения и высоты, как беспредельное повышение идеи высокого, непрерывного удаления от близкого-низкого, безостановочный бег от всего земного, сама идея роста ввысь» . Е.Б. Коркина вычленяет в творчестве поэтессы сюжет «переселения лирического «я» поэзии Цветаевой на «тот свет», причем вектор этого переселения направлен «от земли и земного».2
Моделируя систему эстетических взглядов Цветаевой, И. Шевеленко в статье «По ту сторону поэтики» анализирует проблему «роста личности в поэте», роста, который обеспечивает «высокую степень осознания творцом своего предназначения».3
Идея развития творческой личности (опосредованная образами стрелы, реки) неоднократно высказывалась Цветаевой. Особенно яркое воплощение эта идея нашла в статье «Поэты с историей и поэты без истории». Цветаевская идея развития личности, родственная юнговской идее движения к идеалу личностной гармонии, или к состоянию Самости.
Из ряда архетипов, являющихся ступенями процесса индивидуации, архетипы Персоны и Тени остаются неактуализированными в творчестве Цветаевой. Этому есть свои объяснения. Согласно многочисленным высказываниям в цветаевских письмах, очерках, статьях, ментальные и поведенческие установки, обобщенные Юнгом в архетип Персоны как совокупности всего, что есть неистинное «я» человека, глубоко чужды Цветаевой этически. В ее неприятии маски, позы - исток ее неприятия пластических искусств и театра, стремящихся подменить внутреннее, невидимое глазу, суть внешним, видимым и ложным - жестом, движением и т.д.
Неактуализированность архетипа Тени является следствием принципиального предпочтения поэтом высокого в человеке низкому в нем. Это убеждение Цветаева высказывает неоднократно. Например, в очерке «Кедр», используя образ дерева (корней и вершины, цвета) как метафору чрезмерной углубленности художника в человеческую природу и, напротив, отражение им высот человеческого духа: «Человечность не только глубь, — и высь. Дерево не растет в воздухе, чту корни, но не ошибка ли русских в том, что они за корнями («нутром») не только забывали вершину (цветение), но еще считали ее некоей непозволительной роскошью. В корнях легко увязнуть: корни — и родниковые воды, да, но и: корни — и черви. И часто: начав корнями, кончают червями. И еще мне хочется сказать: корни (недра) -не самоцель. Корни - основа, ствол - средство, цвет (свет) - цель. Корни -всегда ради» [СС-7, IV,246-247].
Еще раз сославшись на соотносимость идей Юнга и Цветаевой о личностном движении, приступим к рассмотрению того, представлены ли, насколько богато представлены и как воплощаются в творчестве поэта черты архетипов, которые ориентируют становление личности и познание ее на уровне обстоятельств эмпирического существования.
Архетршы в образности М. Цветаевой, соотносимые со сферой над-эмпирического существования
Архетип Духа - звено между бессознательными содержаниями и сознанием, непосредственный проводник к Самости, высшему проявлению личностного роста. Согласно К.Юнгу, такие «черты психопомпа присущи в определенной степени всем архетипическим структурам, однако Дух обладает этими чертами par exellence»1. Помимо данного, ученый выделяет еще ряд архетипических свойств Духа, которые, на наш взгляд, необходимо учитывать при анализе его персонификаций в творчестве Цветаевой: 1. Фигуры, персонифицирующие данный архетип, обладают значительным духовным авторитетом (эта черта относится к аспекту Дух-Вожатый так же, как и к аспекту Дух-Отец). Собственно психологический аналог этого понятия — харизма, «квазисвященная сила, выбирающая для своего пребывания магов, медиумов, священников, врачей, фокусников, святых или юродивых»2.
2. К.Юнг определяет Дух как «активную, окрыленную, живительную, возбуждающую и вдохновляющую сущность. Дух есть нечто динамическое, и поэтому он составляет классическую противоположность статике, инертности, неоживленности ... сущностно Дух — это оживленное и оживляющее.. .»3.
3. Ситуации, с которыми связаны проявления Духа, — ситуации тупика, кажущейся безвыходности, с которой объект архетипического воздействия не в силах справиться самостоятельно, либо состояния некоего рубежа, предела, порога, который он не может преодолеть. В целом, речь идет об обстоятельствах, когда крайне необходимы благоразумие, понимание, добрый совет, решимость, замысел и т.п., которые, однако, не могут быть порождены собственными силами личности.
Некоторыми учеными были предприняты попытки интерпретации цветаевских персонажей-Вожатых с точки зрения категории амбивалентности. Так, исследуя семантику фольклорных поэм Цветаевой, Е.Фарыно выявляет в образах «водителей души» целый диапазон амбивалентных характеристик, варьирующихся от Ангела-хранителя до демона-губителя4. Этой же позиции придерживается Г.Петкова (статья «Данте - Цветаева: архетипическая фигура «водителя души»»5).
Однако все многообразие цветаевских персонажей, несущих семантику духовного руководства, можно рассматривать и исходя из иных предпосылок, например, выделив среди них образы-носители архетипических черт Духа-Вожатого и Духа-Спутника, Проводника.
Фигура Вожатого на протяжении всей жизни — и в детстве, и в зрелости - воспринималась М. Цветаевой как знаковая. Образ Вожатого в очерке «Пушкин и Пугачев» определяется как нечто чрезвычайно близкое, родственное ребенку, обреченному быть поэтом, - «чудо - в которое ребенок и поэт попадают как домой, то единственное домой, нам данное и за которое мы отдаем - все родные дома!» [CC-7,V,498]. Сам поэт в каком-то смысле несет в себе черты Вожатого по отношению к своему читателю, поколению, времени: «Поэт — посредник времени, глашатай, Вожатый времени...»[CC-7,V,330] (статья «Поэт и время»).
Еще до появления очерка «Пушкин и Пугачев» фигура Вожатого стала для Цветаевой предметом богатых лирических перживаний в стихотворениях 1918-1919 годов («В черном небе слова начертаны», «Умирая, не скажу: была...», «Пожирающий огонь - мой конь...», «Гению», «Мир окончится потопом...» и др.), а также 1920-х гг. («По загарам - топор и плуг...», «Разговор с Гением» и др.).
Поэт определяет своего Вожатого как «Духа», «Вдохновение», «Гения» («...Дух - мой сподвижник, и Дух - мой вожатый...»[СС-7,П,208]): Святой Дух («Легкий огнь, над кудрями пляшущий,-/Дуновение-Вдохновения!»[СС-7,1,401], «- Пламенный язык над русым / Теменем - и огнь в гортани» [СС-7,1,440] и образ крылатого Коня-Всадника («Ты, -крылом стучавший в эту грудь, / Молодой виновник вдохновенья...»[СС-7,1,407], «Ох, огонь мой конь - несытый едок! / Ох, огонь на нем - несытый ездок!» [СС-7,1,418], «Вечной мужественности взмах...»[СС-7,И, 128]). Выделим архетипическое ядро обоих образов.
Святой Дух, являющийся в виде огненного языка пламени над головой (см., например, библейскую книгу «Деяния святых апостолов»), - не только знак избранности, но и знак перерождения (вспомним звучащее во многих проповедях Христа обещание крестить учеников «огнем», под которым подразумевалось крещение в смерть - жизнь вечную).
Заметим также, что огонь - не только христианский, но и языческий символ перерождения (древний обычай погребального костра, сюжет о Фениксе и т.д.)
Х.Э. Кэрлот отмечает, что и «птица непосредственно связана в архетипическом сознании с погребальным костром как знаком перехода из бытия в небытие»6. Дж. Купер, автор одной из современных «энциклопедий символов», указывает на связь птицы с «архетипом превращения», приводя в качестве иллюстраций сюжет мифа о Зевсе и Леде, многочисленные сказочные сюжеты с превращениями девушек в лебедей, горлиц и т.д. (например, «Дикие лебеди» Г.Х.Андерсена)7.
В стихотворениях, упомянутых выше, Вожатый осуществляет по отношению к героине властно императивную функцию: под его воздействием она кардинально меняется, отказывается от земных страхов и страстей («И не страшно нам ложе смертное, / И не сладко нам ложе страстное...»[СС-7,1,401], постигает, что «есть на свете поважней дела / страстных бурь и подвигов любовных...»[СС-7,1,407], следуя «вечной мужественности взмаху», отвергает в себе «последнего часа тварь», иными словами, человеческое, плотское. В стихотворении «Разговор с Гением» предельно реализована такая архетипическая черта Гения-Вожатого, как духовная авторитетность. Этот «разговор» превращается в провозглашение Гением набора безапелляционных повелений, которым должен следовать поэт.