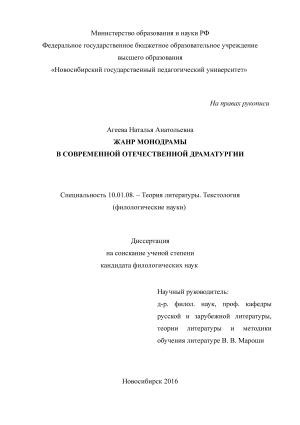Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Феномен монодрамы в творческом и теоретическом осмыслении 17
1.1. Монодрама в западноевропейской литературе XVIII–XIX вв.: генезис, театральная практика и теоретическое осмысление 17
1.2. Монодрама в театральном и теоретическом осмыслении 34
1.2.1. Разработка теории жанра и рецепция монодрамы в русской театральной культуре начала XX в. 34
1.2.2. Теоретические подходы к жанру монодрамы в отечественном и западном литературоведении XX – начала XXI вв . 55
Выводы первой главы 72
ГЛАВА 2. Дискурсивные модальности современной монодрамы в аспекте жанрообразования 76
2.1. Дискурс драматургического текста. Наррация и анарративность в монодраме 76
2.2. Апеллятивная модальность перформативной дискурсии 91
2.3. Медитативная модальность перформативной дискурсии 135
2.4. Коммуникативная интенция героев в монодрамах Е. Гришковца 158
Выводы второй главы 176
Заключение 179
Список использованной литературы
- Монодрама в театральном и теоретическом осмыслении
- Теоретические подходы к жанру монодрамы в отечественном и западном литературоведении XX – начала XXI вв
- Апеллятивная модальность перформативной дискурсии
- Коммуникативная интенция героев в монодрамах Е. Гришковца
Монодрама в театральном и теоретическом осмыслении
Чарльзу Бедфорду Гросвенору, встречается следующее перечисление: «...such a letter full of odes, elegies, epistles, monodramas, comodramas, tragodramas – all sorts of dramas...»44 (такое письмо полно од, элегий, посланий, монодрам, комодрам, трагидрам – всех видов драм). Хотя сам Саути не расшифровывает значения используемых слов, однако из контекста можно понять, что речь идет о характеристике стиля его письма: сумбурное, одновременно лирическое и драматическое, отражающее сиюминутные переживания автора. Значимым является и тот факт, что Р. Саути не только был знаком с монодрамами Ф. Сайерса, но и сам писал подобные тексты. В 1799 г. в письме Уильяму Винну Саути пишет: «You know I am fond of Monodramas. The dramatic turn which my thoughts have for some time taken, has suggested to me the thought of narrating in dialogue, or poems not much longer, such historical, or other, facts as would make noble scenes only»45 (Ты знаешь, я увлечен монодрамами. Их драматический характер, о котором я размышляю уже некоторое время, наводит меня на мысль об использовании повествования в диалогах или недлинных стихах, об исторических или других фактах, это только бы облагородило сцену). Действительно, в период с 1793 по 1802 гг. Р. Саути создает ряд произведений, которые впоследствии издаются с авторским подзаголовком «Монодрама» или включаются в раздел, озаглавленный «Монодрамы»46: «Сапфо» («Sappho», 1793 г.), «Ксималпока» («Ximalpoca», 1798 г.), «Жена Фергуса» («The Wife of Fergus», 1798 г.), «Лукреция» («Lucretia», 1799 г.) и «Ла Каба» («La Caba», 1802 г.). Все перечисленные пьесы представляют собой монологи героев, оказавшихся в критической ситуации, находящихся на грани между жизнью и смертью. Однако, в отличие от героев монодрам Ф. Сайерса, герои Саути не столько переживают острую ситуацию, сколько объясняют в своем монологе причину их нынешнего бедственного положения и их выбора. Так, к примеру, Сапфо, героиня одноименной монодрамы, придя на левкадскую скалу, где «tradition says / That hopeless Love from this high towering rock / Leaps headlong to oblivion or to Death»47 (по традиции / безнадежно влюбленные с высоко возвышающейся скалы / бросаются головой в забвение или в смерть), излагает историю о своей безответной любви к юноше Фаону, а затем бросается со скалы в море. Очевидно, что перед героиней не стоит выбора между смертью и забвением: она с самого начала знает, для чего пришла на это место, и ее монолог превращается в своего рода последнее слово обреченного человека. Таким же образом выстроены и остальные монодраматические произведения Саути. Подобное построение монодрамы, с одной стороны, делает ее схожей с заключительной частью классицистической трагедии, где герой в своем последнем монологе перед смертью рассказывает о совершенных им поступках и о страстях, которые толкнули его на преступление (ср., например, финальный монолог главной героини трагедии Ж. Расина «Федра»48). С другой стороны, очевиден отход от миметического изображения страстей, которое можно было наблюдать в пьесах Ф. Сайерса, в сторону их описания. Тем не менее в финалах пьес герои всех пьес Р. Саути совершают самоубийство, поступок, который является следствием принятого решения.
В качестве авторского подзаголовка термин «монодрама» вновь начинает использоваться во второй половине XIX в.49 Примерами подобного обозначения могут служить поэма А. Теннисона «Мод», опубликованная в 1855 г. и получившая подзаголовок «Монодрама» в новой редакции 1875 г., и рассказ Э. Пикара «Присяжный» («Le Jure: Lettre sur le monodrame», 1887 г.). Использование авторами данного слова для номинации разноплановых и разножанровых произведений говорит о том, что в XIX в. термин «монодрама» не являлся жанровым обозначением, и употреблялся не только в отношении к драматическим текстам, но и к произведениям, в основе которых лежит лирический монолог героя, сопряженный с остродраматическим сюжетом. Это утверждение будет справедливым в отношении всех вышеуказанных примеров. Так, например, поэма А. Теннисона представляет собой 28 монологов от лица полубезумного юноши, влюбившегося в дочь богача, который был виновен в разорении и смерти отца героя. Девушке прочат в женихи сына богатых родителей, но она неожиданно отвечает на любовь бедного и странного поклонника. Брат Мод застает влюбленных в саду, после чего происходит дуэль, на которой брат гибнет. Герой вынужден спасаться бегством, а Мод умирает от душевного потрясения. Вдалеке от родных мест, на Бретонском берегу, герой заново переживает прошлое, что приводит его не к гибели или окончательному сумасшествию, а к обретению покоя и душевного равновесия. При этом на первый план выходит не сюжетная канва поэмы, акцент делается именно на внутреннем переживании лирического героя, а все события показываются через его медитацию по поводу них, в преломлении его безумного сознания. Стоит отметить, что в русской традиции подобного рода произведения принято рассматривать как поэму, хотя ряд исследователей, вслед за автором, называют «Мод» монодрамой, не вкладывая в это понятие жанрового значения. В западном литературоведении XX в. за такими текстами закрепилось обозначение «драматический монолог»50
Теоретические подходы к жанру монодрамы в отечественном и западном литературоведении XX – начала XXI вв
Старушка из пьесы «Девушка моей мечты» в целом отдает себе отчет в том, что упоминаемые ею ситуации относятся к разным временным планам. Однако восприятие времени для нее становится совершенно иным, когда речь идет о смерти, и это касается не только ее самой, но и окружающих. Например, она обращает свои слова к девушке, которая ухаживала за ее подругой, а в настоящий момент в соседней квартире празднует приобретение наследства: «И ты, Танечка, девочка четырех лет, играющая в снегу возле нового пятиэтажного дома – и ты, милочка, станешь старухой, мгновенно. Уже завтра. Не успеешь и оглянуться, опомниться. Так быстро пролетит время. Станешь фурией. Зубы выпадут, волосы вылезут, руки дрожать будут, ноги не будут ходить, а где мой слуховой аппарат, а где моя вставная челюсть, а где мой парик, а где мои костыли, а где моя инвалидная коляска – уже завтра, Танечка, ты станешь такой, так быстро начнут говорить о тебе: “Ведьма, колдовка, старье, фурия, Баба-Яга” – так быстро, милочка, так быстро это; ты будешь смотреть на свою отвратительную старую мордень в зеркало и думать, что девочка Танечка во дворе новой пятиэтажки играла в снежки вчера, ну, позавчера, а уже в зеркале – Смерть»209. Страх смерти в одиночестве совершенно изменяет ее восприятие реальности, и ситуации, произошедшие несколько дней назад, начинают осмысляться героиней как возможные, но еще не случившиеся. В словах, адресованных подруге, сквозит желание остановить время, отменить все, что уже произошло: «Не умирай только, Элла! Миленькая, хорошенькая, пусть все будет так, как было, пусть мы поругаемся много раз, помиримся, не будем по нескольку часов друг с другом разговаривать, пусть, но только не умирай!»210
В сознании героини «Пишмашки» присутствует разделение времени на «тогда» и «сейчас», соотносящееся не столько с биографическим временем, сколько с ее ощущением собственной значимости: тогда она ощущала себя необходимой многим людям, сейчас она не нужна никому, за исключением графоманов, для которых набирает тексты, но и для них она может стать ненужной, поскольку ломается ее компьютер. В начале пьесы Людмила, узнав, что бывший начальник не придет к ней в гости, предается воспоминаниям о вечере встречи ветеранов завода: «Я пришла. Стала со всеми обниматься, меня ж все знают, секретарша директора, обниматься да целоваться давай, дура! (Хохочет.) Мамочка! И все стали в белой шерсти. Все до одного от моего кролика заразились! Весь вечер я хохотала, они думали, что это у меня просто хорошее настроение, а я не могла видеть их без хохота, потому как все они сидели в белой шерсти от моей шубки!»211. Проговаривание вслух ситуации, случившейся накануне, не имеет цели сообщения некой информации, поскольку героиня не адресует эти слова никому, кроме себя самой. Ее намерение заключается в том, чтобы в ситуации очевидного краха восстановить в памяти момент своеобразного «триумфа», пережить его заново. С этой же целью она разыгрывает воображаемое свидание, болтая со своим возлюбленным как о прошлом, так и об их гипотетическом будущем. Озвучиваемые ситуации, как имевшие место в прошлом, так и фиктивные212, не только оказываются равноправными в сознании героини, но и становятся для нее реальностью настоящего: «Ключи? Где ключи от кабинета шефа? А-а. Вот они, в дверях. Все на месте. Все в порядке. Скоро девять, он вот-вот придет. Чай я приготовила, только заварить. Он очень любит с печенюшками. Они лежат. Бумаги для подписи на столе, так. Что еще?»213.
Наибольшее количество временных маркеров наблюдается в речи героинь монодрам «Откуда-куда-зачем» и «Американка». В первой пьесе со смерти старой знакомой прошло три дня, но Марина, формально фиксируя в речи временную дистанцию между нынешней ситуацией и прошлым, эмоционально остается в том же самом состоянии срыва, который случился с ней после известия о смерти. При этом фразу «прошло три дня» героиня много раз повторяет в разных вариациях по отношению не только к ключевому событию, но и в связи с рядом других ситуаций из прошлого и возможного будущего, так что эта фраза перестает указывать на конкретное биографическое время и становится обозначением кризисного времени. В монологе Елены Андреевны («Американка») прослеживается хронологическая последовательность озвучиваемых ею ситуаций: пятнадцать лет назад она эмигрировала в Америку, два года прошло с момента исчезновения Патриса, с которым они встречались полгода. Фактически, героиня таким образом обозначает две границы, разделившие ее жизнь на «до» и «после». Первая связана с ощущением потери принадлежности к своему пространству. Не случайно Елена Андреевна на протяжении всего монолога обозначает себя то как русскую, то как американку. Вторая же граница имеет большее значение для самой героини, нежели первая, поскольку усугубляет ее одиночество в этом чужом для нее мире: «Я не запомнила, как все, первую любовь, а запомнила – последнюю... Этого больше у меня не будет. Все. Приехали. А что же я хотела? Чтобы это продолжалось всю жизнь, всегда, до ста лет, до смерти? Харя треснет, как говорят у нас... Нельзя любить старость, старые кости... А нет любви, мой дорогой, значит – конец и жизни. Да, жизнь моя как-то необычайно быстро, мгновенно, как один день – кончилась...»214. При этом каждый раз, упоминая об исчезновении Патриса, Елена Андреевна по-разному объясняет его причину: умер, женился на своей соотечественнице, оказался в психиатрической лечебнице. Героиня либо не знает, либо не желает знать истинное положение дел, поэтому довольствуется собственными предположениями. Но в любом случае для нее важен сам факт потери единственного родного человека, как обозначает его она сама. Именно это становится той затянувшейся кризисной ситуацией, которую переживает героиня и из которой она пытается выйти с помощью болтовни с воображаемым собеседником, ставшим в ее сознании заменой Патрису, хотя и не полной.
Таким образом, в сознании героев пьес Н. Коляды оказываются равноправными события их реальной биографии и вымышленные события, плоды их собственных фантазий и снов. Герои в своих монологах легко переходят от одного времени к другому, от одной ситуации к другой, от реальности к ирреальному миру и обратно. При этом между упоминаемыми ситуациями и фактами настоящей и вымышленной жизни зачастую не прослеживается какой-либо причинно-следственной связи. Отсылки к прошлому, настоящему и даже возможному будущему «извлекаются» из сознания героев подобно тому, как Амалия вытаскивает разное барахло из своего шкафа – от чашки без ручки до заряда от ядерной боеголовки. Бесконечное соединение в монологах в разных вариациях разновременных событий, по существу, является способом экспликации измененного сознания персонажей, застрявших в переживании травматической ситуации и испытывающих жалость к себе.
Апеллятивная модальность перформативной дискурсии
Переоценку ценностей осуществляет и герой пьесы «У папы все в порядке». Обращаясь к зрителям реалити-шоу, которое он затеял с целью дополнительного заработка, герой рассуждает о себе как о профессионале и отце. Его высказывания очень эмоциональны: он то злится на дочь за то, что она не только мешает ему работать своим плачем292, но и самим свои существованием лишает его возможности жить прежней жизнью, то умиляется тому, как этот двухмесячный ребенок реагирует на окружающий мир293. Пытаясь оценить себя в каждой из социальных ролей, он приходит к выводу, что ему важнее быть состоявшимся в отношениях «отец – дочь». Это умозаключение подкрепляется и физическими действиями, которые совершает герой в финале пьесы: сначала выключает компьютер, с помощью которого он пытался разрабатывать проект, который должен был, по его мнению, принести успех и дать возможность для дальнейшего карьерного роста, а затем отключает и веб-камеру, обозначая таким образом тот выбор, который он сделал.
О выборе говорит и герой монодрамы М. Куновской «Ли Сан Гугл». В отличие от героев вышеуказанных пьес, он в большей степени способен к рефлексии и самоанализу. Его монолог выстраивается как цепочка умозаключений, связанных с определением жизненных приоритетов. Признавая себя состоявшимся в профессиональном плане, герой отмечает, что этого недостаточно, чтобы чувствовать себя реализованным. У него есть статус, деньги, жена, но он ощущает бессмысленность своего существования, поскольку сомневается в правильности своего профессионального выбора: «Всю оставшуюся жизнь ты будешь сидеть в этом кабинете и создавать впечатление, что один поисковый робот работает лучше других, и даже улавливает тайные желания пользователя. И поскольку это смешно и глупо, то никто никогда не узнает, что ты всю жизнь обслуживал эту кнопку. Ты не останешься в истории как живая кнопка “Мне повезет”, и это даже хорошо. Потому что остаться в истории как живая кнопка “Мне повезет” было бы еще более нелепо. Если честно, Ли, тебе это надо?»294.
Причина кризиса самоидентификации, как и в других монодрамах, вынесена за пределы сценического времени, но упоминается в монологе героя. Один из поисковых запросов, который он обрабатывал, вызвал очень бурную и, по его мнению, неадекватную эмоциональную реакцию героя:
А теперь воображаю себе физиономию этой дуры. Я бы и сам обалдел! Нажимаешь на кнопку «Мне повезет», и вместо нормального сайта – надпись во весь экран: «Иди в задницу!». Причем эта надпись будет теперь ей выскакивать при любом поиске, пока она не догадается обнулить куки. Живой компьютер. Вот так, мамочка, твой сынок, оказывается, хулиган. … Эта женщина, конечно, я уверен, что женщина, написала в строке поиска «ответственность белых гетеросексуальных мужчин среднего класса за Чернобыльскую катастрофу». По сути, причем здесь я, правильно? Вот именно, при чем здесь я? (Встает с кресла, смотрит на кресло с осуждением.) Однако, Ли, у тебя проблема. Такая сильная эмоциональная реакция на вопрос неизвестного человека ненормальна. Если это будет повторяться, то будет и дальше вредить мне в моей социальной жизни. Нужно все проанализировать»295.
В данном случае говорение вслух с самим собой непосредственно связано со стремлением героя объективировать те эмоции, которые он испытывает, понять, в чем кроется причина неудовлетворенности жизнью и найти способ преодоления этой ситуации. Собственное «Я»296 становится своеобразным объектом исследования для героя, а внутренний конфликт, связанный с кризисом самоидентификации297, осмысляется им как логическая задача, которую необходимо решить. Мыслительный акт эксплицируется не только посредством вербализации цепочки рассуждений и умозаключений, но и при помощи физических действий персонажа: он фиксирует на доске условия задачи, помечает стрелочками взаимосвязанные явления и факты, устанавливая между ними причинно-следственную связь.
В результате отождествления себя с самим собой как Другим герой приходит к пониманию того, что обе составляющие его самости – «социальное Я» и «эмоциональное Я» – неотделимы одна от другой. Суть выбора между ними заключается в выборе жизненных приоритетов, и на данный момент жизни герой не готов отказаться от того, что дает ему его нынешний социальный статус: «Ну да, я плохой скрипач и совсем никакой фермер. Конечно, я страшно боюсь. А кто бы на моем месте не боялся? Я могу сколько угодно говорить, что моя семья уважает мой выбор, но много ли я делал выборов, которые ухудшали положение семьи? Я могу уверять себя, что способен вручную вспахать сто гектаров, но прекрасно понимаю, что плуг и велотренажер – немножко разные устройства, и знаком я пока только с одним из них. На самом деле, мой поступок может закончиться чем угодно, и все мы это прекрасно понимаем. Но у меня в столе лежит эта скрипка, и время от времени я что-то играю, не думая о стандартах качества. Просто потому , что какая- то тихая мелодия звучит во мне, и я хочу ее услышать. И значит, рано или поздно я решусь»298. Герой сделал выбор: оставить все как есть. Но это осмысленное решение, не меняющее, по существу, ничего в его внешней жизни, приводит к изменению внутреннему: душевное равновесие героя восстанавливает допущение самой возможности принятия противоположного решения.
В аспекте самоопределения как модальности перформативной дискурсии интересна монодрама В. Леванова, в которой результатом ментального действия становится полное вживание актера в роль, которую он играет. Хотя в качестве действующих лиц в пьесе «Смерть Фирса» отмечены два персонажа, только один из них – актер – на протяжении всего произведения находится на сцене, в то время как режиссер изначально существует только в виде голоса из зала. Разделяя пространство на сценическое, видимое, и внесценическое, переданное только через звуки и голоса, автор концентрирует все внимание зрителя / читателя именно на актере, как на главном и единственном герое. Его обособленность по отношению к внешней реальности подчеркивается уже в начале текста, когда актер из своего пространства вступает в диалог с голосом режиссера. Обмен репликами между ними, по существу, является мнимым диалогом. Актер реагирует на возгласы режиссера «вяло», «уныло», «тихо»299, не столько отвечая, сколько комментируя его речь. Режиссер же, в свою очередь, не слышит и не слушает актера, его цель – озвучить свое видение исполнения роли Фирса:
Коммуникативная интенция героев в монодрамах Е. Гришковца
Этот тезис подтверждается финальными высказываниями героев. Сравним: «Просто... ну, нужно как-то понять, разобраться... Ведь что получается или... Хотя, конечно, ничего не попишешь... оно все так... конечно»358 и «Ну, вот так вот. Чтоб вы меня вот так увидели, и сразу бы все поняли, и сразу почувствовали, и при этом еще получилось бы какое-то впечатление, и еще бы понравилось или не понравилось, и еще... все то, что я рассказал, и даже еще больше... как-то бы прозвучало... за одну секунду»359. И в том, и в другом случае целеполагание монолога героя заключается в том, чтобы адресат его высказываний, как и он сам не только соприкоснулся с некими знаниями о мире, а усвоил и понял их, отрефлексировал их так же, как и сам герой. Суждения героев данных монодрам о законах бытия выстраиваются по принципу индукции: от частного (случая из личной биографии, отдельного момента жизни каждого человека и т. п.) к общему восприятию картины. При этом актуализация рефлексии обессмысливает окончательность какой-либо самоидентификации как героя, так и автора и читателя / зрителя, поскольку во внутреннем опыте все подвержено изменению. Можно бесконечно двигаться к обретению знания о мире и человеческой сущности в частности, но обрести его во всей полноте невозможно.
По тому же принципу выстраиваются и монологи героев пьес «Дредноуты» и «+1». Нарративные элементы, безусловно, в той или иной мере присутствующие в каждой монодрамы, оказываются строго подчинены интенции героев, эксплицирующейся в сугубо перформативных высказываниях. Однако, в отличие от героев других монодрам Гришковца, герои данных пьес выбирают иную коммуникативную стратегию: пытаясь определить свою самость в аспекте межличностных отношений и объяснить свое понимание человеческой («+1») и мужской («Дредноуты») сущности другому, они в больше степени отсылают не к собственной эго-истории, а к ситуациям связанным, как с другими людьми (известными только самому персонажу или историческим личностям), так и с литературными персонажами. Такие отсылки обусловлены тем, что определение тождества самому себе возможно только при наличии Другого, в сопоставлении с кем происходит идентификация. Однако, подобно тому, как это наблюдается в пьесах «Одновременно» и «Как я съел собаку», читатель / зритель, т. е. непосредственный адресат высказываний, оказывается не антагонистом, а, скорее, союзником в сложном процессе познания самого себя и мира. Излагая как малоизвестные адресату360, так и общеизвестные361 факты, герои используют их как примеры, непосредственно связанные с тем, как он хотел бы, чтобы их лично воспринимали люди, в том числе и адресаты, как в гендерном аспекте («Дредноуты»), так и в аспекте индивидуальности («+1»). Как принципиально Другие героями данных пьес осмысляются отдельные представители человечества, сыгравшие определенную роль в истории, а также гипотетические образы иного человека (героя, в значении человека исключительной доблести, совершившего тот или иной выдающийся поступок), творимые его собственным сознанием. Причем каждый такой образ в сознании героя фигурирует как некий эталон для сравнения, мера всех вещей, но при этом он может быть как идеалом, так и антиидеалом. Через сравнение с ним герои и пытаются определить свою статусно-ценностную позицию: кто каждый из них – герой или трус? яркая индивидуальность или винтик в машине истории? При этом каждый из героев осознает, что его представление о себе и своей роли в мире может не совпадать с представлением о нем, существующим в ином сознании. Таким образом, конфликт в каждом случае развертывается по линии «я-для-себя» – «я-для-других». Так, герой «+1» буквально с первых же своих реплик обозначает для слушателя ту проблему, которая и становится поводом для его размышлений:
«Меня никто не знает. (Пауза. Улыбается.) Но не в том смысле, что у меня нет знакомых и я ни с кем не общаюсь. Не в том смысле, что никто не знает моего имени, сколько мне лет или чем я занимаюсь... … Меня никто не знает таким, каким я сам хотел бы, чтобы меня знали. Понимаете?! Это не значит, что все относительно меня ошибаются, нет! Просто никто не знает того, что я сам хотел бы, чтобы про меня знали. Почему? Да очень просто! Я этого сказать не могу. Не могу не потому, что это секрет, а потому, что у меня нет таких слов»362. Свое коммуникативное намерение озвучивает и герой пьесы «Дредноуты»: «А, между прочим, именно в книгах про корабли... и про мужчин есть такая информация, которую не найти нигде... ни в романах, ни... Нигде не найти! Такая информация, которую я хотел бы сообщить и про себя..
Если бы женщины прочитали Эти книжки, то им, может быть, стало проще и легче. Может быть, они бы с большей надеждой смотрели на нас... Да, вот лично на меня»363. Как видим, для каждого героя недостаточно определить для себя самого свой собственный статус, ему необходимо передать то, что он знает о себе и мире другому, собеседнику. Но при этом герои и этих монодрам, и «Одновременно», и «Как я съел собаку» прекрасно осознают, что адискурсивные процессы сознания невозможно в полной мере выразить при помощи речи, чтобы хотя бы приблизиться к полноте взаимопонимания, герои и прибегают к такой логике выстраивания своих монологов: каждая упоминаемая ситуация дублирует предыдущие и последующие, показывая одно и то же явление с разных сторон.