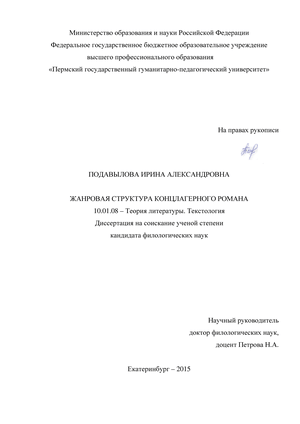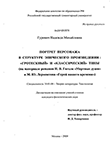Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Документальное и художественное в концлагерной прозе ХХ века 24
1.1 Факт и вымысел: проблема взаимодействия 24
1.2 Процесс интеграции художественного в документальное 32
1.3 От романа-документа к роману .47
ГЛАВА 2. Поэтика концлагерного романа 53
2.1 Хронотоп апокалипсиса .53
2.2. Мотивы смерти, стыда, страха .68
2.3. Трансформация классических хронотопов
2.3.1. Плутовской хронотоп 86
2.3.2. Идиллический хронотоп 107
2.3.3. Элементы романа воспитания 119
ГЛАВА 3. Смена повествовательных стратегий .127
3.1. Свидетель, подставные рассказчики и
стереоскопическая форма повествования 127
3.2. Коллективный рассказчик эпистолярного романа 150
3.3. Функция рассказчика в постмодернистском романе 156
Заключение 173
Список использованных источников и литературы 186
- Процесс интеграции художественного в документальное
- От романа-документа к роману
- Трансформация классических хронотопов
- Коллективный рассказчик эпистолярного романа
Процесс интеграции художественного в документальное
Документальное начало присутствовало в литературных произведениях всегда, но в разных формах и проявлениях. «В предшествующие эпохи историография выполняла свои особые функции, … заменяя художественную прозу. Такова ее роль, например, в античности, а также в эпоху Возрождения. Во Франции XVII века подобное значение имели мемуары и другие промежуточные жанры» [Гинзбург, 1971, с. 9]. Дневники, записки, путевые очерки фиксировали происходящие события и подтверждали их документами или отсылками к документу, но факты, пропущенные через авторское сознание, облекались домыслом и вымыслом, что размывало грань между реальностью и представлением о ней.
Соотношение между художественной прозой и документом «в различные эпохи было сложным и переменчивым. История литературы демонстрировала то возрастание, то спад интереса к факту. В зависимости от исторических предпосылок, она то замыкалась в особых, подчеркнуто эстетических формах, то сближалась с нелитературной словесностью» [там же, с. 6].
Пушкин, откликаясь на замечание М. Орлова Н. Карамзину, зачем тот «в начале "Истории" не поместил… какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян», расценивает его как требование «романа в истории» [Пушкин, 1977–1979: Т. 8, с. 49–51]. «Ново и смело» – так характеризует Пушкин внедрение вымысла в документальный материал.
Л. Гинзбург, выявляя [Гинзбург, 1971] исторические закономерности развития и функционирования документального в литературном процессе прежних эпох, особо выделяет вторую половину XIX века, время осознания эстетического потенциала документальных жанров, то есть процесса интеграции документального в вымышленное. Для понимания романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» совсем не обязательно знать о попавшейся ему на глаза газетной заметке, но присутствующая в сознании автора и квалифицированного читателя память о ней придает особую достоверность повествованию. Документальное начало, выпадающее за пределы художественного целого (Достоевский) или свернутое до заявленного факта (смертный приговор – «Один день приговоренного к смерти» В. Гюго), может служить и способом типизации (функция, обычно закрепленная за художественным), и способом стилизации (эпистолярий, исповедь и т.п.).
Если позитивистское мышление признавало факт как таковой, то постепенно нарастающая саморефлексия размывала его очевидность. В первой трети ХХ века сложилось два типа отношения к факту. Один, наследующий принципы «физиологий», натурализма и социального романа («разгребатели грязи»), включающего в себя документ, газетные заметки, дневник (Дос Пассос), провозглашал «примат литературы факта» над литературой «вымысла, именуемой беллетристикой» [Чужак, 1929, с. 11]. Такое положение факта обусловлено тем, что «писатели слишком долго «преображали» мир, уводя пассивного и эстетически одурманенного читателя в мир представлений» [там же]. В 20–30 годы в творчестве ЛЕФовцев формировалась традиция репортажно-фактографического письма, утверждающая «не образность, а точность». «Не дешевая символика, а правда живого факта … пора объявить войну художеству» [там же, с. 18].
Другой принцип, восходящий к теории А. Бергсона, рассматривал время как субъективную длительность, которую невозможно удержать и восстановить иначе, чем зафиксировав какой-либо фактографической, пробуждающей память привязкой. Таким образом, субъективность нуждалась в опоре на безусловную реальность, а факт, пропущенный через сознание писателя и зачастую идеологизированный, не мог претендовать на объективность.
Особая роль в изучении проблемы соотношения действительного и вымышленного принадлежит Л. Гинзбург, предложившей искать ответ не в антитезе двух жанровых начал, а в их синтезе. Подчеркивая, что факты, в силу своей «достоверной» природы, даже искаженные сознанием пишущего, являются структурным принципом организации такого синтетического произведения, и именно «этот принцип делает документальную литературу документальной; литературой же как явлением искусства ее делает эстетическая организованность»: «для эстетической значимости не обязателен вымысел и обязательна организация – отбор и творческое сочетание элементов, отраженных и преображенных словом» [Гинзбург, 1971, с. 10]. Местергази придает документу еще большую функциональную силу, утверждая, что «эстетическую значимость этой литературы определяют организующие ее факты, документы, т. е. нечто по сути своей противоположное вымыслу» [Местергази, 2008, с. 9].
Документ, не имеющий эстетической ценности, может свободно интегрироваться в сложившиеся литературные жанры и, чаще всего, в роман – свободный, «не готовый» жанр. По наблюдениям М. Бахтина, роман, как художественная форма вторичного, то есть сложного речевого жанра, способен впитывать и перерабатывать простые, первичные жанры – те, что сформировались в повседневном речевом взаимодействии. В процессе такого взаимодействия первичные жанры утрачивают признаки обыденной речи и престают иметь отношение «к реальной действительности, к реальным чужим высказываниям; … сохраняя свою форму и бытовое значение только в плоскости содержания романа, … то есть как событие литературно-художественной, а не бытовой жизни» [Бахтин, 1979, с. 239].
Мысль Бахтина имеет фундаментальное значение для изучения специфики документального. Практика исследования сюжетной основы эпических жанров такова, что, начиная с античности и до литературы Нового времени, документальные и вымышленные компоненты изучались в сравнении и даже в противопоставлении друг другу, то есть как компоненты однородные, но дифференцированные. Бахтин показал, что вымысел и факт, функционирующие в поле романа, – это разнородные типы высказываний, имеющие неодинаковую природу, и взаимодействующие только в языковой (словесной) сфере12. Речь идет не о механическом разделении специфического единого целого на документальные и романные компоненты, а об образовании особого синтетического жанра, основанного и на вымысле, и на реальных фактах.
От романа-документа к роману
Топос концлагерного романа складывается из одних и тех же семантических единиц, воспроизводящих специфику бытовых реалий. В концлагерном романе их оказывается значительное количество. В каждом произведении они могут разрабатываться по-разному, но их обязательное присутствие позволяет говорить о формировании в этом корпусе текстов процессов, основанных на архетипических мотивах и образах.
Поскольку та идеология, что породила нацистские концлагеря, использовала механизм мифа34, исказив до неузнаваемости его гуманитарный пафос, после развенчания идей нацизма и восстановления миропорядка возникла специфическая потребность вернуть мифу гуманитарное начало, а сам миф – культуре и литературе. Это явление особенно характерно для немецкоязычной литературы, которая стремилась с помощью языка мифа установить прерванный диалог человека с вечностью (М. Бахтин). Эту цель преследует, например, мифологизм Т. Манна (воспроизводство мифологической картины мира в тетралогии «Иосиф и его братья», мифологизм истории в «Докторе Фаустусе», ритуальные модели в «Волшебной горе»), аллюзии на библейскую мифологию и фольклор у А. Зегерс в «Седьмом кресте».
Отчасти наследуя традицию демифологизации и ремифологизации, концлагерный роман не обязательно полностью воспроизводит содержание мифа, усваивая лишь отдельные его элементы. Одними из них является апокалипсический хронотоп (ранее описанный) и апокалипсическая образность, эксплицирующая мифологическое торжество «хаоса».
Мотив смерти, очевидно, является общим не только для концлагерного романа, но и для той литературы, на которой он вырос. На протяжении многих веков семантика мотива смерти значительно трансформировалась. Если раннее средневековье не осознавало смерть как личную драму [Гуревич, 1989, с. 118], то постепенно человек открывал в умирании собственную индивидуальность, примерно к XVIII в. осознав потребность исправить или смягчить идею небытия [Арьес, 1992, с. 296].
В XX в. войны и диктатуры вновь лишили смерть индивидуальности, в то же время сделав ее основополагающей мерой любых интенций. Метафоры смерти, столь популярные в философии и литературе конца XIX в. и в XX в., отражали глубочайший кризис цивилизации и легли в основу разных сфер гуманитарного знания. «Смерть Бога» Ф.Ницше явилась первым звеном в цепи «смертей». О. Шпенглер заявил о «смерти времени», Р. Барт провозгласил «смерть автора», а М. Фуко «смерть человека». Наконец, абсолютизация идеи смерти наблюдается в философии экзистенциализма.
В концлагерном тексте смерть может изображаться как продолжение земного существования в негативной форме, свершение судьбы, испытание, проверка экстремальными обстоятельствами, побуждающая проявить волевую (физическую и моральную) состоятельность личности, исцеление и преображение.
Концлагерная фабула «арест–заключение–освобождение или смерть» совпадает с фабулой одного из базовых мифов – мифа об испытании героя. И в том и в другом случае герой вынужден покинуть родной, устоявшийся мир и через «приобщение к злу» (Мелетинский) качественно преобразиться. Но в концлагерном романе умирание становится не столько этапом испытания, сколько точкой невозврата. Даже преодоленная на физическом уровне метафизическая смерть продолжает уничтожать человека уже после освобождения. Именно поэтому смерть становится ключевым художественным фактом концлагерного романа. Доказательством тому служит закрепившаяся в языке метафора производства и умножения смертей – «фабрики смерти». Мотив смерти в качестве свершения судьбы в концлагерном тексте может реализовываться как в реалистически-обобщенном, так и в натуралистическом ключе (что продиктовано документальной составляющей жанра). В ряде произведений о концлагерях детально изображаются казни, удушения, сожжения, разложение живой плоти, обмороженные и изъязвленные конечности, тела, напоминающие скелеты, ввалившиеся глаза и носы и т. п. Сопровождает такого рода описание внешняя динамика и авантюрность сюжета; согласно им, события раскрываются, но не развиваются. Ядром такого повествования является чаще всего воспоминание или размышление о природе «мирового зла», воплощенного в нацизме.
Подробное физиологическое воспроизведение процесса умирания выявляет банальность внезапной и насильственной смерти. Описание может быть подчеркнуто отстраненным («Больница преображения» С. Лема (1948), «Без судьбы» И. Кертеса), ироничным («Лес богов» Б. Сруоги, «Яков-лжец» Ю. Бекера (1969)), пафосно-трагичным («Искра жизни» Э.-М. Ремарка, «Ночь» Э. Визеля). Констатация идеи «поруганной смерти» в концлагерном тексте осуществляется путем демонстрации смерти, лишенной достоинства и обряда. Могила становится не местом упокоения и скорби, но ямой для утилизации человеческих останков.
Трансформация классических хронотопов
Так автор, применяя комические приемы, соотносит идейную проблематику произведения с важнейшими процессами окружающей действительности и, опираясь на предшествующую литературную традицию, выстраивает своё повествование по принципу плутовского романа. «Пикаресная» структура и плутовская позиция самого рассказчика позволяют автору отказаться от стереотипов, свойственных текстам о концлагерях, и в разработке образа главного действующего лица, использовать образовавшуюся свободную область для реализации неожиданных, нетрадиционных сюжетных линий.
Смысловой центр романа, как и положено в пикареске, – обнажение скрытого внутреннего устройства небывалой до сих пор реальности, обнаружившейся вследствие низвержения героя в ад концлагеря. Подлинные обстоятельства, составляющие событийный ряд «Леса богов», определяют дальнейший ход действия. Дело в том, что эта новая данность складывается не в результате естественных политических, социальных переходных этапов, а вырабатывается искусственно: угрюмая и гротескная, огороженная забором под высоким напряжением явь, единственно возможная альтернатива для героя, за пределы которой он не сможет вырваться никаким, даже самым хитроумным путем. Цель этой пародийно похожей на нормальный мир и в то же самое время гипертрофированно жестокой пространственно-временной структуры состоит в нивелировании личности, в злой насмешке над самим понятием гуманизма. Суть данного мироустройства понимает навсегда сцепленный с ним и не могущий существовать вне его палач. Он и объясняет профессору филологии механизмы воздействия лагеря на психику заключенного: «Несчастная книжная крыса, можешь ли ты представить положение человека, если он обалдевает и доходит до того, что становится людоедом, … превращается в зверя. Впрочем, куда зверю до него. Но он не может стать другим. Он должен, как зверь, защищаться и нападать. Иначе он сыграет в ящик. Его сожрут другие» (с. 117).
В противоположность традиционно-критическому представлению об окружающей действительности – пусть неприглядной, жестокой, способствующей формированию плутовских качеств, но все же не совсем депрессивной, где есть место и для созданий гипотетически счастливых ситуаций, истинная среда Штутгофского концлагеря – сгусток разнообразного и абсолютного зла – состоит сплошь из пройдох, причем самого низкого пошиба, людей вне закона, стоящих перед бескомпромиссным выбором: либо – выжить, либо «подохнуть, …как собака под забором» (с. 386). Стало быть, в принципиально новых условиях способность держаться за свое существование всеми мыслимыми способами и применять ее на практике потребуется пикаро как нельзя больше.
Свойственная характеру плута стремительная адаптация к любым ситуациям реализуется здесь в двух аспектах: пока еще неразвитые плутовские способности в данной обстановке будут проявляться крайне интенсивно и, исходя из особенностей «антиреальной» природы окружающего мира, иметь форму инверсий. Однако следует отметить, что плутовской персонаж никогда не оценивался прямо и однозначно, «эстетическая многогранность присутствует в каждой сцене, в каждой подробности: все оказывается способным излучать двойной свет» [Кожинов, 1963, с. 148]. Образ плута всегда иносказателен, двойственен, «представляет собой не столько реального пикаро, сколько его литературную транскрипцию» [Томашевский, 1975, с. 6]. Поэтому он, являясь «антигероем», эволюционирует чаще по нисходящей линии – его «индивидуализм превращается в эгоистическую сосредоточенность на личном опыте», хотя имеет потенциал и к обратному. Его приключения имеют смысловой подтекст, чаще всего связанный, конечно, с обличительной ролью пикаро, ведь он «одновременно и объект воспитания жизнью, и объект сатирического разоблачения» [Потемкина, Пахсарьян, 1986, с. 70]. Принцип построения сюжета как цепи событий, в результате которых герой принимает путь приспособлений и выгод, тесно связан с романом антивоспитания, который также иллюстрирует процесс постижения аморальной науки: «как не надо жить».
Автор не просто пишет в низкой манере, но раскрывает сам процесс перевертывания высоких понятий в низкие. Место заключения героя – Лес богов, всеми забытая глухомань где-то на балтийском берегу Польши, – предстает одновременно и как мифическая обитель древних богов и как «уютное убежище» для нескольких тысяч заключенных, надежно скрытых от «неблагодарных» очевидцев, могущих вдруг поднять шумиху и, «чего доброго, обозвать «радушных тюремщиков варварами» (с. 16). Таким образом, представление о минувшем подлинном величии заповедных скандинавских мест низвергается до предметного изображения нынешнего поселения, построенного в лучших традициях «барачной» культуры, и теперешних хозяев этого сакрального пространства – чертей (эсэсовцев), впрочем, таких же всемогущих, как северные боги, с той лишь разницей, что повелевают они кучкой полуголодных, оборванных арестантов. Сами же каторжники, живущие под «сенью леса богов», внешне совершенно не напоминают о божественном происхождении человека: грязные, больные, завшивленные, они тем не менее находятся под поистине чудесным покровительством фортуны, которая часто улыбается плутам и прочим искателям лучшей доли. «Это были люди большой физической силы и непреклонной воли, люди, полные безумной решимости все преодолеть и выжить. Впрочем, они были к тому же и счастливчиками, потому что их не спасли бы ни сила, ни выносливость, если бы слепое счастье случайно не одарило их своей улыбкой» (с. 20). С названием коррелирует и мифологическая функция плута-трикстера. Во время своей отсидки профессор Сруога обманывает «богов» тем, что симулирует работу, подделывает записи умерших и живых. Тот факт, что Балис Сруога «исхитрился» выжить, также свидетельствует о его плутовской сущности и способности обводить «богов» «вокруг пальца».
Неизменное и краткое путешествие от появления в концентрационном «антимире» (второе рождение) к вполне реальной смерти, упорядоченное кружение безликих недочеловеков-призраков в почти потусторонней зоне, дикость и замкнутость. И вдруг разрывающее эту фантасмагорическую сферу случайное (в масштабах всеобщего удела) внимание к личности отдельного человека, несомненно, возникает в качестве конкретизации действительного жизненного пути – «карьеры» в лагере и как символическая дорога – судьба, продвижение по которой означает выработку принципиально иного представления о бытии и о себе. Имея скорбную перспективу, противоречащую инстинкту самосохранения, Сруога вынужден это жизненное пространство преодолеть, каким-то образом справиться с ним, что, собственно говоря, герой и делает: проходя путь от новичка через команду доходяг к привилегированному положению служащего в канцелярии лагеря.
Коллективный рассказчик эпистолярного романа
Казненная в Равенсбрюке, Элизабет лишена функции рассказывании. За нее и о ней говорят другие, наперебой перечисляя те качества, которые они в ней ценили: храбрость, силу духа, здравый рассудок, воображение, доброе сердце – «к тому же веселая» (с. 169), несмотря на обстоятельства.
Элизабет оказывается ключевой фигурой повествования, поскольку именно она придумала клуб, название которого объединяет нужды духовные и телесные, она свела вместе разных людей и, что важно, разные сюжетные пласты романа. Если один из них связан с историей оккупации, то второй – с организацией библиотеки.
Начав читать, члены клуба выбирают авторов себе по душе: Бронте, Карлейля, Шекспира, Сенеку, Марка Аврелия, Диккенса – «хорошие книги начисто отбивают охоту к плохим» (с. 68). Они открывают для себя «диспут» – «огромное развлечение. Читая, разговаривая, споря, они «с каждым разом становились ближе и дороже друг другу» (с. 66). К ним «постепенно присоединялись новые люди, и собрания сделались настолько яркими и оживленными», что они «временами забывали об ужасах внешнего мира» (там же). Так «книжки влияют на… жизнь» (с. 108). Каждый из читателей становится в своем роде человеком-книгой. Многие персонажи романа – сироты в результате семейных трагедий (Элизабет, Доуси) или военных обстоятельств (вернувшийся из эвакуации Илая), или сразу того и другого (отец Реми умер до войны, мать – в Аушвице, как и Элизабет, «за укрывание врагов государства» (с. 218), братья пропали). Элизабет объединяет их в семью. Дочку Элизабет, после ее ареста и смерти друзья, передают из дома в дом, (по замечанию недоброжелательницы) «берут… как библиотечную книгу – на несколько недель» (с. 101).
Таким образом, соотносятся два пласта сюжета – реальный и иллюзорный. Связующим звеном между ними является Элизабет. Две дополнительные фабульные линии, обрастающие сюжетными мотивировками, основаны на сопоставлении Элизабет и Джулиет. Элизабет полюбила доктора Кристиaна Хеллмaна – «обычного немца», только «умеющего сострадать» (с. 196). Оба они погибли, и ребенок остался на попечении ее друзей. Джулиет отвергла двух женихов (одного за нелюбовь к книгам, другого – за равнодушие к страданиям) и вышла замуж за Доуси, с которым ее свела книга Ч. Лэма, умеющего «гениально сострадать» (с. 138). Они удочерили ребенка Элизабет.
Второй объединяющий их момент, является одновременно противопоставлением и сопоставлением: Элизабет – читатель, а Джулиет – писатель, ищущий сюжет для новой книги. Жители острова просят ее написать об оккупации, и она начинает собирать материал для статьи. Но даже те, кто намеривался забыть о войне, вспоминают все новые и новые обстоятельства: «весь остров Гернси буквально пишет статью» (с. 106) за нее [Шеффер, Бэрроуз: 37]. Джулиет только начинает понимать, что «здесь есть потенциал для книги» (с. 114), а эта книга уже пишет себя сама. Для того чтобы она не осталась еще одним сборником репортажей, «нужен центр повествования» (с. 172). Таким центром была Элизабет, и роман выстраивается вокруг ее судьбы. Эпистолярный роман не обязан придерживаться хронологии. Поведение Элизабет в разных ситуациях, описанное и оцененное с разных точек зрения, придает образу объемность и наделяет его полнотой жизни. Джулиет видит Элизабет изнутри, поскольку они близки по натуре. Обе наделены способностью замечать светлые стороны темных вещей. Так, Джулиет избавилась от первого жениха, но потеряла свою библиотеку: если бы она позволила ему перенести книги в подвал, они бы не сгорели при бомбежке. Оккупация – зло, но, если бы не ее тяготы, жители острова «к книгам и не притронулись» (с. 124). Роман «Клуб любителей книг и пирогов с картофельными очистками», на первый взгляд, сложно отнести к такой жанровой модификации, как концлагерный роман.
Константная фабула заключения в концлагерь и гибели (Элизабет) или чудесного спасения, обязующего хранить память о погибших (Реми), воплощается в двух персонажах. Один из которых не может свидетельствовать, потому что мертв. Другой призван свидетельствовать о том периоде жизни Элизабет, которое неизвестно ни друзьям, ни хулителям. Свидетелями, но не всегда очевидцами, являются все жители деревни, дополняющие свои рассказы слухами и домыслами. Или, как говорит один из персонажей, он предпочитает «голые факты», но вынужден рассказывать о них «с прилагательными». Другой персонаж стирает с обложки своего дневника слово «размышления», поскольку собирается записывать только «факты», но эти факты он истолковывает прямо противоположно их действительному смыслу.
Единственным невымышленным фактом повествования в романе является факт оккупации острова Гернси и размещения там концлагеря. Вопрос о достоверности воспоминаний постоянно обсуждается в тексте, написанном авторами, которые свидетелями не могли быть, и в письмах действующих лиц. Иллюзорность воспроизводимых «фактов» дополняется «побегом от действительности», в иллюзорность художественных миров, что оказывается «благородным занятием», помогающим сохранить в себе человека.
«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» демонстрирует новый этап модификации структуры концлагерного романа. Он не содержит автобиографического компонента или отсылки к документам, но его фабульная составляющая воспроизводит топос концлагеря, все этапы ведущего туда пути, известные по документальным повествованиям, и все мотивы, характерный для романа такого типа. Миру нацистского варварства противопоставляется мир культуры, представленный как пробудившейся страстью к чтению, так и множеством аллюзий.
Название романа, очевидно, содержит отсылку к Рабле, к Панургу, который оказываясь в новом для него месте, спрашивает, какие книги там читают и какие пироги едят. Псевдоним, под которым Джулиэт пишет свои репортажи о войне – Иззи Бикерштaфф, принадлежит Дж. Свифту («бикерстaфф» означает «палка для битья» (с. 22). Один из жителей, преданный друзьями и удалившийся на остров «растить капусту» (с. 122), напоминает о судьбе императора Диоклетиана. Повествование о страшных временах пронизано юмором, который есть «лучший способ перенести непереносимое» (с. 45). Этот юмор не срабатывает лишь тогда, когда арестовывают Элизабет. И это юмор торжествует, практически достигая состояния абсурда, когда у одной из жительниц острова обнаруживаются восемь писем Оскара Уайльда, адресованных им когда-то ее бабушке – тогда маленькой обиженной девочке. Попытка украсть письма вносит в повествование детективный элемент. Противостояние добра и зла, культуры и варварства придает сюжету притчевый характер. «Благополучное обручение» (как у Джейн Остин) – сказочный мотив, но в отличие от литературных образцов, «сказка только начинается, и каждый день нас ждет новый поворот сюжета» (с. 318). Книга, которую берет в руки читатель, – это роман о том, как пишется роман, тот, что еще должен быть написан.