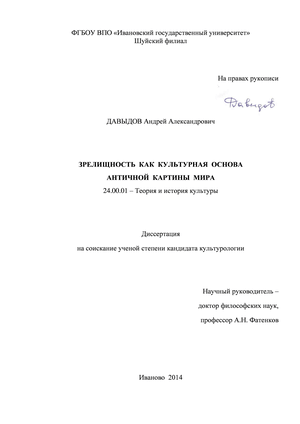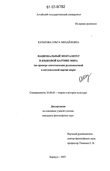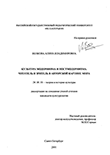Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Субъект-объектные отношения и картина мира
1.1 Понятия «субъект», «объект», «субстанция», «картина мира» 16
1.2 Онтологический и гносеологический подходы к проблеме субъект- объектных отношений 26
1.3 Специфика античной картины мира 38
Выводы по главе I 61
ГЛАВА II. Античная культура и зрелища
2.1 Понятия «зрелище», «зрелищность», prosopon 63
2.2 Гладиаторские бои как зрелище: от ритуально-символических к социально-политическим смыслам 81
2.3 Зрелищность: от античности к современности . 100
Выводы по главе II 116
Заключение 118
Список использованной литературы . 120
- Онтологический и гносеологический подходы к проблеме субъект- объектных отношений
- Специфика античной картины мира
- Гладиаторские бои как зрелище: от ритуально-символических к социально-политическим смыслам
- Зрелищность: от античности к современности
Введение к работе
Актуальность исследования. На протяжении многих веков и тысячелетий развития человечества зрелища были обязательным спутником, сопровождавшим его в различные периоды истории. Перефразируя мысль Г.В.Ф. Гегеля о необходимости войны для каждого поколения людей, можно говорить и об обязательности зрелищ для каждого общества или исторической эпохи. Человек всегда стремится к удовлетворению своих потребностей, не последнее место среди которых занимало и продолжает занимать стремление получить удовольствие, наслаждение посредством чувственных ощущений и восприятий. Отсюда становится понятной непреходящая значимость и популярность зрелищ, ведь именно они позволяют получить наслаждение на основе визуального опыта. Очерченное предметное поле обнаруживает себя в разнообразных сегментах социально-гуманитарного знания. В каждом из них зрелища и зрелищность рассматриваются под разными углами, которые, впрочем, могут быть эвристично сопряжены друг с другом. Культурфилософский анализ античной картины мира, что уже совершенно точно, был бы неполным без апелляции к указанным феноменам и их многоплановым интерпретациям.
Зрелищные формы переполняют античную эпоху, и потому эпитет «зрелищная» подходит к ней как нельзя кстати. В ряду достижений античности далеко не последнее место принадлежит изобретению или, по меньшей мере, возвышению и популяризации разного рода представлений, многие из которых не утратили своего значения до сих пор (театр). XXI век, равно как и предыдущее столетие, можно также считать временем небывалого увлечения человечества зрелищами во всем их прежнем и нынешнем многообразии. XX век внедрил в культуру мощные визуальные технологии и в результате к традиционным сценическим действам и изобразительным формам были добавлены новые, что также позволяет характеризовать ушедшее столетие как зрелищное или визуальное.
Пристальное внимание к античной картине мира (и поиск аргументов в пользу ее существования, факт, который оспаривается рядом интеллектуалов) невозможно без обращения к зрелищности как её культурному основанию. Усматривая параллели современной эпохи с античностью касательно увлеченности эффектным визуальным рядом, любопытно сопоставить, соблюдая гуманитарную корректность, картины мира этих двух исторических этапов.
Особенно значимым представляется содержательное наполнение и уточнение понятия зрелищности как культурной основы античной картины мира, поиску близких к нему по смыслу понятий, а также её инвариантного содержания в многочисленных зрелищных формах.
Степень научной разработанности проблемы. В современной гуманитарной литературе обстоятельно рассматривается феномен зрелища, но о его статусе в рамках той или иной картины мира речь, как правило, не идёт. Особняком стоит работа Н.А. Хренова, посвященная преимущественному изучению зрелищ XX века, их эстетических, художественных, социологических и психологических аспектов. Автором исследуются как традиционные зрелищные формы (ритуалы, праздники, балаганы, массовые гуляния) и традиционные виды искусства (театр, цирк, эстрада), так и появившиеся в XX столетии технические массовые зрелища (кино, телевидение). В монографии обосновывается близкая нам точка зрения, согласно которой в системе искусства зрелищные формы занимают специфическое место, оказываясь не только явлениями художественного плана, но и средствами массового социального воздействия.
Бесспорный интерес для нас представляют известные масштабные реконструкции античной культуры в трудах Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Ницше, О. Шпенглера, М. Хайдеггера. Идеи Ф. Ницше ценны не только оппозицией двух противоборствующих начал эллинской культуры, дионисийского и аполлонического, но и прояснением происхождения древнегреческой трагедии и её эволюции. Немецкий философ аргументированно развенчивает трафаретные представления о всегдашней веселости древних греков, разглядев в их отношении к миру изрядный пессимизм. О. Шпенглер, отождествивший базис каждой из великих мировых культур с душой, не без влияния Ф. Ницше назвал душу античной культуры аполлонической. В «Закате Европы» обнаруживаем её развёрнутую характеристику и ряд аргументов в пользу корректности рассуждений о картине мира в античности. В сочинениях Г.В.Ф. Гегеля и М. Хайдеггера анализируется одно из ключевых понятий античности – «алетейя» в многообразии всех его интерпретаций.
Среди отечественных философов особенно ценны для нас труды А.Ф. Лосева и М.К. Петрова, отличающиеся и обилием толкуемых фактов, и оригинальным концептуальным подходом к античной проблематике. Для первого преобладающей характеристикой культуры эллинов представляется телесность, для второго – ее связь с цивилизацией «оседлых пиратов».
Фундаментальные вопросы субъект-объектных отношений и формирования картины мира, в важном для нас ключе решаются в текстах Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Энгельса, М. Хайдеггера. В них уточняется содержание понятий «субъект», «объект», «субстанция». Из отечественных работ нас заинтересовали прежде всего «Философские тетради» В.И. Ленина; пятитомное издание «Материалистическая диалектика»; статья Э.В. Ильенкова; труды В.А. Лекторского; историко-философское исследование В.В. Соколова, в котором субъект-объектные отношения рассматриваются парадигмальной философской оппозицией; статья А.Н. Фатенкова, где критически оцениваются попытки трактовать субъект преимущественно гносеологически и приводятся аргументы в пользу его онтологического толкования. При сравнении онтологического и гносеологического подходов к проблеме субъект-объектных отношений наряду с вышеперечисленными нами принимались во внимание работы Э. Гуссерля, К. Ясперса и Н.В. Мотрошиловой.
Культурфилософский и эстетический контексты для анализа зрелища и зрелищности в античной культуре воссоздавались с опорой на тексты С.С. Аверинцева, Ф. Баумгартена, В.В. Бычкова, Р. Вагнера, К. Куманецкого, Ф. Поланда.
Специфика античной картины мира реконструировалась прежде всего с учётом неявной полемики А.Ф. Лосева и Ф.Х. Кессиди, их принципиальных разногласий касательно фигуры личности у эллинов. Согласно А.Ф. Лосеву, у нас нет оснований видеть в древнем греке какое-то подобие личности, индивида корректнее обозначать термином «сома», то есть тело. С точки зрения Ф.Х. Кессиди, уже с гомеровских времен человек, поступательно отделяясь от природы, дорастал до уровня личности. В «Двенадцати тезисах об античной культуре» А.Ф. Лосева даётся лаконичное изложение авторской концепции античности. Некоторые из тезисов небесспорны, но мысль о мире, представляемом греками в виде театральной сцены, на которой актеры-люди играют определенные роли, является, с нашей точки зрения, краеугольной для реконструкции античной картины мира. Дальнейшее развитие и углубление лосевские тезисы получили в статьях А.А. Тахо-Годи, где на основе оригинальных древнегреческих источников убедительно доказывается и иллюстрируется вышеупомянутая мысль о театральности как неотъемлемой стороне жизни эллина.
Значительный объем информации об истории античного театра содержат исследования В.Н. Ярхо. В них профессионально излагается история зарождения трагедии как театрального жанра и развенчиваются распространённые мифы и заблуждения о нем. Четко прописывается мысль о принципиальном различии между эпосом и трагедией.
О ритуальной основе зрелищ, уходящей своими корнями к древнейшим формам жертвоприношений, много полезного узнаём из сочинений Р. Жирара, К. Лоренца и М. Мосса.
В трудах Р.Ю. Виппера, Л.С. Выготского, А.А. Кизеветтера, Б.Д. Парыгина, Б.Ф. Поршнева зрелища, в том числе театральные, разбираются с позиций психологии и социологии. Р.Ю. Виппер указывает на ряд важных социальных функций зрелищ: воспитательную, компенсаторную, катартическую, экстатическую. К этой же группе исследований следует отнести и известное сочинение Г. Тарда, в котором производится демаркация часто смешиваемых понятий «публика» и «толпа».
Работы Г.В.Ф. Гегеля «Лекции по эстетике» и М. Хайдеггера «Гегель и греки» послужили основанием для обстоятельного соотнесения понятия «зрелищность» с категориями «видимость» и «несокрытость».
Анализ значений термина prosopon был основан на прочтении оригинала и перевода сочинения Эпиктета по причине частого и разноконтекстуального упоминания в нем данной лексемы.
Для осмысления состояния зрелищ, в частности театральных, в XX веке были использованы произведения А. Арто, Б. Брехта и Ж. Деррида, в которых обосновывается необходимость и неизбежность реформы театра. Немецкий интеллектуал выдвигает проект эпического театра как стратегический путь выхода из возникшего кризиса. Французский теоретик и практик сценического искусства ратует за создание так называемого «театра жестокости». В обоих случаях выдвигается требование кардинального переосмысления базовых принципов и канонов классического театра, начиная с актерской игры и заканчивая устройством сцены.
Для характеристики театральной ситуации в России начала XX в. взяты в качестве основных работы Н.Н. Евреинова, в которых, помимо прочего, «театр» и «зрелище» практически отождествляются. Интересно также исследование историка русского театра В.Н. Всеволодского-Гернгросса, затрагивающее непростую проблему отграничения художественного начала от нехудожественного в области зрелищ.
Отдельно следует упомянуть «Общество спектакля» Г. Дебора. В данном тексте последовательно проводится мысль о бросающемся в глаза сходстве современного общества со спектаклем. Обстоятельно анализируются понятия «видимость» и «зрелищное время», используемые для характеристики нынешней эпохи. В целом пессимистический пафос французского мыслителя не отменяет, думается, справедливости его суждений о нашей действительности.
Некоторые рассмотренные выше аспекты темы получили свое выражение в диссертационных исследованиях. Имеются научно-квалификационные работы докторского уровня, посвященные изучению картины мира, причем как с философских (С.Ю. Иванова, Г.М. Матвеева, О.Р. Раджабова), так и с культурологических (А.Ф. Григорьева, Т.А. Шигуровой) и исторических (В.В. Долгова, О.В. Матвеева) позиций. Обращают на себя внимание диссертации, посвященные изучению античной культуры (Е.А. Чиглинцева, С.А. Баранова, Н.А. Мынды, О.А. Райковой, М.А. Рожкова, В.А. Скобелевой, Г.В. Сорокина), и зрелищам (Н.Н. Благолева, Т.А. Козаковой, И.Б. Шубиной).
Целью исследования является изучение зрелищности как культурной основы античной картины мира.
Объект исследования – зрелищность в её соотнесённости с картиной мира.
Предмет исследования – зрелищность в античной картине мира и в эскизах к концептуальному полотну XX века.
Гипотеза исследования основана на предположении, что зрелищность является культурной основой античной картины мира. Это положение является эвристически значимым в культурологическом контексте.
Задачи исследования:
1. Определить понятие «зрелищность», соотнеся его с кругом семантически близких понятий.
2. Проследить эволюцию понятий «субъект», «объект», «картина мира», обосновать и конкретизировать их взаимосвязь.
3. Систематизировать и уточнить доводы в пользу тезиса о корректности использования понятия «картина мира» в контексте обращения к античной культуре.
4. Специфицировать важнейшие элементы античной картины мира.
5. Провести параллели между зрелищностью античного и современного мира.
Методологической базой исследования является диалектическая парадигма, с её принципами системности и развития, дополняемая герменевтическим методом.
Теоретической базой исследования служат идеи Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Ницше, О. Шпенглера, К. Ясперса, М. Хайдеггера; А.Ф. Лосева, В.В. Соколова, А.А. Тахо-Годи. Труды Г.В.Ф. Гегеля и М. Хайдеггера особенно важны для нас в понятийно-категориальном плане. Работы А.Ф. Лосева и А.А. Тахо-Годи чрезвычайно привлекательны обширным фактическим материалом и оригинальной реконструкцией античной культуры.
Источниковой базой исследования служат тексты Гомера, Платона, Плотина, Плутарха, Тертуллиана, Эпиктета.
Научная новизна работы заключается в последовательном переходе от рассмотрения зрелищ к анализу зрелищности как их сущности и культурной основы античной картины мира.
Конкретные элементы научной новизны состоят в следующем:
1. дано определение зрелищности как культурфилософского понятия, особенно важного для анализа античной картины мира;
2. определён спектр смысловых значений термина prosopon, содержательно близкого к русской «зрелищности», в оригинальном тексте «Бесед» Эпиктета и в их переводе;
3. отношения человека и мира в античную эпоху интерпретируются как субъект-субъектные;
4. подчёркивается общий визуально-зрелищный настрой античной и современной культуры при существенно отличном, в плане отчуждённости, положении человека в этих обществах.
Теоретическая значимость исследования заключается в осмыслении зрелищности как культурной основы античной картины мира. Прояснение архетипа зрелищности, сложившегося в эпоху античности, способствует адекватному восприятию многообразных зрелищных форм прошлого и настоящего.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы диссертации могут быть использованы при проведении научных экспертиз социально-культурных феноменов, а также в образовательном процессе, в преподавании культурологии и философии.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были изложены в научных публикациях и прошли апробацию на научных конференциях различного уровня: на Х Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов «Наука и молодежь» (Н. Новгород, 2009 г.), на XIV Нижегородской сессии молодых ученых (Н.Новгород, 2009 г.), на VII Всероссийской межвузовской научной конференции «Мировоззренческая парадигма в философии: бытие и мышление (реальное, мнимое, симулятивное)» (Н.Новгород, 2009 г.), на XI Международной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов «Инновации в системе непрерывного профессионального образования» (Н.Новгород, 2010 г.); на Международной научной конференции «Современная Россия: опыт социально-философской диагностики» (Н.Новгород, 2013 г.), на VII международной научно-практической конференции «Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых ученых» (Шуя, 2014 г.).
Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры культурологии и литературы Ивановского государственного университета, Шуйского филиала; кафедры философской антропологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Положения, выносимые на защиту:
1. Зрелищность есть культурфилософское понятие, онтологически и эстетически насыщенное, и обозначающее: 1) инвариантное содержание любого зрелища; 2) сущностную черту античного мировосприятия, основанного на имманентно присущим ему чувстве красоты. Видимость и несокрытость концептуально наиболее близки к понятию зрелищности, которое центрирует культурную основу античной картины мира.
2. Prosopon есть понятие, ёмко схватывающее и выражающее зрелищные смыслы античной культуры; широта контекстов его употребления иллюстрирует фундаментальный тезис А.Ф. Лосева о мире как театральной сцене в представлении древнего грека.
3. Зрелище, в частности античных времён, представляет собой социально-культурный феномен, выполняющий ряд культурно-исторических функций: воспитательную, компенсаторную, катартическую, экстатическую.
4. Применительно к античной эпохе корректно вести речь о наличии субъект-объектных отношений и картины мира, а также о приложении термина «личность» к античному человеку.
5. Отношения человека и мира как микро- и макрокосмосов можно рассматривать не только как субъект-объектные, но и как субъект-субъектные.
Соответствие паспорту специальности. Исследование соответствует следующим пунктам паспорта специальности 24.00.01 «Теория и история культуры» – 1.3 (исторические аспекты теории культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры), 1.23 (личность и культура).
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии, включающей 196 наименований. Общий объем диссертационного исследования 134 страницы.
Онтологический и гносеологический подходы к проблеме субъект- объектных отношений
Этимологически слово «субъект» восходит к латинскому subjectus — «лежащий внизу, простирающийся у ног, находящийся в основе». В определении этого понятия здесь и далее мы будем опираться прежде всего на формулировку М. Хайдеггера как наиболее точную в этимологическом плане. Согласно ей, субъект – это «то, что как основание собирает все на себе»28. Примерно в том же ключе пишет и Г.В.Ф. Гегель: «субъект есть то прочное, лежащее в основании…»29. Впрочем, в «Науке логики» можно найти и другое толкование данного понятия, там, где автор рассуждает о суждении и составляющих его частях: субъектом именуется вещь или самостоятельное определение, тогда как предикат есть то определение, которое находится вне субъекта30. Очевидно, в первом случае речь идет о содержательном, онтологическом, а во втором – о формальном, логическом аспекте субъекта, нас интересующем значительно меньше. Как основание и ядро всего сущего онтологический субъект должен обладать определенной активностью, созидающей силой. Термин objectum не имеет столь однозначного смысла и в зависимости от контекста переводится по-разному: «предмет», «противопоставленное» и др. Этимология термина «субстанция» восходит к латинской substantia – «то, что лежит в основе».
Исторические интерпретации указанных понятий богаты своей вариативностью и крайне любопытны, особенно в свете близкой этимологии терминов «субъект» и «субстанция».
У Аристотеля понятием «субъект» (соответствующим греческому «гипокейменон») обозначалось и индивидуальное бытие, и неоформленная материальная субстанция. Средневековая схоластика понимала под субъектом нечто реальное, существующее, в частности, в статусе вещи. «Объект» в данном случае рассматривался как нечто, существующее лишь в интеллекте. Подобное соотнесение терминов можно обнаружить, например, у У. Оккама.
Рассуждая о природе общих понятий, тот писал: «никакая универсалия не есть некая субстанция, существующая вне души … никакая единичная субстанция не является универсалией, но всякая субстанция единична и одна по числу»31. Высказанная мысль подтверждается рядом доказательств. Приведём одно из них. Высказывание, а следовательно, и его части существуют только в уме или в написанных или произнесенных словах, кои не являются частными субстанциями. «Итак, ясно, что никакое высказывание не может быть составлено из субстанций; но высказывание составляется из универсалий; следовательно, универсалии никоим образом не являются субстанциями»32. Согласно У. Оккаму, «универсалия не есть нечто реальное, имеющее в душе или вне ее субъектное бытие (esse subjectivum)», она обладает лишь объектным бытием (esse objectivum) и выступает мысленным образом (fictum), существующим в этом объектном бытии; разум, наблюдающий субъектную вещь вне души, образует сходную объектную вещь в уме33. Иными словами, универсалия есть результат абстрагирования или создания мысленных образов. Итак, субъектное бытие – это бытие чего-либо в качестве субъекта, некой вещи, существующей в действительности, а объектное бытие есть бытие в качестве предмета мысли. Высказывания, силлогизмы – всё, о чем трактует логика, имеет не субъектное, а лишь объектное бытие, оно заключается в познании мыслимых предметов. Как видим, в античной, а впоследствии и в средневековой философии субъект практически приравнивался к субстанции или к нечто похожему на нее, а объект истолковывался как нечто производное от субъекта.
Оппозиция субъекта и объекта мыслителями Нового времени анализируется преимущественно в гносеологическом ракурсе. И этот взгляд продолжает господствовать по сей день. Современное понимание термина «субъект» связано с именем Р. Декарта, что весьма показательно, ведь именно он (наряду с Ф. Бэконом) стоял у истоков новоевропейской, сциентистски ориентированной парадигмы мышления. Картезианская трактовка субъекта является акцентированно гносеологической. В ходе обоснования достоверности знания французский интеллектуал за исходную точку берёт противопоставление субъекта, некоего сгустка познавательной активности, мыслящего Я, и объекта как внеположной субъекту действительности, на которую направлены познавательные усилия. Для обоснования реальности мира объектов философ прибегает к фигуре Бога, абсолютного субъекта, который в силу своего совершенства «не способен обманывать человека касательно его высших познавательных способностей34. Не только применительно к Богу, но и в ряде других случаев термин «субъект» используется Р. Декартом в его традиционно-схоластическом понимании, на что справедливо указывает В.В. Соколов35. Абстрагируясь от фигуры Бога (что картезианская мысль допускает) и сосредоточивая познавательные потенции в человеке, вполне корректным будет рассматривать картезианство в качестве источника обновленного, секулярного, доминирующего сегодня толкования субъекта как активного начала в процессах взаимодействия с миром, как инстанции, являющейся основанием всякой философской деятельности и деятельности вообще. Субстанцию Р. Декарт определяет в аристотелевском духе как вещь, для существования которой не нужно ничего другого, кроме нее самой. Трактуемая таким образом, она может быть, как и субъект, только высшей реальностью, Богом.
Для Б. Спинозы субстанция есть «то, что существует само в себе и постигается само через себя, или то, понятие чего не нуждается в понятии другой вещи, из которого мы должны были бы понимать его»36. Опять же под субстанцией здесь подразумевается божественная или квазибожественная инстанция, а мир трактуется состоянием или модусом субстанции. Именно данным обстоятельством недоволен Г.В.Ф. Гегель. Он поясняет: «…спинозовская субстанция не выполняет требований, которые должны быть предъявляемы к понятию бога, так как бога следует понимать как представляющего собою дух», а Спиноза «…понимает бога лишь как субстанцию, а не как дух»37. В этом и заключается принципиальное расхождение между немецким и нидерландским философами. Важно, правда, еще одно гегелевское замечание: у Б. Спинозы отрицание или лишение отлично от субстанции, полагается вне её. В целом спинозизм определяется Г.В.Ф. Гегелем как «возведенные в мысль абсолютный пантеизм и монотеизм»38, но последний, безусловно, не в христианском своем понимании.
Специфика античной картины мира
С онтологически ориентированной трактовкой субъект-объектных отношений, вернее, с преимущественным вниманием к ней (по сравнению с трактовкой гносеологической) мы встречаемся в работе современного отечественного философа А.Н. Фатенкова. На его взгляд, гносеологически понимаемый субъект «имеет зримый человеческий облик, но на общем метафизическом плане остается фигурой заведомо и навсегда однобокой, не обладающей фундаментальным превосходством перед объектом и потому склонной к объективации, к замене живой, искусной мысли искусственным, машинным интеллектом»; онтологически понимаемый субъект «определенно первенствует над объектом, но не гарантирует бытийного возвышения человека», «статус субъекта есть онтологический минимум для человеческого существа, притом что узурпация субъектной сущности человеком самоубийственна для него»22. Понятно, что безудержное очеловечивание онтологического субъекта опрометчиво. Впрочем, как и процесс десубъективации природы, который существенно урезает, скрадывает спектр отношений человека с миром.
В предлагаемой автором статьи модели субъект-объектных отношений указанная оппозиция соотносится как оппозиция «трансцендирующего и возвращающегося к себе центра и не способной к трансцендированию и безразличной к возвращению периферии. Субъект-центр, выходя за собственные пределы, превращается в свою противоположность, выстраивает объект-периферию, поворачивая затем вновь к себе. Объект есть субъект в инобытийном состоянии, промежуточный результат развития субъекта, подготавливающий его истинное восстановление. Именно в этом восстановлении, возвращении к себе субъект открыто выказывает свое бытийное состояние. Тогда как трансценденция, процесс и результат выхода из себя, может привести к распылению субъекта, убеганию его в дурную бесконечность»23. Фиксируется любопытный парадокс: объект не способен
Фатенков А.Н. Субъект: парадигма возвращения // Человек. 2011. № 5. С. 5-20. С.11. Там же. С. 6. быть собственно самим собой, только и исключительно объектом. «Для подтверждения своего онтологического суверенитета он должен центрировать себя, пройти процедуру самоотождествления, что выше его сил, принципиально невозможно. То прерогатива субъекта, который порой и местами объективируется, превращается в объект... В лучшем случае, объект оказывается онтологически производной субстанцией: чьим-то дубликатом, заместителем, кем-то сделанной вещью, остатком чего-то, останками кого-то. Он может быть инстанцией вспомогательной: зеркалом, в которое всматриваются, чтобы лучше разглядеть себя; стенкой или трамплином, от которых отталкиваются, чтобы занять более выгодное положение. Абсолют однозначно умаляется в объекте. Субъект демонстрирует себя в объектной среде, манипулирует ей – не имея возможности, однако, вовсе обойтись без нее. Она, как и выход к ней посредством трансцендирования, необходимы ему для выявления и снятия отчуждения»24.
Дальнейший анализ взаимосвязи субъекта и объекта требует рассмотрения их предикативных форм, тем более, что в русском языке их несколько: субъектное и субъективное, с одной стороны, и объектное и объективное – с другой. Субъектное и объектное почти целиком мы относим, соответственно, к субъекту и объекту, а субъективное и объективное принадлежат своим инстанциям в той или иной степени, некоторым образом: «имеющееся субъективное мнение предполагает наличие с ним соотносимого и ему противопоставляемого объективного знания. Последнее, в свою очередь, не может пребывать исключительно в самом себе, в тотальном отвлечении от бытийствующего субъекта. Если оно и обладает каким-то суверенитетом, то только по отношению к субъекту бытийно усеченному, сугубо познающему»25. А.Н. Фатенков подмечает, что «субъективное» и «объективное» задают скорее гносеологический, а «субъектное» и «объектное» – онтологический контекст: «быть то ни было, прежде всего человеческих, познавательных потенций и усилий.
Быть онтологически объективным – значит не до конца утратить самобытность субъекта, его способность к внутреннему преобразованию… По сравнению с “субъективным” и “объективным”, в звучании и написании “субъектного” и “объектного” много больше собранности, рельефности. Морфологические структуры означающего и означаемого взаимообусловливают друг друга… Объектная сфера, напрочь отгороженная от субъекта, от того, кто некогда произвел ее, есть воплощенная, непоколебимо-непреодолимая отчужденность, негация… Гораздо существеннее то, что и “незапятнанная” субъектность, не сверенная с объектом, обладает весьма ограниченным ресурсом существования»26. Подытоживаем. «Живя, мы, в частности, познаем мир. Обратное суждение – «познавая, мы, в частности, живем» – верно только в рамках когнитивистской матрицы»27 – вывод, не оставляющий сомнений в расстановке авторских приоритетов.
Таким образом, гносеологически понимаемый субъект, в роли которого может выступать человек или «чистое Я», отнюдь не обязательно обладает решающим преимуществом над объектом, так как последний существует независимо от воспринимающего его субъекта. Онтологический субъект в этом смысле первичен по отношению к объекту, и в этом-то и заключается его ценность.
Гладиаторские бои как зрелище: от ритуально-символических к социально-политическим смыслам
Согласно О. Шпенглеру, собственно трагедия возникла из торжественного причитания над покойником, так называемой тренодии, и потому основным смысловым её содержанием был плач. В дальнейшем, с введением Эсхилом второго актера к нему было подобрано «зримое изображение великого человеческого страдания», так что «зритель, торжественно настроенный, чувствовал в патетических словах намеки на себя и свою судьбу. В нем и совершается перипетия, представляющая собой действительную цель священных сцен»53. Все это указывает на существенную вовлеченность зрителя во все происходящее на сцене; последняя, к слову, «никогда не оборачивается ландшафтом, она есть вообще ничто. Можно назвать ее самое большее постаментом движущихся статуй», перемена сцены была для греков «своего рода профанирующим кощунством»54.
Говоря о происхождении трагедии из ритуала, необходимо отметить ещё одну немаловажную деталь: для жертвоприношений греки заранее приготовляли фармаков, так называемых «козлов отпущения», отношение к которым было неоднозначным: с одной стороны, их считали жалкими, презренными, виновными существами, подвергали насмешкам, оскорблениям и даже насилию; с другой стороны, их окружали почтением, как центральную фигуру культа. «Эта двойственность отражает ту метаморфозу, инструментом которой должна была стать ритуальная жертва, по примеру жертвы первоначальной: она должна притянуть к себе все пагубное насилие, чтобы своей смертью преобразить его в насилие благодетельное, в мир и плодородие»55. Со временем ритуал трансформировался из религиозного феномена в эстетический.
Соотнесенность трагедии с предшествующим ей религиозным ритуалом очень важна, так как позволяет обнаружить ее компенсаторную сущность. Другими словами, воздействие трагедии – социально, поскольку она позволяет изжить, или хотя бы смягчить, многие разрушительные явления. В ритуале человеческая жертва выступает в роли своеобразного громоотвода, ибо агрессия, могущая принять даже массовые формы, в данном случае направляется по другому руслу, локализуется. Данный механизм был назван К. Лоренцом «переориентированным движением». Некоторая форма поведения объекта, в силу действия присущих тому тормозящих механизмов, направляется не на тот предмет, который запустил данную форму поведения, а на другой, отличный от него. К примеру, человек, рассердившийся на соседа, скорее ударит кулаком по столу, нежели по лицу знакомца: этому препятствуют запреты, но ярость требует выхода. «Большинство известных случаев переориентированного движения относится к агрессивному поведению, которое провоцируется каким-нибудь объектом, одновременно вызывающим страх»56.
Воздействие трагедии на человека происходит по логике ритуала, результативность которого во многом определяется экстатическим состоянием его участников, описываемым как «выход из себя» или «временное самоупразднение личности»57. Трансформация психики воспринимающего и означает здесь катарсис, характерный уже для очистительных дионисийских культов и предусматривающий переживание душевного возбуждения и его успокоительное разрешение. Античная трагедия возникает в эпоху перехода общества от архаического, религиозного устройства к устройству собственно политическому. Социальное равновесие и стабильность, ранее достигавшиеся с помощью ритуала, в таком отчасти секуляризированном обществе поддерживается на основе закона, не жёстко связанного с жертвоприношением. Трагедия рождается в момент кризиса ритуала как способа достижения порядка, поэтому эстетическими средствами она стремится к тому же, чего добивались посредством ритуала58. По выражению Р. Жирара, в трагедии на карту поставлена судьба всей общины59. И как тут вновь не вспомнить фармака, смерть которого способна решить острейшую проблему: преодолеть массовое насилие, угрожающее общине или полису.
Показательно, что по мере исторического отделения театра от храма, первый продолжает оставаться на той же площади. Даже когда театральная сцена отделяется непосредственно от храмового здания, то есть могилы божества, она все равно – символически – воспроизводит место жертвоприношения, то есть могилу, но только не бога, а героя. Умирающее божество, а именно Дионис, превращается в архетип театральных представлений; фармак становится архетипическим образом.
О. Шпенглер подчеркивает еще одну характерную особенность греческого театра: античные сценические образы скорее роли, а не характеры. На сцене появляются малоподвижные, ступающие на котурнах, замаскированные тела. «Оттого маска в античной драме даже в позднюю эпоху оказывалась глубоко символической внутренней необходимостью, тогда как наши пьесы не могли бы быть “исполнены” без мимики исполнителя»60.
Разговор о зрелище неизбежно вызывает вопрос о статусе зрителя, того, на кого оно в первую очередь ориентировано. Интересен здесь А.В. Шлегель, предлагающий смотреть на хор как на сущность, экстракт толпы зрителей, как на «идеального зрителя». Ф. Ницше, однако, считает такое утверждение «грубым, ненаучным, хотя и блестящим», которое, впрочем, получило свой блеск «ввиду чисто германского пристрастия ко всему, что зовется “идеальным”, и минутного удивления, которое это утверждение в нас вызывает»61. Главное заблуждение, в плену которого мы можем оказаться – отождествление современной и греческой публики. Конечно, «настоящий зритель, кто бы он ни был, всегда отлично должен сознавать, что перед ним художественное произведение, а не эмпирическая реальность. А между тем трагический хор греков принужден принимать образы сцены за живые существа. Хор Океанид полагает, что действительно видит перед собой титана Прометея, и считает себя самого столь же реальным, как и бога на сцене». Положительный смысл утверждения А.В. Шлегеля, вероятно, состоит в следующем: совершенно идеальный зритель позволяет миру сцены действовать на себя не эстетически, а телесно-эмпирически63
Зрелищность: от античности к современности
Как известно, античная эпоха представлена не только древними греками, но и римлянами. Мы считаем уместным и логичным экстраполировать рассмотренные выше тезисы на историко-культурный материал древнего Рима, проиллюстрировав их на примере, пожалуй, самых популярных зрелищ этой эпохи и одного из самых ярких её символов – гладиаторских боев.
Античные авторы выводят происхождение схваток на арене из религиозного ритуала, а именно из погребальных человеческих жертвоприношений, замененных поединками в результате определенного смягчения нравов. Об этом свидетельствуют, в частности, Тертуллиан и Сервий. Первый указывает на прямую связь термина munus, которым первоначально называли бои, с термином officium, то есть «обязанность»: «поскольку верили в то, что души покойных умилостивляются человеческой кровью, во время похорон приносили в жертву пленных или неважных рабов, купленных ради этого. В дальнейшем было решено прикрыть нечестивость удовольствием»1. У Сервия в комментариях к «Энеиде» читаем: «существовал обычай умерщвлять пленных при погребении могущественных мужей; впоследствии это показалось жестоким и было решено, чтобы перед погребениями сражались гладиаторы, которые называются бустуарии – от слова bustum (погребальный костер)»2. Как видно, оба автора в целом солидарны в объяснении происхождения гладиаторских боев.
Французский исследователь Ж. Виль пишет о двух известных формах погребальных человеческих жертвоприношений: 1) умерщвление части непосредственного окружения умершего; 2) принесение в жертву пленника на могиле воина3. Примерами такого рода акций служат убийство двенадцати троянских юношей на похоронах Патрокла4 и аналогичные действия на тризне Палланта5. Человеческие жертвоприношения, связанные с погребальными обрядами, практиковались у многих народов древности, но, например, для классической Греции они уже отошли в прошлое.
Погребальные церемонии с пролитием крови изображены и в росписях этрусских гробниц и урн III–I вв. до н.э. Вполне вероятно, что это художественное изображение обычая, уходящего своими корнями в более раннее время. Основываясь на фрагменте Николая Дамасского и на данных изобразительных источников, Ж. Виль утверждает, что гладиатура возникла не позднее IV в. до н.э. в Южной Италии в среде смешанного населения, состоявшего из осков, самнитов и этрусков, а в конце IV или III вв. до н.э. этот обычай был перенят и в самой Этрурии6.
Существуют по меньшей мере два подтверждения тезиса о заимствовании римлянами кровавого зрелища у этрусков. Во-первых, погибших на арене гладиаторов убирал Харон (Харун), этрусский бог мертвых. Во-вторых, термин lanista, обозначавший устроителя боев, очевидно, был заимствован из этрусского языка, в котором он имел значение «палач»7.
Распространение данного обычая в Этрурии обусловлено чрезвычайной богобоязненностью местного населения, в религии которого огромную роль играло почитание усопших предков. По верованиям этрусков, смерть означала переход в иную форму бытия, где при наличии привычных земных благ продолжалась прежняя жизнь. Забота о предоставлении необходимых благ для умершего признавалась поэтому священным долгом наследников8.
Итак, есть веские основания видеть в гладиаторских боях форму, хотя и сильно модифицированную, древнего религиозного ритуала. Очевидно, в определенный исторический период она стала неотъемлемым элементом погребальных игр. Рассмотренные свидетельства позволяют с большой долей уверенности говорить о заимствовании римлянами этого обычая у этрусков во времена господства последних в Риме.
Однако есть некоторые основания считать прародиной смертельных поединков во время погребальных церемоний не Этрурию, а область Кампанию, расположенную к югу от Рима. Дело в том, что нет ни одного этрусского памятника, на котором были бы запечатлены сцены, интерпретируемые как сражения гладиаторов. Исключение составляет только так называемая фреска «Игры Персу», на которой изображено как мужчина сражается с собакой, а третий персонаж собаку злит. Но данный сюжет вряд ли может служить иллюстрацией гладиаторских игр, поскольку здесь нет противостояния двух вооруженных людей.
Важным доказательством того, что публичные кровавые поединки зародились в Кампании, служит свидетельство Тита Ливия. В 308 г. до н.э. во время Второй Самнитской войны римляне одержали убедительную победу над самнитами. В качестве трофея было захвачено много оружия, которым они украсили форум, а «кампанцы, при их спеси и ненависти к самнитам, обрядили в эти доспехи гладиаторов, дававших представления на пиршествах, и прозвали их “самнитами”»9.
Другим важным аргументом в пользу данной версии можно считать открытие в Пестуме, к югу от Неаполя, фресок со сценами боев, датируемых 370–340 гг. до н.э.10 На них наряду с изображением фигур скорбящих женщин, состязаний колесниц и кулачных боев обнаруживаются сюжеты кровавых схваток воинов с копьями, шлемами и щитами. В свете этого совсем неудивительно, что наиболее древние из всех знаменитых гладиаторских школ располагались географически именно в этом регионе. На первенство Кампании в отношении развития боевых зрелищ указывает также тот факт, что именно здесь обнаружены датируемые II в. до н.э. остатки самых первых специальных сооружений для проведения таких поединков, впоследствии названных амфитеатрами11.
Таким образом, скорее всего, и римляне, и этруски узнали о сражениях гладиаторов, вступив в тесный военно-политический контакт с населением Кампании, то есть с самнитами. Возможно, отражением этого знакомства стало название самого распространенного в республиканский период типа гладиаторского вооружения – «самнит».
Первые зафиксированные в источниках бои воинов на арене в Риме состоялись в 264 г. до н.э.: их давали Марк и Децим Бруты в память о своем покойном отце12. В дальнейшем подобные прецеденты стали довольно частыми, число участников состязаний постепенно увеличивалось, а география их проведения расширялась. В целом, на протяжении второй половины III и почти всего II в. до н.э. они устраивались в Риме и за его пределами исключительно на погребальных празднествах в честь умерших предков.