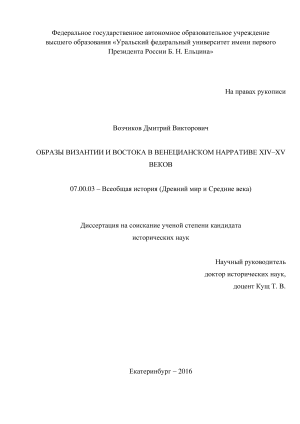Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Венецианские literati треченто-кватроченто: социально антропологический портрет 33
Глава 2. Византийский мир в венецианской традиции 61
2.1. Византийцы о Венеции и венецианцы в Византии в XIV–XV вв 61
2.2. Венецианская Романия: взгляд из метрополии .109
Глава 3. Христианский Восток глазами венецианских интеллектуалов
3.1. Образ Киликийской Армении в Венеции .130
3.2. Христианская Африка глазами венецианских интеллектуалов .143
Глава 4. Венецианский ориентализм .
4.1. Эволюция образа исламского Востока в Венеции 170
4.2. «Три Индии»: венецианский взгляд .226
Заключение .266
Список источников и литературы 270
- Византийцы о Венеции и венецианцы в Византии в XIV–XV вв
- Венецианская Романия: взгляд из метрополии
- Христианская Африка глазами венецианских интеллектуалов
- «Три Индии»: венецианский взгляд
Византийцы о Венеции и венецианцы в Византии в XIV–XV вв
При всем обилии источникового материала, задействованного венециеведческими исследованиями XX в., стойкость стереотипных представлений нескольких поколений исследователей о малой источниковой значимости венецианских нарративных источников вследствие их «пропагандистского» характера наглядно показывает, насколько труднопреодолимы бывают историографические штампы. В частности, признанный специалист в истории венецианской Романии23 Ф. Тирье, анализируя источниковедческий аспект ряда анонимных хроник XIV–XV вв. из Библиотеки Марчиана, утверждал, что италоязычная хроника кодекса 550 «заслуживают мало доверия», а в кодексе 1577 «информация неравномерна и в целом посредственна»24. К. Сеттон в фундаментальной работе о папской политике на Востоке отмечал: «По сравнению с документальными источниками венецианские хроники представляют небольшую ценность для истории Четвертого крестового похода и показывают разве что самовлюбленный настрой венецианского правящего класса»25. Лингвистический поворот в гуманитарном знании во второй половине XX в. привел к оформлению имагологии как самостоятельной и самоценной исторической дисциплины. Из исследований второй половины XX в., посвященных интеллектуальному взаимодействию Венеции и Византии и затронувших особую роль Венеции в распространении греческого языка в ренессансной Италии и Европе в целом, а также особенности венецианского отношения к ученым византийцам, стоит отметить работу Д. Джеанакоплоса «Греческие ученые в Венеции»26. Различные сюжеты, связанные с венецианским восприятием византийского мира, с проблемой рецепции венецианским историописанием отдельных сюжетов византийского нарратива, образы византийского мира в гуманистическом историописании нашли отражение в работах А. Пертузи27. Образы венецианцев в византийском нарративе находятся в поле зрения П. Чезаретти28. Труд Д. Найкола, охватывающий всю многовековую историю венецианско-византийских связей посвящен главным образом истории дипломатии и культурных связей, однако ряд аспектов взаимного восприятия венецианцев и византийцев также нашел отражение в исследовании 29 . Специфическое значение венецианской образной системы в качестве объекта исследования в настоящее время выделяется, главным образом, американским исследователем Т. Мэдденом и румынским венециеведом Ш. Марином. Т. Мэдден констатировал связь ретроспективного конструирования образа Византии в венецианском историческом нарративе XIV–XVI вв. с формированием и развитием в это же время венецианского политического мифа 30 . Ш. Марин активно задействует математические методы при исследовании инокультурных образов и общих мест венецианских хроник, в частности, в недавней статье о развитии венецианского дискурса о мире ислама31.
В целом, сюжеты, связанные с общей средневековой западноевропейской галереей образов иных цивилизаций от Византии до Китая, во второй половине XX в. переживают расцвет и в западной, и с 1990-х гг. в российской гуманитарной исторической науке. Этому способствуют и солидный источниковый материал (итинерарии, хроники, различные трактаты о реальных либо воображаемых путешествиях в страны Трех Индий, бестиарии, дипломатические документы, акты торговых операций и т. п.), и разнообразная методологическая база интеллектуальной истории, позволяющая осветить формирование представлений о чужедальних краях с разных углов зрения – геополитики, военной истории, торговой практики, наконец, гендерной истории, как в недавней работе К. Ночентелли «Империи любви: Европа, Азия и создание идентичности раннего Нового времени»32 . Сборник «Венеция и Восток», вышедший в 1987 г. под редакцией крупного итальянского синолога, профессора Университета Ка Фоскари (Венеция) Л. Ланчиотти, включил ряд работ по тематике восприятия венецианцами и шире – итальянцами – Востока от Египта до Японии33. Правда, венецианским образам Востока, формировавшимся в Новое время, в данном сборнике было уделено существенно больше внимания, нежели средневековым образам Востока в Венеции.
Средневековые образы исламского мира – популярный сюжет в современной мировой и отечественной историографии. Дж. Толан рассматривает топос об идолопоклонстве, приписываемом мусульманам в хрониках первого крестового похода, с точки зрения его «книжной» генеалогии как продукт, главным образом, внутренней логики провиденциалистского нарратива, испытывавшего потребность в уподоблении противников крестоносцев мучителям Христа и гонителям христиан 34 . Ф. Кардини в монографии с говорящим названием «Европа и ислам: история непонимания» обращается в основном к западным интеллектуалам в целом35, и рассмотрение венецианской специфики взгляда на исламский мир в его задачи не входило.
Венецианская Романия: взгляд из метрополии
«Моря питомцы, склонные к плутовству, подобно финикийцам, коварные духом» 215 , – так охарактеризовал в своей «Истории» жителей коммуны на Адриатике Никита Хониат, предваряя рассказ о событиях 1171 г. Старший современник Хониата Евстафий Фессалоникийский в речи по поводу освобождения Анконы уподобил Венецию «земноводной змее, болотной лягушке», а венецианцев называл «морскими разбойниками с Адриатики»216. В то же время представления Евстафия о венецианцах не сводились исключительно к пренебрежительной их характеристике: Евстафий указывал на смешанный характер государственной власти в Венеции, сочетавший, по его мнению, черты монархии и аристократии, и, по замечанию П. Чезаретти, был достаточно хорошо информарован о венецианских магистратах 217 . Разительный контраст между гигантской сухопутной империей и морской республикой достаточно ясно осознавался современниками как на Босфоре, так и на Адриатике, и констатация этого геополитического несходства стала в византийском описании Венеции поистине общим местом, причем если для венецианцев морской образ жизни был не просто повседневностью, но и поводом гордиться уникальным положением с его неоспоримыми торговыми преимуществами («Люди венецианские воспитаны воде», как утверждал Марино Санудо218), то для ромеев скорее был клеймом несовершенства и неустроенности в мире. Э. Калделлис утверждает, что с позиции официального византийского нарратива вплоть до конца существования Византии Венеция, вышедшая из орбиты имперского влияния, благодаря торговле, оставалась «выскочкой»219 . Во многом по этой причине для ромеев, обычно испытывавших страх перед морской стихией220, могущество торгово-мореходной Венеция было для византийского дискурса в некотором роде загадкой, исторической и географической аномалией. При этом факт упадка политической мощи Византии в эпоху Палеологов венецианскими интеллектуалами вполне осознавался.
«Книга тайн верных креста» 221 (1307–1321) Марино Санудо Торчелло, адресованная папе и включавшая проект крестового похода против Египта под руководством Венеции, уделила значительное внимание Византии и греческим владениям Венеции. Отношение к Византии у Санудо в его энциклопедическом трактате достаточно враждебное. В частях трактата Санудо, отведенных изложению истории крестовых походов, византийцы не раз названы Graeculi – «гречишки»222. Эта уничижительная кличка применялась автором «Книги тайн верных креста» в основном тогда, когда речь шла о неприятии греческим духовенством унии с Римом. Санудо в своем главном труде с известным возмущением писал об отказе Михаилу VIII Палеологу, принявшему Лионскую унию в 1274 г., греческим духовенством в погребении223. Отношение к Михаилу VIII (1259–1282), несмотря на то, что именно при нем была уничтожена Латинская империя, у Марино Санудо в более поздних сочинениях становится достаточно уважительным. Уже в письме к епископу Остии и Веллетри кардиналу Бертрану дю Пуже от 1330 г., которого Санудо стремился убедить в необходимости выстраивания широкой коалиции против турецких эмиратов, венецианец говорил о василевсе вполне сочувственно, возлагая ответственность за провал церковной унии и отлучение Михаила папой Мартином IV в 1281 г. на Карла Анжуйского224. Примечательно, впрочем, что в том же 1281 г. Венеция, еще вполне реально, а не в качестве риторической формулы, лелеявшая планы вернуть Константинополь под свой контроль, оказывала Карлу Анжуйскому серьезную поддержку против Михаила. 3 июля 1281 г. в папской резиденции в Орвието Карл Анжуйский оформил соглашение с венецианскими послами и титулярным латинским императором Филиппом де Куртене (1273–1283), приходившимся Карлу зятем, о грядущем походе на Византию с целью восстановления латинского господства в Константинополе. Венеции, обязавшейся предоставить крестоносной армаде не менее сорока судов, отводилась ведущая роль на море225. Правда, и Карл, и венецианцы на тот момент серьезно недооценили дипломатические способности и волю Михаила, которому в марте 1282 г. удалось вывести своего самого опасного противника из игры, спровоцировав «Сицилийскую вечерню»226 на неспокойном острове, стоившую Карлу власти над Сицилией и морского могущества.
В этом же обширном послании к Бертрану дю Пуже, входившему в ближайший круг папы Иоанна XXII, Марино Санудо привел немало подробностей недавней истории взаимоотношений Византии с властителями Запада. Санудо прямо указывал на главный внешнеполитический мотив обращения Михаила к унии, а также на серьезность намерений императора насаждать унию в своей державе: «Светлейший король Карл I Сицилийский и Иерусалимский вознамерился захватить империю Романии на том основании, что в этой империи он имел зятя – императора Филиппа, который был из дома владетелей Фландрии и Геннегау. А в этой империи император кир Михаил Палеолог, господствовавший в Константинополе и его землях, решил всеми путями и средствами защититься от упомянутого короля. И он поступил так. И направил он своих послов на Лионский собор, который был открыт во время папства Григория из Пьяченцы [Григорий X – Д. В.]. По его приказанию они поклялись святой матери Церкви, изрекая: “Верую в Бога”, затем, как говорится у латинян: “иже от Отца и Сына исходящего”. И во имя этого он предал смерти и в море утопил многих своих монахов, настоятелей и прелатов и многих других из своего народа, что желали держаться противоположного взгляда.
Христианская Африка глазами венецианских интеллектуалов
Санудо уделил большое внимание религиозной специфике африканских христиан. Этот аспект особенно важен: инаковость нубийцев и эфиопов относительно европейцев демонстрируется Санудо именно через религиозные различия. Отдельная глава его труда, написанная в довольно экспрессивном стиле, отведена под критику обрядов нехалкидонских христиан с многочисленными ссылками на Писание, что естественно для сочинения, адресованного папе. «В Святой земле и других частях Востока, – писал автор проекта, – есть еще некоторые, сильно отличающиеся и от латинян, и от греков, а из них кое-кого зовут якобитами или якобинами, по имени некоего своего учителя Иакова, ученика одного Александрийского патриарха. Они давным-давно были отлучены патриархом Константинопольским вместе с Диоскором и исключены из греческой церкви. Они населяют большую долю всех земель Востока: некоторые проживают среди сарацин, другие при отсутствии неверных живут в собственных странах. Это, разумеется, – Нубия, которая тянется от Египта до большей части Эфиопии, и все земли вплоть до Индии, в которой, как они утверждают, более двенадцати царств» 576 . Далее следовало перечисление канонических «заблуждений» монофизитов. Термин «якобиты», очевидно, здесь обозначает монофизитов вообще, а не только сирийских монофизитов, что в целом обычно для текстов того времени. У Гайтона копты также были названы якобитами577.
Не всегда можно с уверенностью идентифицировать ту или иную практику, описанную в труде Санудо, с конкретной локальной общностью восточных христиан. Наряду с догматическими отличиями монофизитов от католиков, Санудо отметил некоторые бытовавшие у африканских христиан практики жизненного цикла. Первым в этом списке шло обрезание: «Своих младенцев обоего пола они обрезают, не обращая внимания на то, что говорил апостол Галатам: “Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа” (Гал. 5:2)»578. Обрезание – действительно, традиционная, нормативная для эфиопов-христиан практика и в наши дни. Обрезание мальчиков обычно проводится до крещения, через неделю после рождения ребенка 579 . Эксцизия, широко распространенная в Северной и Центральной Африке, также характерна для Эфиопии до сих пор, правда, есть данные, что в наше время ее заменяют символическим действием580. Санудо считал, что монофизиты исповедуются не священнику, а, как им кажется, непосредственно Богу, просто бросив в огонь кусок ладана581. Правда, этот пункт, в целом маловероятный, едва ли относился к нубийцам или эфиопам. В Эфиопии исповедовались только священнику. В традиционном эфиопском обществе и жизненном цикле роль исповеди чрезвычайно велика582.
Еще одна традиция, бытовавшая в нубийском и эфиопском обществе, – скарификация лица в детстве, также вызвала осуждение венецианского автора. Не исключено, впрочем, что венецианец утрировал подробности локального обряда. Согласно его описанию, «многие из них допускают ошибку, на лбу своих младенцев еще до крещения нанося метки раскаленным железом, а некоторые выжигают на них знак креста» 583 . Сам Санудо связывал 584 этот обряд с буквальным толкованием слов Иоанна Крестителя: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11).
Сведения о подобных телесных практиках проникали в западные тексты о восточных делах и ранее. Участник Четвертого крестового похода рыцарь Робер де Клари сообщал о визите в Константинополь «короля Нубии», «все тело которого было черным, а посреди лба у него был крест, выжженный раскаленным железом»585 . По свидетельству де Клари, этот монарх остановился при дворе Алексея IV Ангела, совершая паломничество. Он следовал по маршруту: Иерусалим – Константинополь – Рим – Сантьяго-де-Компостела. Рыцарь также передал слова африканца в ходе беседы с василевсом и баронами-крестоносцами: «И он еще сказал, что все жители в его земле христиане и когда рождается ребенок и его крестят, то ему выжигают раскаленным железом крест на лбу, такой, как у него самого. И бароны рассматривали этого короля с большим изумлением»586.
Венецианец Марко Поло также не обошел вниманием этот обычай в Абасии (Абиссинии): «У здешних христиан на лице три знака, один знак от лба до середины носа, да по знаку на каждой щеке; метят они знаки горячим железом, и это их крещение: после крещения водою делают вот эти знаки, и для красоты, и для завершения крещения»587. Санудо, в отличие от де Клари и Поло, утверждал, что шрамирование совершалось перед крещением. Также в повествовании Робера де Клари и Марко Поло мы не видим какой-либо оценки этой практики как «ошибочной», с религиозной точки зрения. Для рыцаря обычай шрамирования у африканских христиан – скорее примечательная экзотическая подробность, а не свидетельство «ошибок» в понимании христианской веры. Для венецианского путешественника и агента Хубилая Марко Поло – особенность, характерная для определенного места. В XV в. рассказы о скарификации в Эфиопии посредством каленого железа стали общим местом в трудах католических миссионеров588 . Примечательно, что сама по себе традиция скарификации, сохранившаяся в некоторых местах Судана до наших дней, едва ли имеет отношение к религиозным практикам в узком смысле слова: шрам – это, главным образом, племенная тамга589. Санудо же, описывая нравы нубийцев, перевел изначально внерелигиозное явление в чисто религиозное смысловое поле.
«Три Индии»: венецианский взгляд
Главным, что Кврини подчеркивал в переписке после 1453 г. на политическую тему, была неукротимая решимость султана захватить христианский мир и наличие у него соответствующей военной силы. «На острове Хиос, – рассказывал Квирини в том же письме, – некие обездоленные пленники просили милостыню во имя Господа нашего Иисуса Христа. И многие из местных говорили: “Молчите, о несчастные, прекратите просить Христа ради, просите же во имя Махомета, который Христа победил и одолел!”» 842 . По замечанию гуманиста, султан, овладев Константинополем грезил о мировом господстве, он каждый день читал Арриана, считая себя вторым Александром843. В последнем гуманист был прав: Мехмед действительно искренне подражал Александру844, Искандеру Двурогому, призрак которого веками будоражил завоевателей мусульманского мира. Все же, Квирини не был, как подчеркивал А. Пертузи, зачинателем топоса в латинской публицистике о том, что Мехмед видел себя вторым Александром, был же им, по видимому, кардинал Исидор845. Так, в письме приорам Флоренции Исидор писал: «В силу различных знаков и внушений он [Мехмед – Д. В.] дошел до такой гордыни, что без сомнения утверждает, что царь Александр Македонский, восхищения достойный, подчинил весь мир с меньшей силой, и разве тот, кто уже захватил имперское царствование над Константинополем, и владеет неисчислимым войском, не сможет покорить весь мир?» 846 . Очевидно, в риторических описаниях османской угрозы Квирини действовал все же более как гуманист, член общеевропейского гуманистического круга, нежели как носитель венецианского мифа, каким он представал в публицистике на общественно-политические темы.
Дважды, в 1458 и 1464 гг. Квирини пытался представить своим корреспондентам – соответственно кардиналу Лодовико Тревизану-Скарампо и папе Пию II – подробный перечень османских санджаков по Анатолии и Румелии, начиная с Атталии, с указанием численности войск 847 . Э. Захариаду констатировала, что гуманист Квирини оказался довольно слабым политическим аналитиком, представив в обоих случаях устаревшие на тот момент сведения, соответствовавшие реальной картине на примерно 1430 г848.
Джорджо Дольфин вскоре после падения Константинополя собрал в своей хронике ряд свидетельств о завоевателе. Дольфин, ссылаясь на венецианца дона Джакомо Лангусто, включил в текст хроники словесный портрет Мехмеда II под получавшим в этот период широкое распространение воображаемым титулом «Великого Турка»: «Султан, Великий Турок, – молодой человек двадцати шести лет, хорошо сложенный и ростом чуть выше среднего. Он искусен во владении оружием. Его облик более внушает страх, чем уважение. Он редко смеется, осторожен в суждениях и наделен огромной щедростью … . Он мечтает сравняться в славе с Александром Великим и каждый день компаньон по имени Кириако Анконский и другой итальянец читают ему историю Рима и других народов»849. Также, по свидетельству Лангусто, Мехмед говорил на трех языках: турецком, греческом и «славянском»850. Дольфино подчеркивал, что гигантские пушки, используемые Мехмедом изготавливались немецкими оружейниками. Султан описан как правитель одновременно религиозный, жестокий и не склонный к какому-либо вожделению, кроме жажды славы852. Характеристику Мехмеда с набором быстро сложившихся в западной традиции топосов можно встретить в речи гуманиста и дипломата Венецианской республики с Негропонта Николая Секундина к королю Альфонсо V Арагонскому: «Он тщательнейшим образом исследовал систему управления курией и царским двором … . Что касается его образа жизни и поведения, то хотя им не свойственны та умеренность, та скромность и строгость, которые требуются от серьезного и нравственно чистейшего князя, тем не менее, не очень сомневаясь, его, пожалуй, можно было бы назвать воздержанным и рассудительным»853. Эвбейский автор заметил очевидное несоответствие между характером Мехмеда и сложившимся комплексом представлений о его подданных. Схожий прием использовал Раффаино Карезини, рассуждая о венгерском короле Лайоше.
Уроженец венецианского Крита Георгий Трапезундский (1395–1472/73), пытавшийся в своих посланиях и трактатах убедить Мехмеда не просто принять христианство, но и – уже в роли христианского государя – возглавить утопическую всемирную монархию, оказался одиночкой в ряду византийских и итальянских гуманистов. По мнению отечественной исследовательницы Лобовиковой, знания Георгия об исламе, несмотря на его попытки преодолеть укоренившиеся в христианском мире стереотипы о мусульманах, были все же достаточно поверхностны, а текст Корана он использовал в латинском переводе854. Критянин писал султану: «Ты видишь, всезлатый эмир и истинный султан: весь род людской разделен на три части, на евреев, христиан и мусульман, из коих род евреев невелик и слишком рассеян, род христиан многочисленен, велик и имеет великие силы, мудрость и знание, род же мусульман весьма велик и достоин удивления. Итак, если кто-то эти два человеческих рода, я имею в виду христиан и мусульман, к одной вере и одному исповеданию приведет, то я клянусь Богом небес и земли, что его будут прославлять среди всех людей» 855 . Нетрудно заметить, что при такой схеме устройства мира огромное население стран Южной, Юго-Восточной, Восточной Азии, именуемых в то время зонтичным термином «Индии», оказывалось за пределами «рода людского» или, что куда вероятнее, попросту ничуть не интересовало автора послания, осмыслявшего текущие политические события в категориях средневековой христианской эсхатологии. Еще одна важная деталь в характеристике турок и мусульманского мира в целом выделяла Георгия Трапезундского из широкого круга христианских авторов, писавших об исламе: он намеренно отказывался от представления об исламе как о религии меча и насилия, а также с восторгом и интересом отзывался об османском языке, «солнечном и ослепительном языке турок»856 . Какими бы намерениями ни руководствовался Георгий, его проект, как и проекты Николая Кузанского и Хуана Сеговийского, остался интеллектуальной утопией, не оказавшей значительного влияния ни на конструирование образа ислама в венецианских трудах, касавшихся восточных сюжетов, ни тем паче на восточную политику западных государств, включая Венецию.