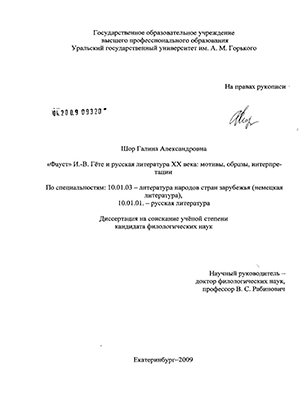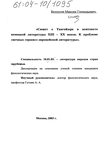Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Серебряный век: интерпретационные модели усвоения «Фауста» Гёте 33
Глава 2. «Фауст» в отечественной литературе 1920-1930-х годов 63
Глава 3. «Фауст» Гёте в творческой интерпретации М. Булгакова («Роковые яйца», «Собачье сердце») 97
Глава 4. Гётевское начало в творчестве В. Набокова («Защита Лужина») 130
Глава 5. Художественная модификация гётевских идей в литературе второй половины XX века 170
Заключение 223
Список использованной литературы 228
- Серебряный век: интерпретационные модели усвоения «Фауста» Гёте
- «Фауст» в отечественной литературе 1920-1930-х годов
- «Фауст» Гёте в творческой интерпретации М. Булгакова («Роковые яйца», «Собачье сердце»)
- Гётевское начало в творчестве В. Набокова («Защита Лужина»)
Введение к работе
Важнейшим . атрибутом современного мирового литературоведения стало изучение литературы как взаимодействия различных эпох, культур, а также отдельных художественных произведений во всём многообразии их контекстуальных и интертекстуальных связей. При этом необходимо признать особую роль в этом процессе тех литературных памятников, которые в силу разных причин обладают повышенным «магнетизмом» для художников последующих эпох. Среди таких произведений особое место занимает трагедия И.-В. Гёте «Фауст», которая по самой своей природе является, на наш взгляд, уникальным культурным «перекрёстком», ведущим диалог, с одной стороны, с уже сложившимися культурными парадигмами (античной, средневековой, ренессансной), а с другой - с теми вечными проблемами, архетипическими смыслами, которые уходят своими корнями в миф, в первую очередь библейский, что позволяет определить книгу немецкого классика как своеобразную «квази-Библию» мировой литературы. Именно эта особая культурная насыщенность гётевского текста и делает его, по нашему убеждению, произведением, которое оказывается неизменно востребованным на каждом последующем этапе развития культуры, в том числе и русской литературы XX века, где он заложил своеобразную традицию, которую вслед за Г. Ишимбаевои можно обозначить как «русскую фаустиану» XX века.
В данной работе диалог русской литературы XX века с гётевской трагедией прослеживается на разных (мотивном, образном и др.) уровнях организации текста во всём многообразии их пересозданий и «перекодировок».
Актуальность данного диссертационного исследования определяется повышенным интересом современного
литературоведения к феномену диалога в
литературе (шире - в культуре), к разного рода межтекстовым взаимодействиям, а .также усилением внимания к иррациональным, мистическим, фантастическим смыслам в литературе и к их воссозданию и пересозданию в рамках разных национальных культур.
Научная новизна диссертации состоит в том, что, несмотря на наличие в современном литературоведении работ, затрагивающих проблему диалога «Фауста» с отдельными произведениями русской литературы XX века, (главным образом с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова, в связи с чем диалог «Фауста» с этим булгаковским романом в данной диссертации практически не рассматривается), относительно целостной картины рецепции «Фауста» в русской литературе XX века в её сущностных закономерностях, в многообразии её проявлений и одновременно в её эволюции в течение XX столетия на данный момент в литературоведении не сложилось. Также исследование русской фаустианы XX века в данной работе осуществлено на литературном материале, который ранее в «фаустовском» контексте не рассматривался. В диссертации впервые осуществлён развёрнутый анализ диалога с «Фаустом» таких произведений, как «Мёртвые боги» А. Амфитеатрова, «Анатэма», «Дневник Сатаны», «Покой» Л. Андреева, «Голос из могилы» Г. Чулкова, «Старуха» Д. Хармса, «Антихристово причастие» М. Слонимского, «Исходящая №37» Л. Лунца, «Воображаемый собеседник» О. Савича, «Гомункулус» И. Варшавского, «Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте» В. Пьецуха.
По сравнению с уже исследованными в отечественном гётеведении (Г. Г. Ишимбаева,2002; Г. В. Якушева, 2005) текстами И. Сельвинского, С. Алёшина, А. Левады, И. Варшавского, Н. Елина и В. Кашаева, в представленной
диссертационной работе дан развёрнутый анализ таких произведений указанных выше авторов, как «Читая "Фауста"», «Мефистофель», «Фауст и смерть», «Душа напрокат», «Поездка в Пенфилд», «Ошибка Мефистофеля».
В фаустовском контексте в работе рассмотрены ранее практически не анализировавшиеся в этой связи произведения М. Булгакова («Роковые яйца», «Собачье сердце»), а также «Защита Лужина» В. Набокова.
Объектом данного диссертационного исследования стали отдельные произведения русской прозы и драматургии XX века в аспекте их взаимодействия с трагедией И.-В. Гёте «Фауст».
Предметом - становление и функционирование усвоенных и пересозданных фаустовских мотивов, образов, смыслов в русской литературе XX века.
Цель исследования состоит в обнаружении и раскрытии многообразных и сложных взаимосвязей между текстами русской литературы XX века, с одной стороны, и трагедией Гёте «Фауст» - с другой, причём выявление этих взаимосвязей в работе двунаправлено - оно призвано вскрыть новые смыслы в русской литературе XX века, а также, опосредованно, в самом гётевском тексте.
Эта цель обусловила постановку ряда задач: -рассмотреть функционирование присутствующих в
тексте «Фауста» мифологем и возможности их
экстраполяции в иной культурный модус.
-проследить эволюцию поэтапного отражения
гётевского «Фауста» русской литературой от Серебряного
века до конца XX века.
-описать модели взаимодействия отдельных
произведений русской литературы с «Фаустом» Гёте.
-по возможности выявить и акцентировать в трагедии Гёте «Фауст» те скрытые смыслы, которые актуализируются русским литературным контекстом.
Методологические принципы и теоретическая значимость работы. Методологической основой диссертации является сочетание историко-генетического анализа, структурно-типологического метода, а также метода рецептивной эстетики. Теоретическую базу работы составили труды М. М. Бахтина, Ю. Кристевой, Н. А. Кузьминой, М. Г. Зельдовича, 3. Г. Минц, О. Н. Турышевой, Ю. В. Кондаковой и др. Данное исследование обогащает традиции компаративного анализа на новом литературном материале.
Практическая значимость проведённого исследования определяется возможностью использования её материала в процессе вузовского преподавания зарубежной (творчество И.-В. Гёте) и русской литературы XX века, а также в издательской деятельности.
Апробация работы. По результатам проведённых исследований прочитаны доклады на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологического образования: наука - вуз - школа» в городе Екатеринбурге в марте 2003 года, на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы анализа литературного произведения в системе филологического образования наука - вуз — школа» в городе Екатеринбурге в марте 2004 года, на Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста и речи» в городе Соликамске в феврале 2004 года, на Международной научной
конференции «Библия и национальная культура» в городе Перми в октябре 2004 года, на Международной научной конференции «Дергачёвские чтения - 2006» в городе Екатеринбурге в октябре 2006 года. Основные положения диссертации изложены в семи публикациях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения. Библиография содержит 274 наименования, из них 42 на иностранных языках.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. «Валентность» произведения Гете «Фауст» по
отношению к русской литературе XX века определяется
корреляцией базовых доминант русской культуры XX
столетия с целым рядом смыслов, заложенных в гётевской
трагедии.
По мере эволюции русской литературы XX века её диалог с гётевским «Фаустом» выстраивался по-разному, в силу большей востребованности в те или иные периоды разных фаустовских смыслов и мотивов.
2. Своеобразие диалога литературы Серебряного
века с «Фаустом» определяется её особой отзывчивостью к
метафизическим смыслам в тексте Гёте, к присутствующему
в нём идеалу преодоления реальности во имя Абсолюта, к
гётевской Елене как метафоре возрождённой античности.
В русской литературе Серебряного века особое место занимает пьеса А. Андреева «Анатэма» и его повесть «Дневник Сатаны» как своеобразный «анти-фаустовский» цикл, в рамках которого заданный гётевским Прологом спор о человеке находит противоположное разрешение - в рамках воплотившейся в творчестве Андреева модели человеческой природы и человеческого удела.
Для усвоения «Фауста» отечественной литературой 1920-1930-х годов характерно сатирически окрашенное осмысление советской реальности указанного периода через призму гётевской «дьяволиады»; отсюда -появление в отечественной литературе 1920-1930-х годов галереи «сниженных» Мефистофелей и «сниженных» Фаустов раннесоветского времени.
Диалог с «Фаустом» занимает важное место в творчестве М. Булгакова, причём не только в его романе «Мастер и Маргарита», но и в повестях «Собачье сердце» и «Роковые яйца». Русский' писатель в своих произведениях воспринимает и пересоздаёт гётевскую модель взаимоотношений учёного и действительности, причём если Персиков из «Роковых яиц» несёт в себе лишь «фаустианское» начало, то Преображенский из «Собачьего сердца» совмещает черты и Фауста, и Мефистофеля, в то время как гётевский образ Вагнера-создателя Гомункула трансформируется в «Собачьем сердце» в образ Борменталя, хранителя фундаментальных основ мироздания, уничтожившего «Гомункула»-Шарикова.
Своеобразная трансформация «Фауста» Гёте осуществлена в романе В. Набокова «Защита Лужина», в котором полемически пересоздаётся и фактически уничтожается просветительский смысл трагедии «Фауст» (отсюда - «зеркальность» набоковских смыслов, мотивов, элементов поэтики по отношению к соответствующим смыслам, мотивам, элементам поэтики в тексте Гёте).
Начиная с хрущёвской «оттепели» (а в отдельных образцах - и начиная с 1940-х годов) диалог с «Фаустом» становится достоянием «соцреалистической» литературы. В советской литературе 1940-1980-х годов оказались практически не востребованными метафизические смыслы «Фауста» и, напротив, оказались востребованными смыслы «просветительские», общегуманистические, а также
некоторые этические - в частности, связанные с проблемой ответственности учёного за результаты своего труда (как правило, на зарубежном материале). «Фаустовские» мотивы оказались востребованными, в частности, в научно-фантастической литературе 1960-1970-х годов.
В рамках диалога советской литературы 1940-1980-х
годов с «Фаустом» существенно расширился диапазон
интертекстуальных связей на образном уровне. В советской
литературе этого времени возникла обширная галерея
трансформированных «Фаустов», «Мефистофелей»,
«Вагнеров», порой взаимно антонимичных и по своей сущности по своей роли в развитии действия.
Серебряный век: интерпретационные модели усвоения «Фауста» Гёте
Феномен Серебряного века включает в себя и определённые особенности интертекстуального диалога с иными культурными эпохами, относящимися к ним литературными направлениями, художественными мирами: к одним Серебряный век остался индифферентен, по отношению к другим - обладал высокой интертекстуальной «валентностью». «Культурологичность» Серебряного века, его открытость культурному диалогу осознавалась самими писателями этой эпохи.
Не случайно в 1910 году Ю. Слёзкин в предисловии к своему первому сборнику новелл «Картонный король» писал: «Нас было пять молодых, восторженных, начинающих... Мы... искренне поклонялись красоте и служили ей... И орден назвали:., орденом "Картонного короля". В честь такого Картонного короля, что в дни- весёлых карнавалов, в дни лжи и наслаждений - один ведёт за собой толпу масок и умирает в пламени, когда наступают будни, чтобы снова воскреснуть для радостно-лживой Легенды, для творчества, Мифа»1. На смену бытописанию, изображению современности приходит время легенды, обращения к.ушедшим прошлым векам, дальним, порой фантастическим, странам. Подобная-тенденция объясняется, в первую очередь, тем, что в интересе к культуре прошлого виделся знак грядущего обновления современного искусства2. По этой причине многие художники воспринимали свою эпоху как «Неоренессанс». Так С. А. Ауслендер писал: «История всего человечества дала нам неисчерпаемое богатство разнообразнейших форм и красок. Художник волен пользоваться всеми. Только его самодержавная воля избрать пурпур Цезаря, тунику мудреца, шёлк маркизов,... чтобы облечь в них свои замыслы. В почти единогласном стремлении к уходу в прошлое у современных художников видится мне жалкое искание нового»1.
Ещё одна черта литературы рубежа XIX—XX веков - тяготение к стилизации; она стала частью творчества А. Белого, В. Иванова, В. Брюсова, Н. Гумилёва и многих других писателей. В этот период активно осваиваются сюжетные и повествовательные мотивы литературы прошлых веков, переносятся в новую литературную реальность ранее возникшие фабульные формулы. Примечательно, что в начале XX века тенденция к стилизации не означала абсолютного ухода в прошлое. Использованные теми или иными авторами «архаизмы» были призваны прояснить многое в жизни современной. «Улыбающаяся скука вечного повторения» - так называл подобную литературную ситуацию М. Кузмин, который, как и ряд других писателей, сумел увидеть за карнавальностью трагическое в своей основе мироощущение человека начала XX века — драматического времени потрясений и катастроф. Писатели начала века осознали, что не существует чётких границ между настоящим и прошлым, что относительна грань между действительностью и вымыслом.
Диалог с культурой прошлого был характерен, в частности, для символизма. Не случайно в своих программных статьях Д. С. Мережковский выявлял истоки нового художественного мироощущения (в частности, в качестве одного из «предтекстов» символистского сознания он выделял трагедию Гёте «Фауст», вобравшую в себя одновременно дух Средневековья и тезисы Просвещения, то есть метафизическую открытость - и рационализм).
Наиболее органично связано с литературой предшествующих эпох другое течение Серебряного века — акмеизм. «Культурологичность» акмеизма обосновывается в трудах о поэзии Н. Гумилёва («Наследие символизма и акмеизм»), О. Мандельштама («Разговор о Данте»), В. Нарбута, М. Зенкевича, а художественная практика акмеистов предполагала обилие реминисценций и аллюзий.
В то же время, как уже отмечалось выше, интертекстуальная «валентность» разных литературных источников по отношению к литературе Серебряного века была различной. Для этой литературы характерен вызов реализму (что проявлялось и в откровенном игнорировании реалистического наследия) и особый интерес к направлениям, характеризующимися метафизической открытостью, обращенностью к иррациональному, в частности - к романтизму (отсюда - характерный именно для данного периода феномен неоромантизма).
Проблема таинственной связи обстоятельств с человеком определяет содержание целого ряда произведений того времени. Именно в этом контексте в русской литературе начала века активно развивался мотив взаимоотношений человека с миром инфернальным, «дьявольским» - как правило, в непременной связи (пусть и опосредованной) с пространством сакральным, «божественным». Мистерия, созданная Гёте, с её многоаспектностью, обращенностью к потустороннему, иррациональному, метафизической открытостью, с её деструкцией художественных канонов и созиданием новых форм становится благодатной почвой для художников начала XX века, стремящихся, как некогда и немецкий классик, сместить грани между реальностью и ирреальностью. Отсюда интерес к потусторонним героям, генетически,или типологически связанным с эстетическим полем «Фауста».
В числе этих авторов и Александр Васильевич Амфитеатров, прозаик, фельетонист, литературный критик, драматург. Сам себя Амфитеатров называл писателем «без выдумки», считая себя публицистом. Однако публицист и фель- , етонист не смог проигнорировать художественную тенденцию эпохи, что объясняет его приверженность нетипичной для самого писателя теме соприкосновения человека с иным измерением. В 1911 году была опубликована его новелла «Мертвые боги». Как известно, тема гибели античных богов, к которой обращается Амфитеатров в своём произведении, приобрела особую популярность в русской литературе в самом конце XIX века, после выхода книги немецкого философа Макса Нордау «Вырождение». Нордау удалось афористично сформулировать социокультурный пафос эпохи, наполненный предощущением будущих потрясений, распада фундаментального и приближения к некой метафизической пропасти, за которой воцарится пустота. Хроникёр и публицист Ам фитеатров, в полной мере осознавший отличительные черты современной ему действительности, в литературной форме интерпретировал тезис Нордау, придав ему качественно иную, художественную оболочку.
Смысл обращения писателя к средневековому легендарному материалу сродни смыслу обращения Гете к легенде о чернокнижнике и маге Фаусте. Новелла Амфитеатрова, соотносящаяся с художественными приметами эпохи, допускает некоторое типологическое соприкосновение с «Фаустом» Гёте. Более того, содержит некоторые неявные маркеры, свидетельствующие о возможности непосредственного влияния текста гётевской трагедии на текст амфитеат-ровской новеллы. Как и в случае с гётевским Фаустом, изначально ничего в жизни Флореаса не предвещало необыкновенных событий. Он ведёт вполне обыденное существование успешного ремесленника, однако случайность полностью изменяет уклад его жизни. Как и гётевский Фауст, герой Амфитеатрова сталкивается с потусторонними силами. На смену вполне бытовой ситуации приходит ситуация метафизически окрашенная.
«Фауст» в отечественной литературе 1920-1930-х годов
Эволюционируя по собственным внутренним законам, литературный процесс не может не быть детерминирован особенностями социально-исторической обстановки. После Октябрьской революции 1917 года размежевание в творческой среде часто приобретало непримиримый, во многом необратимый по своей сути характер. Так уже в 1920-е годы пошёл процесс деления на «пролетарских» писателей и так называемых «попутчиков». Начиная с 1930-х годов социалистический реализм в качестве «главного» метода советской литературы был призван вытеснить все остальные. В указанный период никакая иная мировоззренческая линия, кроме официальной, государственной, уже открыто не манифестировалась. Всё то, что противоречило установкам соцреализма, либо безжалостно уничтожалось, либо лишалось доступа к читателю. Литература, носящая официозный характер, творила миф о некой идеальной жизни. Это была идеология, в основе которой лежал идеал «жизнестроения». Инакомыслие требовало сложного, трудноразличимого опосредования, иносказания (в том числе и через реминисценции и аллюзии, восходящие к культурным источникам прошлого). Тем самым, особенности литературного процесса 1920 - 1930-х годов во многом объясняются социокультурной ситуацией в стране.
- В обозначенный выше период обостряется интерес к сатире прошлых веков, через посредство которой иносказательно обозначаются общественные пороки уже иного, советского времени. В XX веке оказываются востребованными традиции Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Кроме того, многие писатели насыщают свои произведения интертекстуальными отсылками к сатирическим смыслам в западной литературе, к произведениям Рабле, Свифта и других писателей. Создаются великолепные сатирические произведения Ильфа и Петрова, Зощенко. Сатира, допускающая сосуществование гротеска и иронии, становится художественным веянием времени. Авторы-сатирики 1920 - 1930-х годов, не ограничиваясь злободневными сиюминутными проблемами, стремились обращаться к вечному; на страницах их произведений органично сочетались злободневные проблемы и вневременное начало.
По ряду причин сохранил определённую интертекстуальную «валентность» по отношению к русской литературе этого времени и гётевский «Фауст». Литература официальная, полностью вписанная в идеологический канон, фаустовские смыслы и мотивы в себя практически не включала (позже, начиная с конца 1940-х и особенно активно в 1950 - 1970-е годы отдельные фаустовские смыслы - в основном просветительские, общегуманистические, связанные с проблемой ответственности учёного за своё творение - уже легально войдут в смысловое поле соцреалистической литературы). В то же время отдельные фаустовские смыслы оказались вполне продуктивными для литературы «параллельной», в 1920-е - начале 1930-х ещё балансировавшей на грани легальности. Оказалось, что смысловое поле «дьяволиады» в русской литературе этого периода позволяло очень точно передать сущность новой эпохи. Таким образом, если в литературе Серебряного века инфернальные смыслы, скорее, относились к человеческому уделу, более того — к устройству мироздания в целом, то в «параллельной» русской литературе 1920 - 1930-х годов — уже непосредственно к советской эпохе вообще и отдельным её атрибутам в частности.
В частности, обэриуты привносят в пространство своих произведений ин-фернальность как игровое начало1, некогда позволившее немецкому классику создать наисложнейшую мистерию. Революция как коренной слом, изменивший мироздание, в центр всего поставила мистический абсурд, сделала реальность фантомной. Обэриуты в пропагандировавшемся ими «реальном» искусстве под действительностью подразумевали нечто парадоксальное, выходящее за пределы привычного. Тем не менее, это было «реальное» искусство, поскольку в окружающем мире витал дух фантасмагоричности, непредсказуемости. Отсюда определённая «разомкнутость» многих художественных творений, включение в их эстетическое поле потусторонних образов.
Сама эпоха - амбивалентная, парадоксальная, абсурдная, демонтированная по своей сути - стала импульсом для обращения авторов к метатексту. Особое место в литературе 1920 - 1930-х годов занимает творчество М. Булгакова и В. Набокова. В творчестве первого присутствуют элементы непосредственного пересоздания «Фауста» — на образном, мотивном уровнях, даже на уровне хронотопа; причём в произведениях Булгакова инфернальное (в том числе имеющее непосредственное фаустовские истоки), с одной стороны, является атрибутом советской реальности, с другой — напротив, включает в себя некое спасительное пространство, позволяющее освободиться от этой реальности (царство Воланда в «Мастере и Маргарите»). В творчестве В. Набокова, который в 1920 - 1930-е годы жил и творил за пределами Советского Союза, фаустовские смыслы в большей степени относились не к социально-исторической конкретике, но к универсальной данности человеческого удела. Впрочем, фаустовским смыслам, образам и мотивам в творчестве М. Булгакова и В. Набокова посвящены отдельные главы данной работы.
Весьма своеобразна рецепция «Фауста» в творчестве Д. Хармса. Гётевские смыслы причудливо вторгаются в структуру его повести «Старуха». Характерное для литературы 1920 - 1930-х годов игровое начало в полной мере проявило себя и в данном произведении. Мотив игры органично входит в ткань повести Хармса. При этом существенно то, что писатель словно зеркально отражает тот процесс игры, который характерен для передаваемой им исторической действительности.
Это произведение Хармса заключает в себе особую художественную логику, в которой житейское, рассудочное начало органично сочетается с фантастичностью. Хармс отображает в «Старухе» реальность, в которой возможно всё. В его повести, как и в произведении Гёте, мистический пласт призван высветить её ярче. Как и в случае с М. Булгаковым, фантастическое допущение корнями своими уходит в явь. Условность здесь лишена неопределённости,
чрезмерности, напротив, она помогает человеку увидеть мир и себя в нём. Развивая подобные идеи, Хармс стремится плотно сомкнуть фантастическое и реальное. Особое бытование фантастического сюжета, призванного раскрыть сущность действительности и передать её сложность, позволяет говорить о гё-тевской традиции в текстах Хармса.
В творчестве Гёте тесно сплетаются реальное и фантастическое, причем находит свое воплощение и такой тип фантастики, которую Ю. Манн называет завуалированной или неявной1. Вместо прямого вмешательства фантастических образов в повествование появляется множественность соответствий с собственно фантастическим планом, имеющим место в сознании читателя. Гётевская трагедия двойственна, в ней происходят необыкновенные фантастические события, и в то же время это причудливые «сны во снах» Фауста. Формируясь ещё со времён Античности, мотив сна создавал некую ситуацию «другой жиз-ни» персонажа, и в то же время был призван завуалировать её мистическую, ирреальную природу. Фантасмагорические сны Фауста выявляют беспорядочность, порою алогичность человеческой жизни, где стремления, порывы, чувства так непрочны перед лицом вечности, где беды и трудности людей исчезают в бесконечной гармонии вечных небес.
«Фауст» Гёте в творческой интерпретации М. Булгакова («Роковые яйца», «Собачье сердце»)
Отечественное литературное поле XX столетия характеризуется явными противоречиями, обусловленными, в первую очередь, процессом политической «вулканизации». Социальные потрясения, обрушившиеся на страну, череда революций, Гражданская война вызвали к жизни различные творческие модели, наполненные порой конъюнктурным, порой антиофициозным художественным содержанием. В этой ситуации насыщенность интертекстуальными связями становится особенно значимой: обозначить связь времён и культур нередко означало фактически бросить вызов тем, кто отрекался от прошлого.
В литературе советской России 1920-х годов образ дерзкого искателя Фауста был чрезвычайно популярен, хотя и отмечен знаком «неполноты, ограниченности односторонне-прямолинейного прочтения Гёте как безусловного рационалиста-просветителя, без учёта того таинственного, иррационально-загадочного, что врывалось в его жизнь и творчество и что сам поэт имел в виду, говоря о том, что не всё делится на логику и разум без остатка»1. На этом фоне особенно выделяются повести М. Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце».
Трагедия «Фауст» была одним из самых любимых произведений Михаила Булгакова. Фаустовские реминисценции в самом знаменитом, «закатном» бул-гаковском романе очевидны. Неудивительно, что множество исследователей, изучая, роман Булгакова и творчество Гёте, сравнивают именно «Мастера и Маргариту» и «Фауста» - эта параллель достаточно изучена в булгаковедении1. Не случайно Булгаков избрал для своего романа «Мастер и Маргарита» в качестве эпиграфа цитату из «Фауста». Можно всецело согласиться со словами А. Кураєва, который отмечает, что «Булгаков своим эпиграфом требует рассматривать свой роман в перспективе гетевского «Фауста»2. По свидетельству близких, задумав роман о дьяволе, Булгаков все время рисовал Мефистофеля. Действительно, мефистофелевскими чертами обладает явившийся в Москву под личиной немецкого профессора Воланд, внешние атрибуты которого (эмблема пуделя) также отсылают нас к гетевскому тексту. О духовном единстве Мастера и Фауста свидетельствует многое, не случайно именно с Фаустом сравнивает Мастера Воланд, важны даже жесты булгаковского героя (не случайно на вопрос И. Бездомного, не писатель ли он, Мастер показывает кулак (по-немецки «кулак» - «Фауст» ).
С тем, чтобы выявить точки схождения булгаковского произведения с сюжетной формулой гётевской трагедии, необходимо обозначить особенности моделирования фабульного ряда «Фауста». Так, Ю. Дмитриев и А. Зиновьев в своей работе «Тайна гения» указывают на то, что Гёте в «Фаусте» придаёт структуре сюжета форму возвышающихся друг над другом кругов. В результате образуется трёхвитковая восходящая спираль, исходящая из одной точки. Используя подобный подход к произведению Гёте, условной точкой можно считать кабинет Фауста. В данном пространственном поле точно смыкаются начала и концы сюжетных линий, здесь происходят свойственные духовному становлению диалектические переломы, «скачки». По мнению исследователей, каждый после- дующий круг есть очередной этап интеллектуального «взросления» главного действующего лица, природная суть которого двуедина: Фауст - Мефистофель. Подобного рода структурированный план предполагает наличие трёх инвариантных модусов - «кругов», в соответствии с терминологией, принятой А. Зиновьевым и Ю. Дмитриевым.
Круг первый - замкнутый кабинетный топос Фауста, где герой претерпевает первое потрясение, утратив веру в позитивную и продуктивную направленность всего того, на что была нацелена его деятельность прежде. Фауст совершает прогулку у городских ворот, замечает бездомного пуделя, который впоследствии обернулся искусителем. В этот момент кабинетный учёный, признающий истинность умозрительного знания, пытается коренным образом переосмыслить жизнь, отречься от прошлого.
Круг второй - замкнутая в пространстве земной необходимости новая ипостась существования героя. В союзе с Мефистофелем Фауст покидает кабинет. Круг третий, воспроизведённый Гёте, призван очертить истинную, самостоятельную жизнь свободного человека, который, признавая значимость познания, одухотворённый своими идеями, планами, неудержимо устремляется к высоким целям, переходя на уровень космического созидания.
Очевидно, подобная сюжетная формула приложима и к отдельным произведениям М. А. Булгакова. Так, в повести «Роковые яйца» Булгаков перерабатывает гетевскую сюжетную формулу, во многом полемически пересоздает её, и также представляет своеобразные «жизненные круги» кабинетного учёного.
Круг первый - личный топос Персикова, включающий в себя, в первую очередь, кабинет института и периодически расширяющийся. Этот человек, как и Фауст, отрёкся от мира внешнего. Героя отличает изрядная доля аскетизма («...газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него...».1), ведь главное - воплощение идеи, перевод её из плана потенциального в реальный.
Круг второй детерминирован конкретной социокультурной и исторической ситуацией. Сюжетно этот круг моделируется эпизодом встречи героя с Рокком. Булгаков творчески усваивает именно эту схему; выход булгаковского героя за грани замкнутого пространства есть точка соприкосновения с теми метаморфозами, которые ожидали гётевского Фауста.
С точки зрения Булгакова, образ Рокка напрямую соотносится с потрясениями, произошедшими в стране. Об этом свидетельствует и специфика описания героя: «...на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зелёные штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в жёлтой битой кобуре»1. Облик героя повести Булгакова социально- и конкретно-исторически детерминирован. Фантасмагорическая постреволюционная действительность окрашивает окружающее в определённые тона. «Зелёные штаны» Рокка в сочетании с жёлтой кобурой явно символизируют алогичность, парадоксальность происходящего. Таким образом, вечное, неизменное дьявольское начало отражается в пёстром, многоцветном земном облике, наполненном противоречиями и пороками. Искушая профессора Персикова, историческая эпоха в какой-то момент являет себя в образе Рокка.
Гетевский Фауст, человек познающий, идущий рука об руку с Мефистофелем, творящий на пути зло, тем не менее, в конечном итоге служит Добру. В булгаковской же повести созидательная по своей изначальной сущности научная мысль профессора Персикова в своем воплощении становится дьявольской силой, уничтожающей все живое. Булгаковская интерпретация заставляет переосмыслить наследие Гёте. Выход из кабинета научной идеи Персикова - это уже безусловная деструкция. В то же время, выход Фауста из кельи - однозначно ли это обретение, созидание, возможность преобразования? Ведь обещанный Мефистофелем «поход в большой и малый свет»2 начинается с кабака, где «с неба не хватают звёзд, но веселятся до упаду» .
Гётевское начало в творчестве В. Набокова («Защита Лужина»)
Можно согласиться с Г. В. Якушевой, которая отмечает в своей работе «Фауст в искушениях XX века», что «путь гётевского Фауста как символа просветительской эры, прослеженный по вершинным или наиболее представительным произведениям европейской, в том числе отечественной и американской литературы XX века, служит красноречивым доказательством живой связи нашего столетия с традициями Просвещения XVIII века — связи, предполагающей не только преемственность, но отталкивание, преодоление и отказ»1. Траектория эволюции образа Фауста в литературе XX столетия соответствует наиболее общим законам развития духовной культуры. В этом смысле естественным образом шло усвоение накопленного Гёте художественного опыта, который был «переложен» им на страницах трагедии «Фауст», ставшей знаком времени, источником всё новых и новых творческих импульсов, обусловливающих появление разнообразных художественных произведений.
Гётевские идеи, мотивы, образы, вошедшие в число магистральных в литературном процессе XX столетия, отчетливо проявились в произведениях Владимира Набокова. Творчество этого писателя складывалось на стыке устоявшегося, фундаментального и новаций2. Во многих его произведениях в чисто набоковских, причудливых и нередко неожиданных хитросплетениях угадывается традиция, порой тщательно замаскированная блестяще отточенными фразами, парадоксальными умозаключениями, порой проступающая сквозь стилевые изыски. В. Набоков, заявивший в работе «Николай Гоголь» о «всемирности» мэтра русской классической литературы, предугадал (и это отразилось в его «Лекциях по русской литературе») и собственную судьбу — быть феноменом не только русского, но и мирового культурно-художественного процесса. В частности, об особом внимании писателя к мировому литературному наследию свидетельствует уже сам факт написания таких значительных трудов, как «Лекции по зарубежной литературе» или перевод на английский язык и знаменитые комментарии к «Евгению Онегину»1. Важно то, что Набоков принадлежит к тем мастерам слова, в чьем творчестве отчетливо проявляется интертекстуальный компонент (проблеме интертекстуальности творчества Набокова посвящены исследования О. Сконечной, Н. Телетовой, Г. Шапиро и др.2).
Одним из художников, существенно повлиявших на художественное сознание В. Набокова, стал И.-В. Гёте, писатель, чьё творчество вышло за узкие для каждого гения временные и пространственные рамки, кому в полной мере удалось стать художником наднациональным. В творческих изысканиях Гёте, прежде всего в «Фаусте», В. Набоков смог увидеть особый духовно-интеллектуальный импульс. В. В. Заманская, размышляя о творчестве В. Набокова, отмечает: «Феномен его художественного создания являет собой тонкое и неповторимое сочетание русского и европейского стиля мышления»3. Внутренняя синтетичность творчества Набокова, его способность органично ассимилироваться в качественно новой для него среде, стремление соединить национальное и общемировое демонстрируют изначальную готовность писателя воспринять активно бытующие в литературе протосюжетные формулы (т. е. архе-типические идеи, воспроизводимые в различных-художественных произведениях) и спроецировать их на «тело» собственных произведений. Масштабность, «космичность», отличающие мировидение В. Набокова, его неординарное мышление, позволяют выделить наиболее яркие и значительные истоки его произведений и, в первую очередь, трагедию «Фауст».
Гётевские идеи, сюжетные линии и образы проявляют себя во многих произведениях Набокова, но особое внимание следует обратить на его роман «За-щита Лужина»; именно здесь в некотором смысле заключён исток последующих сочинений писателя. Опыт интертекстуального прочтения, предполагающий анализ двух творений - «Фауста» и «Защиты Лужина», позволяет приблизиться к процессу «декодирования» романа Набокова, а, с другой стороны, подобная исследовательская работа предоставляет возможность искать пути, помогающие увидеть новое в уже, казалось бы, «прочитанном» тексте Гёте. Фаустовское начало, заложенное во многих художественных текстах, сопрягает их с особым прообразом, повлиявшим на духовный и художественный строй русской литературы - с гётевским образом ученого, вступившего в союз с дьяволом.
Читательское и исследовательское обращение и к трагедии Гёте «Фауст», и к творчеству Владимира Набокова предполагает наличие определённой установки на чтение - «преодоление». Проза русского писателя,, как и драма Гёте, превращается в своего рода интеллектуальное состязание между читателем и его воображаемым собеседником - писателем, умело соткавшим из грёз особую реальность. У немецкого писателя фактор читателя начинает играть совершенно особую роль: «одно и то же произведение может быть прочитано читателями с разным уровнем проникновения в текст»1. Гёте явился одним из создателей особого рода литературы, требующей от читателей эрудиции, способности «вхождения» в художественное пространство, существующее вне привычных парадигм. К такой литературе отчасти относится и проза Набокова. Оба автора органично внесли в свои произведения некий культурный код, требующий осмысления и последующей читательской трактовки, что позволяет говорить о наличии точек соприкосновения между произведениями Гёте и Набокова.
Некую долю холодности, рассудочности можно считать сущностно значимой чертой этих художников, отдалённых друг от друга эпохами. И Гёте, и Набоков не были «художниками страсти». Для них характерен рациональный подход к мирозданию. Созерцательность, умиротворённость стоиков - таковы составляющие внутреннего «я» данных художников. Это позволяет говорить о допустимости сближения типов их художественного мышления.
В открывающем «Фауста» «Посвящении» Гёте обращается к неким идеальным читателям, возле которых автор молодеет душой и творит с новыми силами, и опасается непонимания читателей легкомысленных, «непосвященных»: Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, Опять припоминаю благодарно. Им не услышать следующих песен, Кому я предыдущие читал. Распался круг, который был так тесен, Шум первых одобрений отзвучал. Непосвященных голос легковесен, И, признаюсь, мне страшно их похвал, А прежние ценители и судьи Рассеялись, кто где, среди безлюдья1. Имплицитно представленная в тексте ориентация на воображаемого читателя, которая присутствует в произведениях Гёте (когда читатель должен не идти на поводу у автора, а становиться соавтором), укрупнена в творчестве Набокова и становится характерной для его прозы (эта сторона его творчества будет рассмотрена ниже).
Важно и то, что за условной знаково-метафорической моделью, характеризующей произведения Гёте и Набокова, проступает и иной пласт, напрямую соотносящийся с реальностью. Авторы подошли на страницах своих творений к тому, что можно назвать феноменом прототипности.