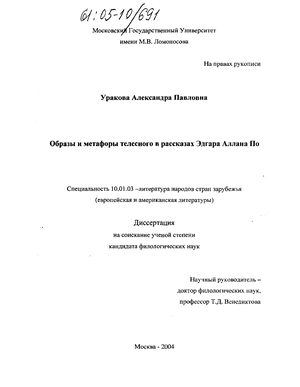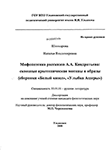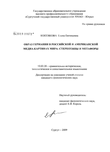Содержание к диссертации
Введение
Главаї. Тело как объект наблюдения и рассказывания 25
1.1. Техники рассказывания о теле 34
«Перевод» 34
«Реставрация» 37
«Комбинирование» 41
1.2. Тело как объект манипуляции. Дискурсная форма власти 47
1.3. Техники аналитического «чтения» тела 53
1.4. Комический образ тела-текста... 60
Глава 2. Телесный коллапс и обрыв повествования 67
2.1. Факты одного эксперимента 67
2.2. Взгляд Медузы 76
2.3. Стратегии и граница (само)отчуждения 88
Глава 3. Семиотика больного тела. Заражение как аналог художественной суггестии 104
3.1. Бессознательное проецирование симптомов болезни 113
3.2. Заражение как соматическая индукция 121
3.3. «Заразный» текст 137
Заключение 144
Библиография 151
- Техники рассказывания о теле
- Факты одного эксперимента
- Бессознательное проецирование симптомов болезни
Введение к работе
Тема телесного, тела и особенностей его «функционирования в культуре» в последние несколько десятилетий активно разрабатывается в самых различных гуманитарных дисциплинах и - вопреки изменчивости интеллектуальной моды — по сей день остается незавершенным пространством междисциплинарного диалога. Среди работ по данной тематике заметно преобладание историко-культурных исследований, выполненных в русле нового историзма и / или феминистских штудий (feminist studies). Теоретики и историки литературы также активно осваивают это направление, что не удивительно в связи с (1) размыканием дискурсных границ науки о литературе, ее возрастающим интересом к вопросам культуры; (2) проблематизацией границ «природы» и «культуры», и соответственно соматического и семиотического, тела и текста.
В современной гуманитарной науке тело (биологическое, природное явление, согласно традиционным интерпретациям) перестало рассматриваться как оппозиция культуре; оно чаще изучается как некий социокультурный конструкт, продукт тех или иных дискурсивных практик. Предметом обсуждения, таким образом, становится не собственно тело, но множество его культурных (в том числе и историко-литературных) «версий»: визуальных образов, форм изображения, моды, стереотипов и т.п. Историков культуры интересует не тело per se, но разнообразие связанных с ним референций, знаков и практик, которые множатся и становятся общими в пределах одного канона. «Дискурсные системы и символические структуры» в конечном счете «отдаляют нас от тела» (move us away from the body), - считает американский критик Питер Брукс: последнее связано с природой лингвистического знака, который по своему определению «предполагает отсутствие обозначаемого им объекта»2.
1 Зенкин С.Н, Работы по французской литератур*. Екатеринбург; Изд-во Урал, ун-та, 1999. С. 10.
1 Brooks P. Body Work. Objects of Desire in Modem Narrative. Cambridge; L.: Cambridge UP, 1993, Pp. 7-8.
Вместе с тем сама репрезентация тела в культуре (воссоздающая «присутствие тела в контексте его отсутствия»1) возможна только за счет осознания предельности любых знаковых образований. Тело — в отличие, например, от одежды, которая может быть «прочитана» как один бесконечный текст, - не редуцируемо к знакам, но представляет собой постоянный вызов, загадку, источник новых семиотических и семантических проекций. Не случайно в критике дискутируются вопросы о непереводимом (трудно переводимом) в знаки телесном опыте, например: смерти, наслаждения, сакрального, инфантильной телесности как доязыковом, пресимволическом самоощущении. Известная книга американской исследовательницы Элейн Скэрри "Body in Pain" ставит вопрос о боли как о телесном переживании, скорее разрушающем язык, чем находящем себе адекватное языковое выражение2. Еще раньше Сьюзен Зонтаг рассматривала метафоры болезни (туберкулеза, рака, СПИДа) в контексте их несоответствия реальному опыту больного3.
Вхождение телесного в область семиотики, освоение тела культурой представляется процессом динамичным, незавершенным. Говоря о его драматизации в литературном тексте, следует иметь в виду принципиальную особенность последнего: несводимость к денотативному значению. Способность текста к суггестии определенного (в том числе эмоционально-телесного) переживания, которое не столько декодируется, сколько переживается в процессе чтения, является одной из составляющих собственно художественного, эстетического воздействия. Нередуцируемость текста, как и тела, к единственному («считываемому») смыслу делает возможным их метафорическое соотнесение, характерное для современного философско-критического дискурса (см., например, Ролана Барта и Поля де Мана4).
1 Ibid. Р.8
2 Scarry E. Body in Pain. The Making and Unmaking of the World. N.Y.; Oxford: Oxford UP, 1985.
3 Sontag S. Illness as a Metaphor. AIDS and its Metaphors. Penguin Books, 2002 (Is* eds. - 1978; 1989).
4 Барт P. Удовольствие от текста II Барт Р, Избранные произведения. Семиотика. Поэтика, М.: Прогресс,
Универс, 1994. С. 474; Ман П., де. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста.
Екатеринбург: Институт гуманитарных практик, 1999. С. 353-356. Метафоре тела/текста посвящено
Изучение тела в художественном тексте, таким образом, предполагает, не только анализ его знаковых проекций, но и раскрытие самого механизма означивания: каким образом происходит семиотизация телесного материала и что остается на уровне принципиально непереводимой коннотации, как драматизируются и осмысляются сами границы (пределы) знаковых построений. Опыт исследования телесного в литературе - это прежде всего попытка понять динамику воплощения (embodiment) тела в словесной форме. Ценными в методологическом отношении при всех различиях в подходах к проблеме для нас в первую очередь являются работы Ролана Барта1, Мишеля Фуко , Жана Старобинского , Питера Брукса ; из отечественных ученых - С.Н. Зенкина5 и М.Б. Ямпольского6.
Проблематика телесного в творчестве Эдгара Аллана По до сих пор занимает относительно маргинальное место в критике. Можно с уверенностью сказать, что (за редким исключением7) По оставлен на обочине современных исследований о телесности. Нам не известно (в пределах критики о По) ни одной работы, специально сосредоточенной на данной проблематике. Понять причины такого пренебрежения довольно трудно. Возможно, сыграл свою роль критический миф о «бестелесности» По, возникший в контексте представления о нем как о художнике «чистого искусства», - и он, впрочем, имеет свое
специальное исследование: Poulsen R.C. The Body as Text. In a Perpetual Age of Non-Reason. N.Y.: Peter Lang
Publishing, Inc., 1996.
1 Барт P. S/Z. M: Эдиториал УРСС, 2001; Барт P. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По. Удовольствие от
текста // Избранные произведения. Семиотика, поэтика. М.\ Прогресс, Универс, 1994.
1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. С.-П.: Университетская книга, 1997; Фуко М. Рождение
клиники. М.: Смысл, 1998.
3 Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. Т.1, 2. М.: Языки славянской культуры,
2002.
4 Основная книга, на которую мы опирались, это уже приведенная выше: Brooks P. Body Work. Также
стимулирующими работами были: Brooks P. The Meaning of the Plot. N.Y.: Knopf, 1984; Brooks P. The
Melodramatic Imagination. N.Y.: Columbia UP, 1985.
s Из работ, так или иначе затрагивающих проблематику телесного: Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1999; Зенкин С.Н. Французская готика: В сумерках наступающей эпохи // Infemaliana. Французская готическая проза XVUl-XIX веков. М.: Ладомир, 1999; Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. Неприродності», множественность и относительность в литературе. М.: Российск. Гос. Гуманит. Ун-т, 2002.
6 Основные работы для нас - это прежде всего: Ямпольский М.Б. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации,
мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996; Ямпольский М.Б. Наблюдатель. Очерки истории видения.
М.: Ad Marginem, 2000.
7 См., например, главу М.Б. Ямпольского «Линия обретает плоть (Эдгар По, Конан Дойл и другие)» в кн.:
Ямпольский М.Б. О близком (Очерки немиметического зрения). М.: Новое литературное обозрение, 2001. Сс.
77-105.
собственное историко-культурное измерение и едва ли является влиятельным в наши дни1.
В зависимости от выбранной критиком перспективы видения тело в творчестве По может как провоцировать, так и терять исследовательский интерес, если вообще не исчезать из вида. В качестве примера последнего можно привести реплику М.М. Бахтина по поводу трех рассказов По -«Бочонка Амонтильядо», «Маски Красной Смерти» и «Короля Чумы» . Бахтин выявляет во всех рассказах гротескные элементы, например: «смерть -шутовская маска (смех) - вино - веселье карнавала (carra navalis Вакха) -могила (катакомбы)». Однако, если у Рабле или у Боккаччо те же элементы объединены «здоровым объемлющим целым торжествующей жизни», то есть гротескным телом как «неисчерпаемым сосудом смерти и зачатия» , в случае с По речь идет лишь о «голых», статичных аллегорико-литературных контрастах. «За ними, правда, чувствуется какое-то темное и смутное забытое сродство, длинный ряд реминисценций о художественных образах мировой литературы, где были слиты те же элементы, - но это смутное ощущение и реминисценции влияют лишь на узкоэстетическое впечатление от целого новеллы»4. Тело, рассмотренное в данном аспекте, ускользает, оставляя следы, «длинный ряд» литературных реминисценций, - образ тела сравним с образом гостя в «Маске Красной Смерти», под «зловещими одеяниями» и «трупообразной личиной» которого в конечном счете не обнаружено «ничего осязаемого»5...
Прежде чем определить характер и границы собственного исследования, нам предстоит дать обзор различных критических перспектив, так или иначе включающих тело у По в свое рассмотрение. Обращаясь к корпусу критики об
1 Одним из первых апологетов данного мифа был Бернард Шоу. В частности, он писал: "Life cannot give you what he gives you except through fine art... The great writers like Рое... begin just where the world, the flesh, and the devil leave off." G.B. Shaw. Edgar Рое II Critical Essays on E.A. Рое. Ed. E. W. Carlson. Boston, Mass.: G.K. Hall and Go, 1987. P. 90.
г Бахтин M.M. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Литературно-критические статьи. M.: Худ. лит., 1986. С. 234.
3 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле н народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худ, лит., 1965.
С. 344.
4 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. С. 234.
5 По Э.А. Полное собрание рассказов. СПб.: Кристалл, 2000. С. 552. В дальнейшем цитаты из произведений По
в русском переводе даны по этому изданию с указанием страниц в тексте (в круглых скобках).
7 Эдгаре По, охватывающей более чем полтора столетия, можно выделить отдельные подходы к его творчеству, в которых телесное фигурирует как составляющая более широкой - онтологической, эстетической — проблематики. Одним из приоритетных подходов в работах о По (во многом в связи с влиятельной традицией тематической критики) является описание тела в его поэзии и прозе сквозь призму дихотомии: плоть / душа, материя / дух. Сразу же отметим, что наложение на творчество По данной категориальной сетки -несколько анахроничной в современном научном контексте — обусловлено тенденцией традиционного литературоведения рассматривать определенное историко-литературное явление, исходя из его собственных понятий. Такой подход по своему основателен, но в то же время и ограничивает исследование, исключая из него те феномены, которые в изучаемую эпоху не были предметом рефлексии или не находили адекватный язык описания.
По остроумному замечанию писателя и критика Даниэля Хоффмана, целые поколения читателей обманывались, «думая о По как о духовном писателе — если вообще не принимая его за духа»1. Впрочем, это не мешает самому Хоффману утверждать: «Направление ума По, вера его воображения -могу ли я повторить очевидное? — это устремленность от тела к духу (away from the b ody and towards the spirit)» . В основе творческих интенций По лежит конфликт между телом и душой ("body and soul"), разумом и плотью ("mind and flesh"), отрицание и трансценденция телесного как желаемый результат работы воображения. Аллен Тейт пишет об «ангельском воображении» По (angelic imagination)3 и о «бестелесной экзальтации духа» (a bodiless exaltation of the spirit) как о внутреннем пламени, которым объяты его герои и героини4.
Ричард Уилбер последовательно раскрывает механизм воспарения души над бренным телом. Новеллы По становятся местом сражения небесной души
1 Hoffman D. Рое Рое Рое Рое Рое Рое Рое Рое. Garden city, N.Y.: Doubleday, 1972. Р.261. г Ibid. P. 206.
3 Tate A. The Angelic Imagination II The Recognition of E.A. Рое. Selected Criticism since 1829. Ed. E.W. Carlson.
Ann Arbor: Michigan UP, 1966. Pp. 236-37.
4 Tate A. Our Cousin, Mr. Рое // Рое E.A. A Collection of Critical Essays. Ed. R. Regan, Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall, 1967. P. 42.
8 и земного «я». Тогда как воображение героя устремлено к идеальной красоте, смертная (mortal) плоть приковывает его к физическому, временному и локальному. Только в состоянии мечты, гипноза и сна душа может на время забыть о своем земном существовании. Поэтому образы упадка и тления (например, в «Падении Дома Ашеров») - это неизменно знак раз-воплощения, постепенного освобождения духовной сущности от физического тела1. «Бегство По в область воображения разрушительно для реального мира чувств (world of senses)» - пишет солидарный с Ричардом Уилбером Чарльз Санфорд, переводя оппозицию духа / материи (spirit / matter) в не менее традиционное противопоставление формы / содержания (form / matter)2.
Тело в подобных интерпретациях неизбежно рассматривается как препятствие, которое все-таки не может быть «преодолено» до конца. Клод Ришар на материале поэзии По показывает, как имманентная его лирике «музыка сфер» то и дело сбивается и прерывается «проклятым стуком» ("hellish tattoo") сердца, витальными каденциями пульсирующего тела. Воспаряя к «идеалу», «красоте», «поэзии», автор стремится заглушить примитивное «волнение крови» (blood stirring) и заставить зазвучать иные - неземные -струны3.
Говоря о По как о «духовном агрессоре» (spiritual aggressor), Стефан Муни отказывает ему в той откровенной и пылкой влюбленности в человеческое тело, что была свойственна Уолту Уитмену4. По значительно менее «телесен», чем Уитмен, но в то же время «как-то более материален» (somehow more material), чем Натаниэль Готорн, считает Дэвид Хэллибартон5. «Материальность» По как сублимированное «чувство телесного» (a sense of the
1 Wilbur R. The House of Рое II The Recognition of E.A. Рое. Selected Criticism since 1829. Ed. E.W. Carlson. Pp.
258-274.
2 В частности, Санфорд считает, что По в своих произведениях «боролся» со смертной плотью и кровью (flesh
and blood), чтобы добиться новизны эффекта; го той же причине он отдавал предпочтение форме над
содержанием. Sanford Ch. L. E.A. Рое II The Recognition of E.A. Рое. Selected Criticism since 1829. Ed. E.W.
Carlson. Pp. 299,300.
3 Richard С The Heart of Рое and the Rhythmic of his Poems II Critical Essays on E.A. Рое. Ed. E. W. Carlson. P. 198.
4 Mooney S. Poe's Gothic Wasteland If The Recognition of E.A. Рое. Selected Criticism since 1829. Ed. E.W. Carlson.
P. 294.
5 Halliburton D. E.A. Рое. A Phenomenological View. Princeton, N. J.: Princeton UP, 1973. P. 189.
9 corporeal1) интригует и многих других читателей По. (Хорошо известно, что о материальном начале рассказов Эдгара По одним из первых говорил Ф.М.Достоевский: «В Поэ если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б можно было так выразиться»2.)
Рядом критиков - в числе которых тот же Хэллибартон, Патрик Куинн, Чарльз Фейдельсон, Джон Линен — предлагается иная модель соотношения материи и духа в творчестве По. Вместо конфликта плотского и духовного — их гармония, целостность, протяженность. По видит человека как единое целое, душу и тело, и верит, что оба эти аспекта должны быть представлены в художественном образе. Критики исходят при этом из концепта спиритуализации материи, характерной для романтической мысли. Утверждая, что в конечном счете тело в творчестве По и есть дух (the body is the spirit3), Хэллибартон акцентирует внимание на некоем почти «телесном магнетизме», рассеянном в атмосфере его стихотворений и новелл . «Атмосфера» в «Аль Аарафе», «Лигейе», «Падении Дома Ашеров» становится идеальной метафорой соединения «физического» и «ментального» начал, представляя собой смешение свойств и функций всех «воздушных» ("aerial") явлений: дыхания, дуновения, тумана, запахов, эфира, аромата... - воздушного «ничто» и плотной, едва ли не осязаемой субстанции5.
Радикальную позицию в отношении «материально-телесного» у По занимает другой американский критик Майкл Д. Белл. Он полагает, что По — в отличие от многих своих современников - редуцирует дух к материи, отрицая существование какой бы то ни было иной, запредельной области. Отчасти Белл опирается на тематический анализ рассказов По, в которых, по его словам, есть мертвые или умирающие тела, «но нет души». По стремится к трансценденции духовного начала, что полностью достижимо лишь в момент смерти, однако
1 Ibid. Р. 184.
2 Достоевский Ф.М. Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ» II Полное собрание сочинений. В 30
т. Т. 19. М.: Наука, 1979. С. 89.
3 Halliburton D. Op. cit. P. 189.
4 "Some almost bodily magnetism". Ibid. P.149.
J Ibid. P. 186.
10 каждый раз терпит неудачу: вместо одухотворенной материи он получает ожившие трупы1.
Другая призма, сквозь которую изучается тело в поэзии и прозе Эдгара По, - это оппозиция мертвой (искусственной) материи и живой (чувствуемой, осязаемой) плоти, что не случайно в контексте поэтики его произведений.
«Все в По мертво: дома, комнаты, мебель, не говоря уже о природе и людях», - эти слова А.Тейта могли бы стать эпиграфом к целому ряду критических работ, рассматривающих смерть у По как на тематическом уровне, так и на уровне эстетики. Герои По «мертвы для мира» (Тейт3, Молденауэр4), это машины ощущений и воли (Тейт), живые мертвецы (Д.Г. Лоренс5) и т.п. По словам того же Тейта, «бестелесная экзальтация духа» героев По на самом деле «не совсем бестелесна» (not quite bodiless): «Дух населяет человеческое тело. Но это тело мертво»6.
Мертвенность, согласно мнению ряда критиков, определяет специфику портретных характеристик в прозе По. «Голова Лигейи (героини По. — А.У.) — это голова мертвой женщины», - пишет Тейт7. Ту же мысль - правда, в свойственном ему ироническом контексте — высказывает и Дж.Р.Томпсон: «Портрет Лигейи - это изображение мертвой головы... Она описана как оскаленный череп»*.
В одном ряду с мертвенностью тела стоит искусственность: обе категории синонимичны «безжизненности» и к тому же пересекаются в сфере эстетического. (Фетишизация мертвого тела в эпоху романтизма сделала смерть, перефразируя Джозефа Молденауэра, одним из изящных искусств9.) Героини По подобны «камеям или мраморным бюстам, с которыми они часто
1 Bell M.D. The Development of American Romance. The Sacrifice of Relation. Chic, and London: Chicago UP, 1980.
Pp. 100-101.
2 Тате A. Our Cousin, Mr. Рое. P. 48.
3 Ibid. P. 46.
4 Moldenhauer J. Murder as a Fine Art: Basic Connections between Poe's Aesthetics, Psychology, and Moral Vision //
PMLA, 83 [May, 1986]. P. 295.
5 Lawrence D.H. E.A. Рое It Critical Essays on E.A. Рое. Ed. E. W. Carlson. P. 92.
6 Tate A. Our Cousin, Mr. Рое. P. 42.
7 Ibid. P. 48.
8 Thompson G.R. Edgar Рое. Romantic bony in Gothic Tales. Madison: Wisconsin UP, 1973. P. 87.
9 Название статьи: Murder as a Fine Art.
сравниваются» (Дж. Молденауэр)1. По словам Лоренса о той же Лигейе: «Ее «мраморная рука» и «легкость походки» напоминают... пружины от стула (chair-springs) и каминные полки (mantel-pieces)» . В его интерпретации героиня По - это "machine a plaisir" рассказчика3; для Дж.Р.Томпсона - это механизм его самоистязания (device of self-torture)4.
С точки зрения Томпсона (и не только его), все описываемое в рассказах По происходит в пределах сознания героя-рассказчика. Не удивительно, что подобная экспансия «я» предполагает объективированный и инструментальный характер других персонажей, ставит под сомнение их самостоятельное существование. В работе постструктуралиста М.Дж.С. Уильямса идея тела как искусственного, языкового конструкта повествователя представлена наиболее радикально. Например, Лигейя в его прочтении - это символ, продукт воображения рассказчика; ее тело — «каталог» различных культурных кодов, текст, который пишется по мере наррации5.
Трактовка телесного в творчестве По как конструкта или продукта воображения автора / рассказчика характерна и для феминистских его прочтений. Феминистское видение привносит в изучение телесного еще одну базовую дихотомию: мужское / женское. В новеллах По с данной точки зрения оппозиция очевидна: мужской взгляд и женское тело, нарциссическое воображение рассказчика-мужчины (male narrator) и его отражение в женском образе6.
Известная французская писательница и критик Элен Сиксу сравнивает героинь По с Олимпией, увиденной глазами Натаниэля, из «Песочного человека» Гофмана. С одной стороны, воплощение «красоты», «величия», с другой - кукла, автомат (1а рои рее). Женщина в рассказах По — это кукла,
1 MoWenhauer. Art. cit. P. 285.
2 Lawrence D.H. Studies in Classical American Literature. N. Y.: The Viking press, 1964, P. 69.
3Ibid.
4 Thompson G.R. Op. cit. P. 85.
5 Williams M.J.S. A World of Words. Language and Displacement in the Fiction of E.A. Рое. Durham and L.: The
Duke UP, 1988. P. 9.
6 С той оговоркой, что возможна промежуточная - андрогинная - природа. Так, Синтия Джордан пишет о
«двойственном тендере» (dual gender) Родерика Ашера и Опоста Дюпена: Jordan C.S. Poe's Re-vision. The
Recovery ofthe SecondI Story II American Literature 59 [March, 1987]: 12. Pp. 1-19.
12 составленная из фраз (poupee de phrases)1. Ее тело неописуемо, фантастично, химерично (le corps chimerique), но при этом, как правило, расчленено, разобрано на части (depecee, demontee, le corps morcele) . Герой разбирает женское тело на его составляющие, движимый желанием знания или желанием-знанием (vouloir-savoir3), - мысль, высказанная еще Дэвидом Лоренсом4 и усиленная Сиксу.
Американская исследовательница Леланд Персон при анализе рассказов По также использует знакомую литературную реминисценцию: герой-рассказчик - Пигмалион; соответственно, героиня - ожившая статуя, совершенная женщина, созданная по частям (part by part)5. Впрочем, согласно Персон, стремление художника-мужчины (male artist) отделить женщину от ее тела, превратив в артефакт, неизменно терпит поражение: женскость представляет собой самостоятельную, активную творческую силу в рассказах По. Герой-рассказчик не способен создать безопасный объект искусства (а harmless object of art), который он желает . Торжество женского начала в финале ряда новелл - свидетельство восхищения их автора не только перед мертвыми женщинами, но и перед «женщинами, у которых есть своя собственная жизнь, если не жизни» (women who have life, if lives, of their own)7.
Чрезмерная ангажированность подхода критиков-феминисток зачастую мешает увидеть тот потенциал, который обнаруживает их исследовательский интерес. Для нас, в частности, представляется важной мысль об объективации тела (причем, не обязательно женского), его опосредовании метафорами и кодами изобразительных искусств как дескриптивном процессе, имеющем свои пределы (линию сопротивления). Впрочем, как мы пытались показать выше,
1 Cixuos Н. Рое Re-Lu. Une Poetique du Revenir II Critique, 28 [Avril7 1972], P. 313. 1 Ibid. Pp. 312-313.
3 Ibid. P. 319.
4 Lawrence D.H. Studies in Classical American Literature. P. 69.
Person L. Aesthetic Headaches. Women and a Masculine Poetics in Рое, Melville and Hawthorne. Athens, L.: Georgia UP, 1988. Pp. 26, 30. 6 Ibid. P. 33. 1 Ibid. P. 47.
13 идея тела-конструкта (артефакта / текста) у По вполне независимо культивируется в работах критиков разных направлений.
Патрик Куинн называет двух американских исследователей По - Эрика Карлсона и Дэвида Хэллибартона, считающих, что в творчестве По «жизнь» и «воля к жизни» преобладают над смертью и безжизненностью1. Собственно телесный аспект категории «жизненности» и «витальности» нам удалось найти, правда, только в работе уже упоминавшегося Хэллибартона. Во-первых, его интересует феноменология восприятия живого тела: болезненность зрения, острота слуха, касания и пр. Во-вторых, его концепция одушевленной материи у По - в буквальном смысле расширения тела до атмосферы ("expanding it... into the very atmosphere") - позволяет ему рассматривать не только материальность, но и динамику образов, пространства как проявление телесности.
Согласно Хэллибартону, в рассказах По жизнь / жизненность присутствует подчас совершенно независимо от индивидуального тела: она или приписывается неодушевленным предметам (дому, часам, драпировкам...), или проявляет себя в ритмичных колебаниях воздуха, движении кинетической энергии, захватывающей собой пространство. Тем не менее, энергичные проявления жизни в новеллах По телесны, поскольку являются частью жизнедеятельности огромного рассеянного организма — пульсирующей и дышащей Вселенной (описанной в «Эврике») . Нервная подвижность драпировок (например, в «Вороне» и в «Лигейе»), динамика грозы (в «Падении Дома Ашеров»), «систолический ритм» в «Колодце и маятнике», «Маске Красной Смерти», «Сердце-обличителе» — все это не что иное, как сублимация телесного начала в творчестве По . Данный подход, не замыкающийся на телесной форме, но размыкающий телесное самоощущение, на наш взгляд, открывает потенциально интересное поле исследования.
1 Quinn P. F. Рое in Europe II Рое Studies 1 [June, 1978]. P. 20.
2 Halliburton D. Op. cit. P. 184.
3 Ibid. P. 317.
4 Ibid. Pp. 184,293,320.
Пестрота описанных выше критических течений и точек зрения обусловлена универсальностью самих оппозиций «живого» / «мертвого», «искусственного» / «органического» - фундаментальных для романтической мысли в целом и для По в частности. Вбирая в себя множество различных подходов, данная перспектива, однако, ставит сам изучаемый предмет - тело -в довольно жесткие, статичные рамки и работает в режиме взаимоисключения: или автомат (машина ощущений / желаний)» или субъект переживания; или статуя, или живая плоть.
Рассматривая аспекты проблемы телесного в критике о По, невозможно оставить в стороне такое направление, как психоанализ. Психоаналитический разбор литературного произведения - по контрасту с представленной выше мозаичностью мнений - по своему определению предполагает догматичный, четко ограниченный собственными понятиями и законами подход. Поэтому вслед за Жаком Деррида уместно говорить о феномене «постоянно растущего неподчинения литературного вымысла общему закону психоаналитического знания» . В отношении По данный тезис едва ли нуждается в доказательстве. Самую обстоятельную психоаналитическую работу об Эдгаре По ученицы Фрейда Мари Бонапарт2 можно назвать ярким примером прикладного психоанализа. Семинар Жака Лакана о «Похищенном письме»3 - это в первую очередь «аллегория психоанализа» (Ш. Фелман ), притча о методологии работы с бессознательным.
Однако нельзя отрицать и то, что причины повышенного интереса психоаналитиков к По5 во многом обусловлены самим характером его творчества. Речь идет как об элементе «жуткого» в его новеллах, так и о механизме навязчивого повторения определенных мотивов в структурных
1 Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Минск: Минск, совр. литер., 1999. С. 669. 1 Bonaparte M. Е. Рое. Sa vie - son oevre. Etude analitique. V. 1,2,3. Paris: Presses Univ. de France, 1958.
3 Lacan J. Le Seminaire sur "La Lettre volee" II Ecrits I. Paris: Editions du Seuil, 1966. Pp. 7-75.
4 Felman Sh. Jacques Lacan and the Adventure of Insight. Psychoanalysis in Contemporary Culture. Cambridge:
Harvard UP, 1987. P. 43.
Среди американских критиков, использующих психоаналитические приемы и методы исследования творчества По, можно выделить Д. Хоффмака (D. Hoffinati: op. cit.), Л. Фидлера (L. Fiedler: Love and Death in the American Novel. N.Y.: Criterion books, 1966), М.Д. Белла (M.D. Bell: op. cit.) и Дж. Порте (J. Porte: The Romance in America. Studies m Cooper, Рое, Hawthorne, Melville, and James. Middletown, Conn.: WesleyanUP, 1969).
15 узлах сюжета. По интересному замечанию ученицы Лакана Шошанны Фелман, творчество По - это симптом По-эзии (Poe-try) как таковой, оказывающей сопротивление психоаналитическим интерпретациям и в то же время зависимой от психоаналитических эффектов; случай (case) соединения мастерского сознательного искусства и мучительной работы бессознательного1. Не затрагивая идеологические предпосылки психоанализа, мы остановимся на его методологии поиска знаков и символов телесного, чтения языка-шифра тела. В творчестве По «материал» для такого рода чтения оказался тем более интересным, что готическая тематика и обсессивный интерес к «жуткому» (замешанный, по Фрейду, на страхе кастрации) сопряжен здесь с т.н. «чистотой» арабескного стиля . Согласно своей первоначальной этимологии, арабески — это разновидность восточной живописи, запрещающей изображение человеческого тела. Произведения По, напоминающие «молитвенные коврики» (метафора Бернарда Шоу4), могут быть как провозглашены символами чистого искусства, чуждыми всего земного, так и рассмотрены с точки зрения работы механизма по вытеснению эротической (инфантильной) телесности. Последняя возвращается в тексты По, пройдя необходимую символическую трансформацию. Задача психоаналитика сводится к расшифровке образов, имеющих устройство, сходное с соматическим.
Образцовым примером такой расшифровки является чтение По Мари Бонапарт. Дом, подвал, склеп, колодец, воронка / бездна, каминные плиты интерпретируются как символы-архетипы женского, материнского тела (или, точнее, его эротически маркированных частей) , преимущественно
'Ibid. Р. 50, 51.
2 Фрейд 3. Жуткое // Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 276.
3 В 1840 году По опубликовал свои рассказы в сборнике «Гротески и арабески». По предположению Ф.О.
Маттисена, название было «подсказано ему известным эссе Скотта «О сверхъестественном в литературных
произведениях». См.: Маттисен Ф.О. Ответственность критики. М.: Прогресс, 1972. С. 38. Из работ,
посвященных «арабескному» стилю и мировоззрению По, можно назвать монографию Дэвида Кеттерера:
Ketterer D. The Rational of Deception in Рое. Louisiana: Louisiana SUP, 1979.
4 Shaw В. E.A. Рое. P. 89.
J Знаменитый пример из «Падения Дома Ашеров»: Дом - материнское тело (corps matemel; Chateau-mere); склеп, где погребена заживо леди Маделин, - клоака (le cloaque matemel). Ibid. V. 2. P. 306.
заимствованные из «Толкования сновидений» Фрейда. Та же логика - в отношении фаллических образов, символизирующих, как правило, инфантильный страх кастрации1.
Схематизм подхода Мари Бонапарт, безусловно, преодолевается в более серьезных и глубоких работах. Достаточно сопоставить вульгарное анатомирование Бонапарт телесных метафор в «Похищенном письме» (каминный проем - клоака, медная шишечка - клитор, письмо - пенис ) - и символику картографии эротического, женского тела в «Семинаре» Жака Лакана, основанную скорее на идее целостности и неделимости (письма-тела), чем на буквальном сходстве: письмо, по Лакану, «как необъятное женское тело, простирается в пространстве кабинета министра» , знание чего и позволяет Дюпену без труда отыскать его «между стойками камина» .
Интересное наблюдение вгоняется в жесткую психоаналитическую формулировку - например, у Бонапарт при анализе «Повести о приключениях Артура Гордона Пима»: пурпурная и слоистая вода на острове напоминает кровь — речь идет о «теле матери, чья кровь, еще до молока, в положенное время нас кормит»5. Гастон Башляр рассматривает ту же метафору гораздо глубже и шире: «Для таким образом настроенной психики (как у По. — А.У.) все в природе, что течет тяжело, болезненно, таинственно, подобно проклятой
ft 7
крови, несущей с собою смерть» . «Неназываемая» и «табуированная» кровь становится (в контексте идей Башляра) сакральной и органической составляющей творчества По, субстанцией, определяющей «единство и иерархию» языкового выражения8.
'Приведем пример не из Бонапарт, а из работ американских критиков, использующих технику психоаналитического чтения. Например, Дж. Порте рассматривает стихотворение Лигейи «Червь-победитель» как описание фаллической оргии (фаллическим образом является окровавленный Червь). См.; Porte J. Op. с it., 1969. P. 73. Похожую интерпретацию мы встречаем у М. Д. Белла: Bell M.D. Op. cit. P. 107.
2 Bonaparte M. Op. cit. V. 2. P. 581.
3 "Telle la Iettre volee, comme un immense corps de femme, s'ftale dans l'espac? du cabinet du ministre..." II Lacan J.
Op. cit. P. 36.
* "Entre les jambages de ta cheminee". Op. cit. P. 36. "...Un corps dont le sang, avant meme le lait, en son temp nousnourrit..." Bonaparte M. Op. cit. V. 2. P. 406. Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М: Изд-во гуманитарной литературы, 1998. С. 94, «Необычайная вода, озадачивающая путешественников, следовательно, должна быть не называемой кровью,
табуированной кровью.» Там же. С. 95.
s Там же. С. 76.
Подобные примеры менее формального и более тонкого, чем у Бонапарт,
«чтения» телесных метафор в свою очередь должны рассматриваться в
контексте авторской логики и аргументации. На наш взгляд, уже сам поиск
бессознательных, досимволических источников символизации,
психосоматической основы знаковых построений содержит в себе интересный потенциал исследования.
Телесный опыт, зашифрованный в метафорах и символах, не обязательно должен каждый раз находить строгое психоаналитическое объяснение. В качестве примера можно привести две интерпретации механического -часового или маятникового - ритма, ощутимого в большинстве прозаических текстов По. Жан-Поль Вебер в статье «Эдгар По и тема часов» использует психоаналитическую экспликацию часового ритма как предпосылку собственного анализа. Он обращается к инфантильному опыту т.н. «первосцены» - наблюдения ребенка за любовным актом родителей. (Подобная сцена вполне могла иметь место в актерской среде, где до трех лет жил По.) В подсознании невротика ритм часов часто ассоциируется с ритмом полового акта; то же происходит и в прозе По с ее навязчивыми проекциями тиканья часов или раскачивания часового маятника, как считает Вебер1. Другое, лишенное психоаналитических коннотаций, объяснение мы уже вскользь приводили выше, говоря о подходах Клода Ришара и Дэвида Хэллибартона: маятниковый ритм — это «систолический ритм тела» , проекция вовне пульса или сердцебиения. Данное мнение основывается на тематическом и герменевтическом чтении По (ср.: стук сердца / тиканье часов в «Сердце-обличителе», биение «пульса жизни» в «Маске Красной Смерти» и т.д.), в конечном счете избегая часто предъявляемому психоанализу упрека в конструировании идеальных гипотетических предпосылок.
Итак, в основе каждого из приведенных выше подходов лежит определенная базовая метафора, то или иное понимание того, что такое тело:
1 Weber J.-P. The Theme of the Clock // Рое E.A. A Collection of Critical Essays. Ed. R. Regan. P. 82. 1 Halliburton D. Op. cit. P. 320.
18 (1) противоположность духовного («идеала», «воображения», «поэзии», «бессмертия души») и, следовательно, «остаток», который, не будучи до конца преодолен, «оседает» в качестве материальной атмосферы, преследует своей физиологической (механической) ритмикой — сердечным стуком, «волнением крови»; (2) мертвая, неодушевленная материя, искусственный конструкт, инструмент удовольствия, самоистязания, познания ~ или живой, чувствующий организм, «заряжающий» своей жизненной энергией окружающее пространство; (3) область манифестации вытесненных инфантильных переживаний и аффектов, источник знаковых, символических построений.
Несмотря на все различие критических перспектив, можно отметить одну общую черту. Все они предполагают описание тела — фактически, в рамках той или иной макрометафоры - как чего-то вытесняемого или смещаемого с привычного места, проецируемого на то, что телом не является, или в свою очередь напоминающего иное: вещь, предмет, механизм. Тело у По странно, необычно, "bizarre", говоря его собственными словами. Феномен «остраяения» или «очуждения» обьвденного, привычного (а что может быть более привычным, чем наше собственное тело?) является одним из основных эстетических принципов По, частью того, что он называл «новизной эффекта». Данную специфику предмета исследования мы будем учитывать на протяжении всей нашей работы.
Мы предлагаем рассмотреть проблематику телесного в рассказах По (сразу ограничивая сферу изучаемого материала за счет отсечения поэзии и «Повести о приключениях Артура Гордона Пима»1) также сквозь призму определенной дихотомии, которую можно условно обозначить, как внешнее / внутреннее. Данная метафора описания тела не менее универсальна, чем те, которые мы приводили выше: материя / дух, живое / мертвое, мужское і женское... Тело воспринимается человеком как внешняя визуальная форма и как
Образы и метафоры телесного в поэзии По могли бы стать темой отдельного, самостоятельного исследования, учитывающего особенности поэтического текста. То же касается и «Повести о приключениях Артура Гордона Пима», в которой тема тела и телесного занимает немаловажное место и играет особую роль в структуре
произведения.
19 внутренний целостный и непрерывный процесс самоощущения. В историко-культурной перспективе это отражено в сменяемости визуальных образов и канонов изображения тела, с одной стороны, - и телесных практик, представлений о функционировании тела / организма (гуморальная теория, открытие нервной системы, кинестезии и пр.), с другой. На философском уровне соотношение внешнего / внутреннего (как объектного / субъектного, «моего» / «чужого») в приложении к телу в XX веке активно осваивалось в рамках феноменологических исследований. Мы имеем в виду прежде всего известные работы Жан-Поля Сартра и Мориса Мерло-Понти1; из отечественных ученых-философов, изучающих телесное в данных категориях, можно назвать В.А. Подорогу2.
Наш выбор обусловлен в первую очередь тем, что метафора внешнего / внутреннего, или, точнее, внешнего и внутреннего позволяет сфокусировать внимание собственно на теле, не смещая предмет в смежные, метонимические области. Итак, под телом мы будем понимать определенный телесный опыт, воплощаемый в тексте: (1) объективированный опыт наблюдения, обычно дистанцированный, отстраненный (2) субъективное внутреннее переживание, как правило, непосредственное, аффективное. И тот, и другой опыт ограничен собственными возможностями. Наблюдению имманентна сложность проникновения за визуальный образ, зримый знак; субъективное самоощущение сопротивляется объективации, воплощению в дискретной знаковой форме. Их динамическое сопряжение в текстах По, на наш взгляд, и определяет специфику изображения телесного в его прозе.
Образ тела, рассмотренный сквозь призму внутреннего / внешнего, видимого / ощущаемого, актуален для нас в свою очередь как аналог (метафора) художественного текста, что позволяет говорить об общеэстетическом значении телесного аспекта прозы По. Из его собственных критических работ и высказываний видно, что художественное произведение
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000; Мерло-Понти М.
Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999.
2 ПодорогаВ.А. Феноменология тела. М.: AdMarginem, 1995.
20 воспринимается им, с одной стороны, как обладающее квазивизуальными, объектными качествами, с другой - как протяженный во времени акт или процесс эмоционально-эстетического воздействия.
Согласно эстетике По, литературный текст — это объект искусства, который, как картина, «должен восприниматься читателем с одного взгляда»1, и функциональная структура, наподобие механизма, при желании собираемая и разбираемая на «шестерни» и «колеса» . Чтобы оценить по достоинству формальные качества и структурное устройство произведения, его необходимо рассмотреть как предмет, артефакт. Так, машинерия «литературного гистриона» конструируется при помощи «лестниц со ступеньками», «дьявольских трапов», «петушьих перьев, красной размалевки и белых наклеек»3. Механизмы, приводящие в движение марионеток, могут быть как спрятаны, так и выставлены наружу4. Рефрен — это «стержень», на котором вращается «вся машина» . Эффектное вступление должно быть прилажено к основному тексту, «как электрический звонок к телеграфу»6 и пр.
В то же время По предлагает модель чтения как феноменологического, нерефлексивного опыта изнутри, исключающего одновременное любование внешним, «зримым» - формальным и структурным - совершенством. «Ясно видеть механизм - шестерни и колеса - какого-нибудь произведения Искусства, несомненно, представляет, само по себе, известное наслаждение, но такое, что мы можем его испытывать как раз настолько, насколько мы не испытываем законный эффект, замышленный художником» . Не случайно По измеряет акт чтения временем: рассказ должен быть прочитан за «один присест» (one sitting), «в прямом отношении к напряженности эффекта», хотя необходима и
' Рое Е.А. Essays and Reviews. Ed. G.R. Thompson. N.Y.: Literary Classics of the United States, 1984. P. 205. Другие
примеры: «развязка - это прекрасно запечатленная картина» (a perfectly printed tableau) If ibid, p. 870; «основные
правила пластических искусств... в наивысшей степени применимы к каждому виду литературного сочинения»
//ibid. Р. 200.
3 Маргиналия II По Э. Избранное. В 2-х т. Т. 2. М.: ТЕРРА, 1996. С. 545.
3 Философия композиции II Там же. С. 513
* Marginalia // Рое Е. A. Essays and Reviews. P. 1404
5 Философия композиции И По Э. Избранное. Т. 2. С, 516
6 Marginalia // Рое Е. A. Essays and Reviews P. 1322
7 Маргиналия If По Э. Избранное. Т. 2. С. 545.
21 минимальная длительность, чтобы эффект состоялся . (Можно сказать, что классические единства драматического произведения - времени, места и действия - По заменяет единством чтения.)
Объективированный образ произведения предполагает определенный тип восприятия: критический анализ, повторяющий в обратном порядке все то, что сделал автор. Чтение, протяженное во времени, требует не сотворчества-соперничества, а скорее послушания, определенного эмоционального настроя, вознаграждаемого интенсивным эстетическим переживанием. По в своей прозе не случайно работал с таким материалом, как «страсть», «ужас» и «страх» , делая рассказы, по сути, трансляторами или ретрансляторами аффективных чувств и ощущений. Сам принцип "one sitting" превращает акт чтения буквально в телесный опыт - аналог гипнотического сеанса на расстоянии .
Между телесным опытом (наблюдения / переживания) и опытом чтения (формально-критического и бессознательно-эмоционального), таким образом, ощутимо определенное метафорическое сходство или родство. В метафорические отношения включается и процесс письма: как мы увидим, наблюдение у По содержит в себе креативный элемент эстетизации и объективации (наблюдаемого тела); переживание влечет за собой воздействие на другого по типу «заражения».
Постановка вопроса о специфике телесного в рассказах По для нас неразрывно связана с его эстетикой и будет рассматриваться в соответствующем контексте. Воплощая тело в тексте, По решает определенные эстетические проблемы каждый раз под знаком «граничности», ибо речь идет о - (1) границах эмпирического и эстетического, жизни и искусства, (2) границах искусства и абсолюта, (3) возможностях суггестии и пределах ее власти.
В первой главе «Тело как объект наблюдения и рассказывания» будут рассмотрены механизмы конструирования визуального образа тела. Для Эдгара
Философия композиции // С. 515. 1 Рое Е.А. Essays and Reviews. P. 573. J В критике По нередко сравнивается с месмеристами из собственных рассказов. См., например: Moldenhauer J.
Art. cit. P. 284.
22 По необходимым условием отношения художника к эмпирическому «материалу» является его творческое преобразование. Автор обречен использовать «готовые материалы», говоря словами Кольриджа . Согласно метафизической концепции По, абсолютно новое может создать только Бог тогда, как человек всего лишь «конструктор» (constructor) ; соответственно, главным критерием художественного произведения является новизна сочетаний (комбинаций). Тело описывается как артефакт при помощи метафор из сферы изящных искусств и / или формальной «рамки» (рамы для портрета, ниши для статуи). Более того, само рассказывание «обнажает» механизм превращения тела в текстовой конструкт. Об этом свидетельствуют различные повествовательные техники, условно обозначенные нами, как «перевод», «реставрация» и «комбинирование», и проанализированные на материале трех рассказов - «Овального портрета» (The Oval Portrait), «Свидания» (The Assignation) и «Лигейи» (Ligeia). Повествование содержит в себе элемент властной манипуляции, насилия искусства над телом-моделью, чьи внутренние переживания-аффекты занимают маргинальное место по отношению к объективирующему дискурсу, В то же время наблюдение-рассказывание предполагает и критическое чтение как расшифровку знаков и разбор тела на составляющие, семантически значимые элементы - что будет показано преимущественно на примере «Лигейи» и «Береники» (Berenice). В заключение мы рассмотрим рассказ «Человек, которого изрубили в куски» (The Man That Was Used Up) как пример комического снижения мотивов конструирования и де-конструирования, «письма» и «чтения» тела-текста.
Вторая глава «Телесный коллапс и обрыв повествования» будет посвящена вопросу о крушении стратегий объективации тела и границах рассказывания-смыслообразования. По сознавал необходимость и неизбежность предельности любых знаковых (дискурсных) образований. С одной стороны, цель художника - выразить абсолютное, но погоня за
1 "...Equally with an ordinary memory it must receive all its materials ready made from the law of association,"
Coleridge S.T. Biographia Literaria. L.; N.Y.: J.M. Dent and Sons LTD, 1956. P. 167.
2 Marginalia I! Рое E.A. Essays and Reviews. P. 1316.
23 абсолютом, устремленность к метафизической, внеязыковой области ограничена возможностями самой репрезентации. (Повествование у По характеризуется обрывом на «самой грани припоминания» (195), «над краем Вечности» (72); «последний прыжок в бездну» (72) равнозначен обрыву рукописи1.) С другой стороны, сенсационный финал - обязательное условие эффективного воздействия рассказа на читательскую аудиторию. Исходя из данных предпосылок, мы рассмотрим три рассказа, в которых По использует легко опознаваемые читателем дискурсы - научный, поэтический и дидактический: «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» (The Facts in The Case of Mister Valdemar), «Лигейя» (Ligeia) и «Уильям Уилсон» (William Wilson). В них мы наблюдаем, как рациональные, дискурсные конструкты, объективирующие тело, неожиданно разрушаются одновременно с фактическим разрушением тела или утратой последним приписываемых ему объектных характеристик. Во всех трех рассказах финал носит характер катастрофы и связан с телесным коллапсом, срывом субъект-объектных отношений наблюдателя и (наблюдаемого) тела, визуальной травмой на грани ослепления или гибели (суицида). В финале рассказ демонстрирует максимум своих возможностей: производит сильный сенсационный шок-эффект, венчаясь развязкой и загадкой одновременно, поскольку доводит читающего до границы (не)представимого и (не)опосредованного. Момент триумфа, пик соматического переживания совпадает, однако, с моментом поражения: вербальным тупиком, невозможностью завершить повествование.
В третьей главе «Семиотика больного тела. Заражение как аналог художественной суггестии» мы отчасти продолжим исследовать проблему возможностей и границ выражения, говоря о внутренних телесных переживаниях. Если видимое («чужое») тело можно описать как зримую форму, собрать и разобрать на части в акте рассказывания (правда, всегда до определенного момента-предела), как выразить, например, такое состояние, как болезнь? Его трудно объективировать уже хотя бы потому, что не я им владею
Лигейя; Рукопись, найденная в бутылке.
24 и управляю, а оно - мной. Тем более, что то или иное заболевание в рассказах По не столько носит клинический характер (хотя и описывается через ряд симптомов), сколько является таинственной, неопределенной, почти метафизической или сакральной силой. Будучи интенсивным и аффективным состоянием-переживанием, болезнь - это то, что транслируется независимо от волевых, объективированных сознанием усилий повествователя. Навязчивая проекция больного тела в знаках будет показана на примере «Маски Красной Смерти» (The Masque of The Red Death); феномен соматической индукции, передачи «вируса» от тела к телу наподобие заражения - на материале «Падения Дома Ашеров» (The Fall of the House of Usher) и «Лигейи». В контексте перехода границ внутреннего и внешнего, динамики захвата и воздействия болезнь рассматривается нами не как состояние, но как момент движения и трансцендирования, превращения-перехода. Рассказывание в таком случае является не сознательно-творческим / аналитическим актом конструирования / чтения тела, но способом внушения психосоматического переживания. В результате у По возникает образ «заразного» текста (в комически сниженном плане таким текстом являются «Преждевременные похороны» (The Premature Burial)) и идеальная модель письма как протяженного во времени эмоционально-суггестивного воздействия на аудиторию (не без тайной мстительности по отношению к здоровому прагматизму публики).
В Заключении к диссертации подводятся итоги проведенного в ней анализа.
Техники рассказывания о теле
У По есть рассказ, где замена тела произведением искусства происходит в сюжетном плане. Речь идет об «Овальном портрете» (The Oval Portrait, 1842) - новелле, близкой по своей проблематике к «Родимому пятну» Готорна1. Сюжет «Овального портрета» хорошо известен: художник пишет портрет жены, по мере продвижения работы молодая женщина умирает, и ее смерть совпадает с завершением картины. Как и ученый Готорна, художник По жертвует жизнью своей жены, чтобы создать шедевр. Но в отличие от Эйлмера, он предпочитает «бессмертный матерьял» недолговечной и ненадежной органике.
Художник создает идеальную копию своей жены на полотне: «некоторые видевшие портрет говорили о сходстве как о великом чуде» (545). Сходство кажется тем более странным, что художник во время своей работы не смотрит на оригинал. Свет, проникающий в башню, падает только «на бледный холст» (545). Сам живописец редко отводит взор от холста «даже для того, чтобы взглянуть на жену» (545). Наконец, он перестает допускать в башню посторонних - чужие взгляды, и его жена исключается из пространства зрения.
Вместо копирования (основанного на наблюдении и перенесении образа на полотно) художник занимается «переводом»3: «оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен» (546). Органическое (краски и оттенки тела) мистическим образом переводится в искусственное (краски на холсте). Происходит в буквальном смысле подмена: живой плоти -изображением на полотне.
Тело, отдающее свои краски (оттенки щек и губ) и свое тепло («дух вспыхнул, как пламя в светильнике») «бледному холсту» (545) (курсив мой. — А.У.), является не столько моделью для портрета, сколько его генератором. Жену художника и ее портрет связывают глубокие, интимно-телесные отношения жизни и смерти: «все еще не отрываясь от холста, он (художник) затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: «Да это воистину сама ЖизньЫ, внезапно повернулся к своей возлюбленной: - Она была мертва!» (546).
Тело оказывается генератором не только портрета, но и ряда «вторичных», опосредующих его текстов. Во-первых, история «перевода» включается в сборник, «посвященный... разбору и описанию» (543) картин из галереи замка (под определенным номером, как в музейном каталоге). Ее читает герой-рассказчик, который в свою очередь описывает впечатление, произведенное на него портретом - как эпизод собственной истории, находящейся за пределами повествования.
Новелла имеет «рамочную» композицию, причем именно в ее вводной («рамочной») части появляется фигура наблюдателя и сюжетная ситуация наблюдения1. Пораженный тяжким недугом, герой-рассказчик находит убежище в башне замка и начинает заниматься созерцанием картин, одновременно читая к ним комментарии. Переставляя канделябр, чтобы «свет лучше попадал на книгу» (543), он случайно обнаруживает овальный портрет, до этого им не замечаемый. «Лучи бесчисленных свечей (их было очень много) осветили нишу комнаты, дотоле погруженную в глубокую тень... Поэтому я увидел ярко освещенной картину, ранее мною вовсе не замеченную... Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза» (544). Насколько можно понять из довольно путаных и пространных объяснений, последовавших за зрительным потрясением, герой-рассказчик едва не принял портрет «за живую женщину» (544). При этом он утверждает, что «особенности рисунка, манера живописи, рама мгновенно заставили бы» его «отвергнуть подобное предположение - не позволили бы... поверить ему и на единый миг» (544).
Минутная рефлексия (веки героя закрыты) позволяет ему перестроить зрение: «подавить... фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда» (544). Теперь он может отстраненно взглянуть на портрет. «Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину... Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой винъеточной манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом» (544).
Герой-рассказчик теперь видит и описывает портрет как «произведение живописи», выполненное в определенной манере («так называемой виньеточкой») и в определенном художественном стиле (стиль головок Салли). Его взгляд постепенно смещается от фигуры к фону, а затем от самого портрета к орнаменту рамы1. Портрет - это артефакт, и мавританский рисунок, украшающий его раму, возможно, представляет не меньший интерес для любителя живописи, чем изображение на полотне.
Факты одного эксперимента
Рассказ «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» (The Facts in the Case of Mister Valdemary 1845) - наиболее эффектный пример крушения стратегий по превращению тела в текстовой конструкт. Усилия перевоплотить тело в научный объект и текст дублируются усилиями удержать его в определенной форме и состоянии при помощи гипноза. Можно сказать, что одновременно с семиотизацией тела происходит соматизация текста: ход нарратива зависит от хода эксперимента, тело и текст осмысляются в одних и тех же границах.
«Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если б этого не было, принимая во внимание все обстоятельства» (862). С самого начала рассказа ясно, что «речь пойдет о страшной истории, выходящей за пределы естества»1, о громком, общественно значимом скандале - источнике «сплетен» (862), «толков», «неверных или преувеличенных слухов» (862, 869). Скандальная история, как уточняется в дальнейшем, связана с неким мистером Вальдемаром или, точнее, с научным экспериментом, произведенным над его телом. Герой-рассказчик, который является не только свидетелем и участником события, но и главным экспериментатором, считает себя обязанным изложить факты, чтобы развеять слухи и домыслы.
При этом как автор текста он создает дистанцию между самими фактами и их изложением. Герой-рассказчик пишет текст под прикрытием «научного алиби»2, подтвержденный различными документальными свидетельствами, начиная от записки самого мистера Вальдемара и заканчивая записями студента-медика м-ра Теодора Л-ла. «Мистер Л-л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей verbatim или с некоторыми сокращениями» (865). Рассказчик, «цитируя» текст другого очевидца, с одной стороны, подтверждает подлинность, достоверность излагаемого, с другой - дистанцируется от скандала на уровне изложения. Он описывает скандал, который сам инициировал и наблюдал, посредством чужого, цитируемого текста — как своего рода медиатора между «своим» текстом и происшедшим.
Мистер Вальдемар представлен в рассказе в свою очередь как автор самых различных текстов и к тому же переводчик. «Раздумывая, где бы найти подходящий объект для... опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе "Bibliotheca Forensica" и авторе (под nom de plume Иссахара Маркса) польских переводов "Валленштейна" и "Гаргантюа"» (862). Перед смертью Вальдемар, несмотря на сильнейший упадок физических сил, не только сохраняет «удивительную ясность ума» (864), но и продолжает писать: «когда я вошел, (он) писал что-то карандашом в записной книжке» (864).
Единственный текст мистера Вольдемара, цитируемый героем-рассказчиком, упомянутая выше «собственноручная записка» (863), оповещающая о близкой кончине. На этом деятельность героя как субъекта письма заканчивается, и инициатива переходит к другим «авторам» - врачам Д. и Ф., мистеру Л-лу, не говоря уже о самом рассказчике, мистере П. Совместными усилиями тело мистера Вальдемара переводится в научный, медицинский текст.
Прежде всего, повествователь цитирует в своем рассказе «сведения о состоянии больного» (864) врачей Д. и Ф.: «Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвестилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром... Помимо чахотки, у больного подозревали аневризму аорты, однако обызвествление не позволяло диагностировать его точно» (864)1. Медицинский текст имеет не только наукообразный, но и авторитетный, безапелляционно оценивающий характер; см., например: «левое легкое уже... наполовину обызвестилось и было, разумеется (курсив мой. - А.У.), не способно к жизненным функциям».
Внутренний «портрет» больного герой-рассказчик дополняет собственным описанием его внешнего облика («Лицо его приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу» (864)) и перечислением некоторых симптомов (обильное выделение мокроты, слабый пульс). Показательно, что описывая мистера Вальдемара в начале рассказа — пока тот еще не стал «объектом» научного эксперимента - повествователь использует не научно-медицинские, а театральные и живописные коды: светлые бакенбарды, составляющие резкий контраст с темными волосами, многие принимали за парик; «нижние конечности» напоминают ноги Джона Рандолфа (персонажа газетных карикатур) (863). Теперь же на наших глазах конструируется («пишется») именно научный текст, не лишенный, однако, эстетической составляющей (см., например: «глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор» (866); внезапное исчезновение румянца на щеках «напомнило мне... свечу, которую задули» (867).
Бессознательное проецирование симптомов болезни
В «Маске Красной Смерти» По использует традиционную для культурного контекста своего времени метафорику мора. Принц Просперо, спасаясь от эпидемии, приказывает окружить аббатство каменной стеной с железными воротами. «Придворные, войдя, принесли кузнечные горны и увесистые молоты и заклепали болты изнутри» (547). Попытка спрятаться от заразы за стеной с железными затворами созвучна стремлению тела во время эпидемии закрыться от внешнего мира, закупорить свои отверстия: «входы» и «выходы» (547) (прежде всего дыхательные: нос и рот). Тело как крепость (замок), осажденная болезнью, - метафора, типичная для западной культурной традиции1.
Красные пятна - внешний симптом болезни — делают больное тело заме/иным, более того, исключают (shut him out [191]) его из системы общественных отношений, оставляя во внешнем пространстве эпидемии: аббатство Просперо относится ко всему остальному миру как «внутреннее» к «внешнему». Телесные метки (пятна) теряют значение клинической сыпи и начинают тиражироваться в текстовом пространстве рассказа в качестве знаков. Окна в седьмой зале аббатства, как и пятна на лице и теле больного, красного цвета ("scarlet stains" [191] і "scarlet panes" [192]). Более того, они словно окрашены кровью ("bloodinted" [192]). Сама комната, предназначенная для маскарада, буквально надевает (натягивает) на себя костюм Красной Смерти, "the seventh apartment was closely shrouded in black velvet tapestries" [192]. К проекции кожных знаков добавляется образ черного савана (shrouded in tapestries), метонимия трупа. Не случайно именно здесь, в седьмой зале, происходит финальный поединок Просперо с незваным гостем, чей облик опять-таки легко узнаваем: лицо и лоб покрывают ужасные красные пятна, одеяние - саван - забрызгано кровью (551). Семиотизация больного тела, его сведение к вариативности знаков (красные пятна - капли / брызги крови) включается в сложный механизм вытеснения и возвращения вытесненного: визуальный образ болезни воспроизводится сначала в качестве артефакта (стекла и драпировки комнаты), потом появляется как фантом, призрак (Маска).
И тем не менее, противопоставление жизни и смерти, болезни и здоровья, наконец, больного (меченного) и здорового («закрытого», защищенного, огражденного) тела оказывается мнимым. Рассказ о жизни принца и его гостей («тысяче здоровых и неунывающих друзей» (547)) сфокусирован на проекции внутренних ощущений организма, пораженного болезнью, - таких, как головокружение, учащение / замедление пульса, тяжелое дыхание, нездоровый сон, бред и, наконец, кровотечение.
Гости, приглашенные принцем Просперо на маскарад, а также танцоры кружатся в вальсе. Они танцуют в залах аббатства, напоминающих лабиринт. «Апартаменты располагались столь причудливо, что взор охватывал немногим более одного зараз. После каждый двадцати или тридцати ярдов был крутой поворот, а со всяким поворотом - новый эффект» (548). Лабиринт комнат повторяет движения вальсирующего тела.
Лабиринтное устройство зал, помноженное на вальсирование тысячи гостей вдоль «изгибов здания» (547), создает эффект головокружения. Этот эффект усиливается цветовым решением комнат (резкое мелькание цветов) и их освещением: благодаря свету, проникающему сквозь цветное стекло, возникает «множество пестрых и фантастических» бликов (547).