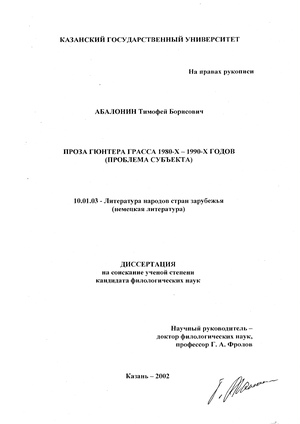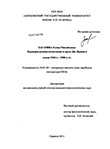Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Поздняя проза Гюнтера Грасса в свете мировоззрения автора С.23
1.1. Своеобразие идейно-художественных аспектов творчества Грасса С.23
1.2. Проза Грасса как форма выражения авторского сознания С.38
Глава 2 Автор, читатель и герой в поэтике Грасса С.80
2.1. К динамической постановке вопроса о субъекте С. 80
2.2. Специфика интертекста у Грасса С. 102
2.3. Ирония Грасса в аспекте читательского восприятия С. 142
Глава 3 Художественный историзм и проблема авторской позиции С. 156
Заключение С. 193
Список литературы С. 203
- Своеобразие идейно-художественных аспектов творчества Грасса
- К динамической постановке вопроса о субъекте
- Ирония Грасса в аспекте читательского восприятия
Введение к работе
На исходе двадцатого века Гюнтер Грасс (род., в 1927 г.) был отмечен Нобелевской премией. Классик послевоенной немецкой литературы, по общему мнению критиков, должен был получить её значительно раньше и значился в числе фаворитов уже после выхода в свет произведений, составивших позже т.н. «Данцигскую трилогию» (роман 1959 г. «Жестяной барабан», повесть 1961 г. «Кошки-мышки» и роман 1963 г. «Собачьи годы»). В отличие от Томаса Манна, которому эта премия формально досталась за романного первенца «Будденброки», Грасс формально получил её, как отметил Д.В.Затонский, за своего романного первенца «в числе других книг» [90, с. 218]. Другие, особенно написанные в последние два десятилетия ушедшего века, книги Грасса - другие во многих отношениях. В них порой мало что напоминает об авторе «Жестяного барабана». Книги эти - свидетельство эстетической подвижности, изменений, затронувших едва ли не все стороны художественной системы одного из крупнейших мастеров современной западноевропейской прозы. Такие изменения и представляют особый интерес при обращении к его прозе того периода, который в литературной и культурной жизни тоже принято считать «другим» - другим по отношению к долгой традиции модерна.
Социально-философское, неигровое, «учительское» измерение позднего творчества Грасса, постоянная и весьма серьезная отнесенность его к реальности «вне текста» - отнесенность очень особого рода, неотделимая, несмотря на свою серьезность, то от иронии, то от фантастики, то от жанровой формы сказки - отправной пункт настоящего исследования. У Грасса вообще (не только у позднего Грасса) это по преимуществу реальность социального плана, воспринимаемая крайне критически и реальность, как правило, немецкая либо же связанная с национальной проблематикой - даже когда он пишет об Индии или Китае, обращается к "глобальным темам" или - тем в большей мере - когда говорит об «утрате» своей страны . Однако в течение всего творческого пути автора характер писательского восприятия этой реальности, характер художественного осмысления её проблем на страницах прозы Грасса (как, впрочем, и в его лирике) меняется, и меняется весьма существенным образом.
Именно на пороге двух последних десятилетий двадцатого века, времени, когда учительская функция литературы в европейском культурном сознании безоговорочно превращается в фикцию, Грасс со все большей настойчивостью выдвигает её в своём творчестве на первый план, причем делает это так, что именно эта функция постепенно как бы становится основным модусом художественного освоения реальности, о которой идет речь, освоения традиционной для Грасса тематики - история, современность, общество и личность, прогресс, роль и место художника в обществе. Десятилетия, образующие принципиально иной, чем это было, к примеру, еще в семидесятые годы, культурный контекст, обнаруживают в творчестве Грасса противоположную их духу тенденцию, которой в такой степени в семидесятые годы и, тем более, ранее в нем не было. Творчеству Грасса, по выражению Е.М.Крепак, становится «в высшей степени присуще дидактическое начало» [93, с.35].
Сомневающийся во всем и не в последнюю очередь в собственной правоте «ревизионист», каковым Грасс себя называет в книгах, беседах и интервью начиная с речи по поводу вручения ему премии Бюхнера в 1965 году, не устает отстаивать позицию социальной, направленной в общественную сферу активности и вмешательства писателя, не устает по настоящее время проявлять в этой сфере сам как писатель с мировым именем активность исключительную, а временами - в семидесятипятилетнем возрасте - скандальную. Эта же гражданская, социальная и политическая позиция сама по себе становится весьма своеобразным содержательным моментом художественного творчества Гюнтера Грасса, причем своеобразие это воспринимается очень по- разному.
Одними как свидетельство того, что Грасс «исписался» и совершенно не способен к задачам художественного воплощения актуальной современности, к открыто «проблемному» и «идейному» письму, за которое теперь только и берется, что слишком явная идейная и политическая ангажированность автора неизбежно приводят к вырождению повествования в констатацию субъективных истин и идей, к марионеточности персонажей («рупоров» этих идей), в конечном итоге даже к «краху» большого писателя. Такое восприятие было довольно характерно для немецкой критики последнего времени: после повести 1979 г. «Встреча в Тельгте» безусловно положительные отклики нашла лишь повесть 2002 г. «Траектория краба»: реакция немецкой критики на все, что было написано Грассом между этими датами, в основном (речь здесь не об исключениях, которых, разумеется, даже в Германии было немало) оставалась в границах между признанием наличия у Грасса «не одних только удавшихся» произведений и «исключительным скандалом в истории литературы» [185, S.224], связанным с романом «Долгий разговор» - к настоящему моменту он более подробно документирован в соответствующих исследованиях и публикациях, чем т.н. «литературный спор», вызванный появлением в 1991 году написанной К.Вольф в ГДР повести «Что остается».
Другими, в то же время, этот период творчества нашего автора воспринимается как свидетельство достаточно оригинального творческого поиска, динамичности и многогранности художественной натуры Грасса и, в конечном итоге, при всей недвусмысленности расставленных в его творчестве восьмидесятых и особенно девяностых годов идейно-содержательных акцентов, его формального обогащения (более характерно для иностранных авторов, пишущих о Грассе) .
Так или иначе, отправной пункт этого исследования, идея в поздней прозе Грасса, не только находит крайне противоречивые оценки в самой Германии и за её пределами, но и состоит из противоречий. Грасс в литературе остается в эпоху fin de millnaire наследником традиций европейского Просвещения8 и одновременно их критиком, писателем с определенной идейной ориентацией и одновременно мастером художественной деидеологизации. Эти критика и развенчание обращены сразу на всю совокупность конкретных
философских, социологических идеологем и конструктов, на политическое действие или бездействие; среди их более или менее "частных" объектов, например, философия Гегеля, Хайдеггера, немецкий идеализм как таковой, практика воссоединения Германии, политика ХДС / ХСС вплоть до Гельмута Коля и Эдмунда Штойбера. Сюда же, разумеется, относятся подпитываемые всегдашним врагом Грасса - право-консервативной идеологией - химерические порождения немецкого национального самосознания, а в последнее время (повесть «Траектория краба») - и определенные табу, обязанные своим возникновением идеологии более левого спектра. Сюда же, наконец, можно отнести идеологию глобализма и неолиберализма конца XX столетия [5] (своеобразная её критика содержится, помимо публицистики, уже в произведениях «Показать язык» и «Головорожденные, или немцы вымирают»). Всегда присущие грассовской прозе беспощадные антиидеологичность, антидогматизм, первородный скепсис по отношению ко всему, что так или иначе владеет умами его современников не затрагивают никоим образом принципиальной возможности охвата общественной реальности художественным словом, не направлены на релятивацию литературой любых аксиологических иерархий, на которых в принципе основан культурный и социальный опыт модерна; да и ситуация с «принципом сомнения» выглядит исключительно неоднозначно и сложно, когда дело касается срмнения в действенности самих попыток литературы подвергнуть сомнению ту или иную идеологическую догму. Тем сложнее, что на место низвергнутых идей Грасс всё чаще, всё настойчивее и в литературе (речь здесь, повторимся, не только о политическом акционизме и публицистике писателя) водворяет собственные. Отмеченная и в отечественном литературоведении на материале творчества Грасса семидесятых годов тенденция, которая свидетельствует о «все усиливающейся тяге писателя к роману идей» [93, с.107], в восьмидесятые и в особенности в девяностые годы становится ведущей особенностью его художественного метода.
Многоплановый, системно-монографический подход к анализу «романа идей» именно этого периода должен включать в себя, во- первых, посылку о наличии в такой прозе неких более или менее специфических форм сосуществоваия идеи с фундаментальнейшей особенностью постсовременной эпохи - «недоверием в отношении метарассказов» [47, с. 10], во-вторых - попытку объяснения того, в чем выражается такая специфичность в нашем случае. Методологическая перспектива, которая в масштабах всего диссертационного исследования задает (в самом обшем плане) наш взгляд на идею, или, если угодно, «позицию» в творчестве Грасса, должна, таким образом, включать в себя как бы обе возможные точки зрения, сополагать их; статический подход к идее (и в этой связи к проблеме субъекта) уместен как часть общего, динамического, основанного на сопоставлении, а не на противопоставлении классического и постмодерного взгляда на идею и на субъект её носителя. Такое сопоставление возможно лишь как «апория»: постмодерн в равной мере не приемлет ни идеи, ни автономности субъекта (ср. формулу о «распаде я-идентичности» [67]). Обычно тот и другой взгляд бывают противопоставлены, а не сопоставлены. В нашем случае ни предмет исследования, ни его метод не допускают , разграничения такого рода; «постмодернистская чувствительность» отнюдь не мыслится нами как нечто сугубо «внешнее» по отношению к грассовской идеологичности. Напротив, современная позднему творчеству Грасса ситуация постмодерна ех negativo многое определяет прежде всего в формальных аспектах его писательства - однако определяет в модусе восприятия идейной основы художественных текстов, как бы заложенном в самой их структуре. К мысли о важности «постмодернистской чувствительности» в качестве особого фона восприятия идеи в творчестве нашего автора, фона, с которым автор «романа идей» не может не считаться и считается весьма особым образом, мы не раз еще будем возвращаться в ходе последующих рассуждений.
Иначе говоря, просвещенческий пафос и, по выражению уже упоминавшегося нами Ф.Раддаца, «педагогический эрос» [30] позднего
Грасса в нашем понимании не оставляют места для выявления в самом его позднем творчестве каких-либо «зачатков постмодернистской направленности» (так в одном из исследований по проблеме авторской позиции у В.Кёппена ). Речь в данном случае идет лишь о некоей «вторичной» реакции на ситуацию постмодерна, взятую в аспекте восприятия «романа идей» в неблагоприятную для него эпоху «безыдейного» художественного плюрализма. Что же касается общеметодологических вопросов анализа такого рода прозы, то разграничение одной и другой перспективы, противопоставление, а не сопоставление классической и постмодернистской парадигм могут, на наш взгляд, в силу специфики материала привести либо к фактическому игнорированию постмодернистско-постструктуралистской перспективы как таковой, либо к её фактическому доминированию.
То и другое неприемлемо для нас. Настоящее исследование исходит из легитимности рассмотрения своего предмета преимущественно в рамках сложившегося в отечественном и - за достаточно малочисленными исключениями - зарубежном грассоведении более или менее классического системно-структурного и системно-субъектного подхода. Более того - в сколь малой мере работа полагает Грасса автором «постмодернистских» текстов, в столь же малой мере она опирается на постструктуралистские методики в целях оригинального анализа этих текстов: речь здесь может идти лишь об учете методической перспективы и результатов уже имеющихся исследований такой направленности. Поздняя проза Грасса с точки зрения её идейно-содержательного плана может быть, по нашему убеждению, в целом гораздо более адекватно категоризирована в соответствии с органически чуждой постструктурализму максимой
1егйит поп с1аШг, чем это имело место в случае восприятия раннего творчества этого автора отечественной критикой советского периода (ср. статью с таким названием [99]). Адекватность такого подхода видится нам - в противоположность статье 1966 года, одной из первых познакомившей советского читателя с творчеством Грассса ценой его наложения на идеологическую матрицу «кто не с нами, тот против нас» (именно в этом смысле ригоризм аристотелевской сентенции), - исключительно на парадигматическом, отвлеченном уровне: она состоит уже в факте доминирующего присутствия идеологии, в поздних текстах Грасса, делающей их под углом зрения постструктурализма изоморфными и самой этой идеологической матрице советской критики. На этом, парадигматическом уровне формула гегНит (Исйиг, принадлежащая видному теоретику постсовременного общества и автору цитированной нами статьи о «распаде я-идентичности» Д. Камперу [66, Б.44], фактически лишена смысла. С точки зрения постструктурализма не только советская гуманитарная наука в силу известных причин, но, по-своему, и идеологизированная поздняя проза Грасса - ярчайший образец того, что Кампер называет «танатократией разума» и что призывает сбросить с корабля постсовременности. Излишне разделять пафос инвектив Кампера и Слотердайка против основ просвещенческой идеологии, чтобы признать факт исключительной принадлежности
Грасса именно к этой, отрицаемой ими традиции - обстоятельство, которое, как уже отмечено нами, не устает подчеркивать и сам Грасс. Есть основания полагать, что, говоря в этой своей работе в несколько утрированном тоне о конце власти просвещенческого разума с его системой «линейных» (ср. 1егйит поп ёайдг) оппозиций [66, Б.45] и о «трибуналах», на которых «попытки спасти Просвещение практикуются в формах, превращающих его в совершенные руины» [66, 8.40], Кампер имеет в виду не только Ю. Хабермаса и представителей франкфуртской школы, но и Гюнтера Грасса, организовавшего в бытность свою председателем Берлинской академии искусств (1983 - 1986) один из таких «трибуналов»: симпозиум под названием «О бедствии Просвещения» проходил в 1984 и 85 году и имел немалый общественный резонанс. Открывая дискуссионный ряд в академии, Грасс произнес вступительную речь «Сон разума», дополнив её в ходе дискуссии еще одним выступлением - обе эти речи заключают в себе, разумеется, и перспективу постсовременности: спасать Просвещение и вместе с ним «проект модерн» от постмодерна, определяемого автором в другом месте как «прикрытая форма иррационализма» [28, 8.82], нужно по причинам морально-этического характера, в силу ответственности перед обществом - чтобы не упускать из виду «нищету и бедствие, несправедливость и тиранию, Польшу и Никарагуа и нас самих, [...] немцев» [10, S.158], «Сама апелляция к здравому смыслу, - замечает И.Ильин, - столь типичная для критической практики идеологии Просвещения, стала рассматриваться как наследие "ложного сознания" буржуазной рационалистичности. В результате фактически все то, что называется "европейской традицией", воспринимается постмодернистами как традиция рационалистическая, или, вернее, как буржуазно-рационалистическая, и тем самым в той или иной мере неприемлемая» [40, с. 204].
Именно в силу этого обстоятельства мы, однако, не можем полностью оставить постмодернистско-постструктуралистскую перспективу за рамками нашего рассмотрения. Факт безусловной (пусть и весьма особой) принадлежности Грасса к просвещенческой традиции становится столь весомым лишь в контексте «бедствия Просвещения» конца XX века, в контексте того, что эта традиция «воспринимается [...] как [...] рационалистическая [...] и [...] неприемлемая» и - последнее представляет для нас особый интерес — в контексте сугубой озабоченности Грасса доминирующим её восприятием в подобном качестве. Говоря о проблеме субъекта и об идейно-философском своеобразии грассовской прозы этого времени, мы не можем поэтому отвлечься от того культурного контекста, который присутствует, пусть негативно, в творчестве нашего автора - напротив, мы задаемся целью выяснить, в каких частных и конкретных аспектах поэтики поздней прозы Грасса такое негативное присутствие можно проследить, если оно в самом деле имеет место и на уровне изобразительных средств.
Еще менее продуктивной, чем исключительная ориентация на классическую парадигму системно-структурного анализа была бы в нашем случае исключительная ориентация на постструктурализм как способ теоретической рефлексии или постмодернизм как на некую систему отсчета. Специфика идейно-художественной организации ^ грассовской прозы фактически оставляет в рамках этих теоретических посылок лишь возможность анализа каких-либо частных, не связанных с ней впрямую аспектов литературной формы или отдельных, наиболее «выгодных» с точки зрения такого анализа произведений - как это фактически имеет место в вышеназванных работах Книше. Попытки вывода этих, аспектов в контекст системно-монографического изучения творчества Грассса с нашей точки зрения изначально не могут быть состоятельными. Такие попытки не убеждают и у Книше, предпринимающего, по крайней мере декларативно, в самой значительной и объемной своей монографии [161] теоретические усилия по выходу за рамки одного избранного им для анализа произведения - романа «Крысиха» и по раскрытию при помощи стратегии прочтения текстов Грасса в рамках одного (в постструктуралистском понимании) интертекстуального поля с работами Фрейда некоей общей логики, определяющей сущностные моменты художественного метода этого автора вообще.
Коль скоро настоящее диссертационное исследование вынуждено считаться с многочисленными лакунами и идеологическими инверсиями в восприятии творчества Грасса в русскоязычном культурном пространстве - вне системно-монографического подхода, подразумевающего и не произведенную до сих пор более или менее генеральную ревизию написанного о Грассе в Советском Союзе 15-20 и более лет назад, постановка в отечественной науке частных проблем на материале поздней грассовской прозы представляется нам просто невозможной - оно не может в этом, системном плане удовлетвориться исключительной ориентацией на постструктуралистско- постмодернистский комплекс представлений. Характер рецепции в
Советском Союзе творчества Грасса, практически полное (и объяснимое в связи со сложившейся ситуацией) отсутствие сколько-нибудь крупных русскоязычных исследований его прозы в постсоветский период а также сам изменившийся в последние десятилетия весьма серьезно характер его творчества требуют от нашего исследования системности, системность же, в свою очередь, менее всего возможна в рамках «эксклюзивной» методической ориентированности на постструктурализм или деконструктивизм, поскольку неизбежно исчерпывает себя на уровне констатации того обстоятельства, что Грасс 01 - «динозавр» , реликт «метафизического» проектами «неприемлемой» традиции) Просвещения, в «лучшем» случае неосознанно работающий с отдельными постмодернистскими техниками: автор, которого, по выражению Томаса Книше, «пишет текст» [161, 8.20]. Возведенная в ранг системы, такая установка была бы неадекватна нашей, особой ситуации - ситуации, в применении к которой гораздо правомернее говорить о «возвращении автора»23.
Центральная для настоящей работы проблема субъекта - именно та теоретическая плоскость, которая допускает сопоставление, а не противопоставление классической и постмодернистской парадигм. Проблема автора занимает здесь важнейшее место. Литература в ^ настоящем диссертационном исследовании рассматривается прежде всего «как форма авторского сознания». Пособие Т.Л.Власенко с такий названием [39], созданное в развитие идей Б.О.Кормана по проблеме автора и проблеме субъекта - в отличие от изданного примерно в это же время немецкого сборника, посвященного «возвращению автора» - написано так, будто конец двадцатого века вовсе, не принес с собой тектонических сдвигов в осмыслении этих категорий гуманитарной наукой и в их отражении в искусстве, будто авторство никогда не уступало места «скрипторству», ситуации когда автора «пишет текст», а «возвращение» никуда не исчезавшего автора - противоречие в определении. Тем не менее систематизированные в этой книге идеи Б.О.Кормана для нас исключительно важны: классическая парадигма системно-субъектного анализа, не учитывающая кризиса авторства* составила, наряду с пониманием проблемы автора у М.М.Бахтина;, теоретическую базу настоящего исследования в отношении названной проблемы. Разногласия двух ученых в этой теоретической плоскости, неприятие Б.О.Корманом бахтинской идеи полифонии основаны на его мнении об отождествлении Бахтиным автора и рассказчика [45] - на мнении не вполне оправданном, как считает А.А.Фаустов, проанализировавший этот вопрос [52]; мы разделяем точку зрения Фаустова. В последние годы проблема автора вызывает интерес не только за рубежом, но и в отечественых исследованиях по истории зарубежной литературы: этой проблеме, помимо уже упоминавшейся работы И.С.Рогановой об авторской позиции у Кёппена, посвящена, например, диссертация Е.Г. Барановой «Проблема автора в раннем творчестве Андре Жида» [34], - работа, которую, на наш взгляд, отличают высокие научные достоинства и адекватность избранного теоретического аспекта предмету исследования. Более чем уместный и в поздней прозе Грасса вопрос о месте, формах и роли в ней авторского сознания, понимание которого опирается на названную традицию отечественного литературоведения, рассматривается здесь, однако, в соотнесении с культурным сознанием 80-х и 90-х годов двадцатого века, не приемлющим категории авторства.
И все же это не исследование одной лишь проблемы автора. «Проблема субъекта» понимается нами шире - речь идет здесь и о читателе как элементе эстетической реальности текста, и о повествователе-рассказчике, и о персонаже. Работы современного австрийского философа, культуролога и литературоведа Петера Цимы подводят прочный теоретический фундамент под такое, широкое видение проблемы субъекта как некоей теоретической плоскостй, допускающей сопоставление классической и постмодернистской парадигм художественности, под видение «всей литературной традиции со времен Просвещения» в качестве традиции, которая «на этическом, дидактическом и политическом уровне стремилась к обоснованию и раскрытию субъективного». «Бедствие Просвещения», конец - настоящий или лишь кажущийся - в культурном сознании последней четверти двадцатого века этой традиции, не могло не наложить отпечатка и на субъектную организацию персонажей в художественной прозе нашего автора, называющего себя «поздним просветителем». Работы П.Цимы по проблеме субъекта наряду с исследованиями некоторых других зарубежных ученых уделяют весьма значительное внимание выраженности ^ в художественной форме, в населяющих романное пространство персонажах цельной картезианской, раздробленной и амбивалентной модернистской или же постмодернистской (индифферентной, «растворяющей» субъект в интертексте) концепции субъектности; в применении к XX веку и к немецкоязычной литературе особый интерес представляет своего рода социология само- и мироощущения представленного в романе индивида в переходе от позднемодернистского «Человека без свойств» Музиля (или аналогичной, амбивалентной концепции субъекта в прозе Броха,
Кафки, Гессе ) к утратившему всякую автономию и подчиняющемуся лишь некоему самозарождающемуся детерминизму главному персонажу зюскиндовского романа «Парфюмер» (также в своем роде довольно репрезентативному с точки зрения литературного развития конца века). Вопрос о том, где в этом ряду (или вне этого ряда) можно найти место персонажам позднего Грасса теснейшим образом связан с проблемами автора и рассказчика. В применении к весьма особому характеру творчества Грасса он также представляется нам крайне актуальным.
Цель настоящего исследования состоит в широком рассмотрении на материале творчества Грасса 80-х и 90-х годов проблематики субъекта в динамике сопоставления классической и постмодернистской парадигм художественности. Специфика творчества Грасса, о которой мы говорили выше, позволяет связать вторую из них („Бедствие Просвещения", „прикрытая форма иррационализма") с проблемами восприятия идеи читателем и со стратегиями адаптации автором идеи к читательскому восприятию. Тем самым в этом, динамическом, аспекте должна найти продолжение та намеченная A.B.Карельским линия отечественного грассоведения, которая рассматривала вопросы поэтики более раннего творчества Грасса на уровне межсубъектного взаимодействия автора и читателя и, шире, в связи с проблемами текста и.контекста.
Задачи исследования определены постановкой вопроса о субъекте. Это, во-первых, анализ прозы Грасса с точки зрения роли в нем автора как носителя идейной концепции. Эта задача неотделима от задачи общего обзора творчества Грасса последней четверти века, в значительной мере неизвестного в России по причине отсутствия переводов и от задачи рассмотрения субъектной организации его поздней прозы. Сюда же относится анализ на избранном нами материале конкретных стратегий адаптации авторских идейных концепций, в значительной мере связанных с традицией Просвещения, к контексту „бедствия Просвещения", а также выявление характера связи с этой проблематикой субъектной организации персонажей (П.Цима). Такой анализ подразумевает задачи рассмотрения особенностей интертекста и иронии в поздней прозе Грасса. Наконец, перед нами встает задача анализа под избранным нами углом зрения некоторых аспектов исторической концепции нашего автора.
Актуальность исследования определяется особым положением Грасса в истории послевоенной немецкой литературы, а также нашим обращением к новейшим литературоведческим изысканиям по проблеме субъекта на Западе. Эти разработки позволяют в избранном нами аспекте продуктивно соединить традиции отечественого теоретического литературоведения (работы М.М.Бахтина, Б.О.Кормана), а также отечественной германистики (A.B.Карельский) и оригинальный анализ творчества одного из наиболее „исследованных" авторов современной западноевропейской литературы, сократив тем самым лишь увеличивающийся с советских времен разрыв между количеством и качеством посвященных Грассу публикаций в российской и в зарубежной литературоведческой науке. Обеспечиваемые широкой постановкой вопроса о субъекте системность такого исследования, общий взгляд на целый ряд проблем современного грассоведения, охватывающий сразу два десятилетия творчества нашего автора, совершенно необходимы отечественной германистике. Вместе с тем такой общий взгляд в нашем случае не исключает новизны исследования по отношению к зарубежным публикациям.
Именно новизна - главный приоритет настоящей работы. Если первая, обзорная глава в силу необходимости соблюдает определенный баланс между этим приоритетом и требованиями системного освещения малоизвестной в России прозы Грасса 80-х и 90-х годов, то исследование в целом ориентировано на состояние зарубежного, а не отечественного грассоведения. Впервые вопрос об авторе как носителе идейно- художественной концепции произведения и о читателе как элементе эстетической реальности рассматривается в нём в применении к творчеству Грасса в динамике взимодействия классической и постмодернистской парадигм художественности. Это позволяет не только уделить внимание вопросам статической субъектной организации произведения (Корман), но и рассмотреть вопросы субъектной организации персонажей произведения (Цима), а также по-новому взглянуть на многие отличительные особенности поэтики поздней прозы Грасса. Впервые важные аспекты историзма Грасса рассматриваются с точки зрения проблемы субъекта.
Апробацию диссертация прошла в университете г. Тюбинген (ФРГ). Отдельные положения работы обсуждались с переводчиком и автором публикаций по проблемам перевода Грасса проф. П.Оргаардом (Копенгаген), ведущими специалистами по творчеству Г.Грасса проф. Ф.Нойгаузом (Кёльн) и Г.Цепл-Кауфманн (Дюссельдорф). Исследования по теме диссертации были представлены в докладе и статьях в российских и зарубежных научных изданиях по общему и сравнительному литературоведению.
Научно-практическая ценность настоящего диссертационного исследования определяется возможностью использования его результатов при разработке лекционных курсов по истории зарубежной литературы, спецкурсов по немецкой литературе конца XX века.
Как явствует из подзаголовка «проблема субъекта», исследование построено по проблемному принципу. Этим принципом определяется структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованой литературы. Содержание первой главы составил общий обзор поздней прозы Грасса последней четверти двадцатого века в свете идейных воззрений автора, разделенный на подглавы 1.1 и 1.2 (своеобразие идейных воззрений и собственно обзор творчества). Вторую главу открывает теоретическое и методологическое уточнение нашего подхода к проблеме субъекта в контексте современной позднему творчеству Грасса культуры (подглава 2.1). Эта общая проблематика рассматривается далее в связи с конкретными аспектами поэтики прозы, созданной Гюнтером Грассом между. 1980 («Головорожденные, или немцы вымирают») и 1999 («Мое столетие») годом: в отдельные разделы второй главы выделено рассмотрение проблем интертекста (2.2) и иронии (2.3). Завершает диссертацию глава, посвященная проблемам историзма и заключение, резюмирующее выводы отдельных глав и намечающее некоторые перспективы изучения прозы Грасса в России.
Список литературы включает в себя те публикации о Грассе, которые были использованы нами в работе - в действительности литература о творчестве этого автора интересующего нас периода (не говоря уже об исследованиях более раннего творчества Грасса) обширнее, однако не все из опубликованного представляет интерес с точки зрения нашей постановки вопроса.
Цитаты из непереведенных на русский язык произведений Грасса и из исследовательской литературы на иностранных языках всегда (кроме нескольких оправданных' исключений) приводятся в основном тексте работы по-русски в выполненном нами переводе. В подстрочных сносках немецкий текст часто дается и в оригинале или только в оригинале - за счет этого не затрудняется понимание работы представителями смежных филологических дисциплин, германисты же сумеют увидеть в оригинальном тексте некоторые нюансы.
Своеобразие идейно-художественных аспектов творчества Грасса
Всякий анализ прозы Грасса в силу присущих его письму особенностей мы не представляем без разговора об общественно- политических и шире - идейно-философских воззрениях этого автора, об их весьма сложном и бесспорно противоречивом развитии и отношении к творчеству. Помимо общей, данной во вводной части, характеристики грассовского «романа идей», интерес для нас представляет вопрос о том, почему и как в художественных текстах Грасса 80-х и 90-х гг. - в особенности в текстах романных и в наибольшей степени в романах «Крысиха» и «Долгий разговор», а несколько по-особому и в особой книге «Мое столетие», также носящей наименование романа - идейно- философский уровень часто бывает дан с тем минимумом художественного опосредования, настолько «впрямую» от автора, что делает сотворческое его реконструирование и диалогическое восприятие читателем как бы изначально избыточным; идея в них зачастую настолько приближается к своему адресату, что отводит ему скорее пассивную роль реципиента. Под этим здесь разумеется известный в германистике преимущественно на материале последних вещей Грасса феномен: так, Н. Вестфаль говорит о «недооценке читателя» (ЬеБет егБсЬШжи , [212, Б. 28] ), а Г. Цепл-Кауфман, без ссылок на многочисленные труды которой не обходится ни одно серьезное исследование о Грассе начиная с 1972 года - о «более чем навязчивой» [126, Б. 28-29] однозначности идейных аспектов его позднего творчества. Подобного рода констатации можно встретить в значительной части серьезной исследовательской литературы о позднем Грассе, не говоря уже о литературной критике, нередко довольно поверхностно переводящей это явление в оценочную плоскость.
В работах отечественных литературоведов о Грассе, несмотря на то, что таковые до настоящего времени были крайне немногочисленны и посвящены более раннему творчеству писателя, названная тенденция в общем тоже не обойдена вниманием, поскольку определенные контуры это направление развития поэтики Грасса начало обретать уже с момента выхода в свет романа «Из дневника улитки» (1972). Е.М. Крепак упоминает в перечислительном контексте по сути об одном из частных моментов такого развития художественной системы - развития, которое тогда, впрочем, довольно трудно было распознать и предвидеть в целом: «Если в начале своего пути Грасс почти исключительно ограничивается намеками, аллюзиями и тому подобными зашифровками, то в зрелом творчестве он сам [выделено мной - Т.А.] раскрывает источники своих образов» [93, с. 36]. Несомненна связь сказанного именно с изменившейся ролью идейно-содержательного уровня в прозе Грасса: раскрывая «источники своих образов», автор как бы вынужден «демаскировать» себя в тексте с неизменной целью апеллировать к читателю напрямую, «приблизить» к нему авторскую идею, сделать её «доступнее». В то же время - в этом оборотная сторона названной особенности поздних грассовских текстов - автор, напротив, сознательно «маскирует» себя в них, пользуется, как мы намерены показать далее, определеными стратегиями такой маскировки.
Автор в прозе Грасса двух последних десятилетий ушедшего века апеллирует к читателю весьма особым образом: в смысле, по сути, противоположном смыслу понятия «апеллятивной структуры художественного текста», введенному Вольфгангом Изером и в смысле, вкладываемом в понятие «апеллятивности» многими грассоведами.
В терминологии Изера определенность довлеющей текстам Грасса идеи, редукция "неопределенности" и "пустых мест" , предполагающих «генерирование значений в акте чтения» [64, S.34] (т.е. именно то, что автор в поздней прозе Грасса нередко в большей или меньшей мере уже как бы сделал за читателя), означала бы приближение этих текстов к "апофантическому" , нелитературному типу: в этом случае, по Изеру, имела бы место как раз редукция апеллятивной структуры, понимаемой им вслед за Р.Якобсоном [72, S.22], выделявшим в литературных текстах апеллятивную функцию наряду с экспрессивной и референциальной, как универсальная характеристика их «литературности».
Исследователи поздней прозы Грасса тоже говорят об апеллятивности грассовских текстов - однако в ином смысле, близком смыслу приведенных нами выше высказываний Н.Вестфаль, Г.Цепл- Кауфман и Е.М.Крепак. Апелляция к читателю здесь не означает апелляции к его способности актуализировать потенциально содержащиеся в тексте смыслы - напротив, это апелляция к восприятию смыслов, заложенных автором с «навязчивой» однозначностью, образов, источники которых раскрывает сам автор. Сказанное, однако, не означает автоматического перехода соответствующих текстов в разряд «нелитературных». Обзор исследований, о которых идет речь, будет дан нами далее: опираясь на них, мы намерены обозначить наше понимание феномена «апеллятивности» с учетом не только приближения идеи к читателю, но и упомянутых стратегий «маскировки» в тексте её носителя, автора. Охарактеризованный здесь весьма общо (в дальнейшем характеристика эта будет, разумеется, развернута и подтверждена примерами), феномен этот именно по причине таких стратегий, в нашем представлении, не может ещё быть поставлен в слишком однозначную оценочную связь с эстетическими достоинствами повествования. К тому же отмеченная тенденция - не единственная в подвижной системе стилевых и эстетических взаимодействий, каковой является творчество Грасса, в системе, включающей в себя на разных уровнях и другие порой прямо противоположные и с трудом поддающиеся систематизации тенденции и ориентированной на постоянный художественный поиск, требующей комплексного подхода к своему изучению. Такой подход потребует от нас учета культурно-эстетического контекста 80-х и 90-х годов 20 века в оценке соотношения автора и читателя.
Здесь же, в отвлечении от постановки вопроса о субъекте в кон тексте взаимодействия «классической» и «постмодернистской» парадигм художественности, эта тенденция интересует нас «сама по себе». Именно приближение авторской идеи к читателю мы имели в виду, утверждая, что сотворческая реконструкция читателем идейно- содержательного плана в текстах такого рода зачастую представляется с самого начала как бы избыточной по отношению к достаточно недвусмысленному, монологически заданному автором, даже доминйрующему в своей однозначности присутствию этого плана в повествовании. В большей или меньшей степени эта характерологическая особенность прозы Грасса последних двух десятилетий определяет не только художественное своеобразие этой прозы, но и тот практический интерес, который её изучение может представлять для литературоведения на современном этапе. Генезщс этого явления, никем до сих пор не прослеженный в историко- литературном и историко-культурном плане, представляется нам тем более интересным, что с конца пятидесятых годов, т.е. в самом начале творческого пути Грасса, совпавшем с эпохой расцвета реалистического романа ФРГ и во многом эту эпоху собой определившим, позиция, занимаемая им как автором в отношении всякой идеи в художественном тексте - будь то идея «позитивного» или «негативного» свойства - была в буквальном смысле противоположной нынешней. Вопрос, о котором идет речь, решался Грассом в духе «берлинской программы» своего учителя А.Дёблина, с позиций предельной беспристрастности и объективации повествования, отсутствия в нем в любой форме авторских идей и оценок: «пусть судит он [читатель - Т.А.], не автор» [10, Bd.14, S. 268] . Если по отношению к идейным аспектам позднего творчества Грасса можно, вслед за Н.Вестфаль, использовать выражение «недооценка читателя», то Грасс ранний - по крайней мере на уровне поэтологических деклараций (а нам думается - не только на этом уровне) - своего читателя скорее переоценивал, чем недооценивал. Интересно и весьма важно для нас в этой связи развитое затем в диссертации Крепак утверждение A.B.Карельского о том, что Грасс «весьма редко расставляет в нем [в своем художественном мире - Т.А.] прямые, бесспорные нравственные ориентиры, по-кантовски полагаясь на присутствие в сознании читателя неких априорных и непреложных моральных представлений, - например, что фашизм - это зло, что убийство людей, индивидуальное или массовое, - тоже зло и так далее» [91, с.71]. Та основополагающая в отношении более раннего творчества Грасса идея, что он, по сути, исходил из априорного характера читательских представлений о добре и зле (пусть даже не «по- кантовски», а, скорее, стихийно) представляется нам весьма плодотворной и в отношении к изменившемуся на пороге нового века столь существенным образом облику художественного мира Грасса. Этот изменившийся облик достаточно недвусмысленно свидетельствует о том, что подобные допущения в применении к позднему его творчеству едва ли можно уже помыслить без очень существенных корректив.
Заявленная в самом начале главы особая необходимость обращения к анализу идейно-философских воззрений и гражданской, политической позиции автора мотивирована, таким образом, не только бесспорным своеобразием идейно-философского уровня в прозе Грасса и в этом смысле своеобразием её "иммунитета" к постмодернистской эстетике. В отвлечении от культурного контекста эпохи такой анализ имеет и самостоятельный смысл - в той мере, в какой на уровне конкретных текстов он позволяет проследить изменившийся характер эстетических отношений между автором и читателем, как и между автором и повествователем (или, если придерживаться терминологии системно-субъектного метода Б.О.Кормана - рассказчиком34). В ряду следствий меняющегося облика идейно-содержательной стороны прозы нашего автора эти отношения имеют концептуальное значение для поэтики Грасса. В их целостности и они до сих пор не осмыслены немецким и зарубежным литературоведением несмотря на наличие ряда работ, затрагивающих названные аспекты в основном на материале романа "Крысиха" и более раннего творчества Грасса .
К динамической постановке вопроса о субъекте
Обозначенная нами в предыдущей главе проблематика, связанная с идейно-философскими воззрениями автора, представляет с точки зрения характера репрезентации этих воззрений в художественных текстах двоякий интерес.
Традиционный подход к анализу проблем художественной формы с учетом содержательных аспектов литературного творчества (в нашем случае «идея» гораздо более значима для такого анализа, нежели «тема» или «проблема»: неоднократно использованную нами ранее формулировку Е.М. Крепак о тяготении позднего творчества Грасса к «роману идей» [93, с. 107] мы находим весьма удачной) с закономерностью приводит нас к более детальному рассмотрению вопросов поэтики творчества Грасса 80-х и 90-х годов. Это направление анализа, однако, будет занимать нас далее не только в рамках традиционной парадигмы взаимовлияния содержания и формы.
Другая сторона возможного интереса к идейному содержанию поздней прозы Грасса обозначена нами во введении. Она обусловлена самим фактом несовместимости парадигмы культурного сознания постсовременности с "тягой писателя к роману идей" в том смысле, который подразумевается здесь нами и подразумевался, очевидно, автором этого определения Е.М.Крепак . Рассмотрение в общих чертах в первой главе работы характера связи между идейными воззрениями автора и формальными особенностями его прозы параллельно с обзором творчества Грасса 80-х и 90-х годов имееет, таким образом, с точки зрения целей всего настоящего исследования смысл главным образом как статический аспект той общей проблематики, раскрыть которую в целом возможно только в динамике сопоставления (не противопоставления, как отмечено нами во вводной части) методологических парадигм. Проблема субъекта, которой в предыдущей главе было уделено немалое внимание в рамках одной - традиционной - парадигмы, выходит при этом на первый план в качестве элементарной единицы такого сопоставления, своеобразной плоскости, на которую позволительно спроецировать ту и другую сторону нашего интереса к поэтике поздней прозы Грасса.
Выстроить на обозначенной нами общей оси, во-первых, рассмотрение идейно-содержательных аспектов творчества Грасса безотносительно к культурно-философскому контексту конца 20 века и, во-вторых, анализ весьма своеобразных авторских стратегий совмещения трудносовместимых "романа идей" и этого контекста, контекста "недоверия к метерассказам" - задача системно-монографического плана. Решить ее возможно при условии четкого следования определенной методологической концепции. Логическая схема, в соответствии с которой строятся наши дальнейшие рассуждения в этой главе, включает в себя три основных компонента: к проблеме субъекта в динамике сопоставления "классической" и "постмодернистской" парадигм она подходит, опираясь на данную нами ранее характеристику особого грассовского "романа идей" и на контекст возможного восприятия идейного содержания прозы Грасса в 80-е и 90-е гг. XX века. В отношении последнего (т.е. проблемы восприятия) и в отношении самой постановки в этой главе вопроса о субъекте необходимы соответствующие разъяснения. Мы намерены предпослать их нашему рассмотрению вопросов поэтики поздней прозы Грасса.
Для нас важны именно те элементы взаимопроникновения постидеологического «фона» и идеи в тексте, которые обусловлены читательским восприятием, горизонтом ожидания; «постмодернистская чувствительность» интересует нас прежде всего в качестве такого рода «горизонта ожидания», весьма особым - такова наша рабочая гипотеза - образом интегрированного в сам художественный текст. Подобный характер интереса совершенно не требует от нас занимать четко определенной позиции в отношении столь спорных вопросов, как постмодернизм - «термин, годный a tout faire» [54,с.635] - в его отношении к таким топосам модерна, как «диалектика Духа, герменевтика смысла, эмансипация разумного субъекта» [47, с. 10] вообще или к социально-критическому и просвещенческому, «тотализирующему» импульсу, составляющему основу грассовского письма, в частности . Помимо того очевидного для нас обстоятельства, что термин, годный «на любой случай», для позднего Грасса годен менее всего , интерес для нас представляют стратегии письма, которые позволяют на уровне поэтики конкретных текстов как бы адаптировать весьма особую, как было показано в первой главе, специфику подачи в этих текстах идейно-содержательных аспектов «впрямую», от автора к особой же ситуации их восприятия читателем конца XX века; факт понимания этой ситуации Грассом в качестве «прикрытой формы иррационализма» для нас при этом первичен как по отношению к вопросу о том, насколько обосновано такое понимание, так и по отношению ко всем уже обозначенным нами в этой связи методологическим проблемам93.
Ранее мы уже говорили об «апеллятивности» художественных текстов Грасса. Речь об апеллятивности мы ведем здесь, опираясь на то её понимание, которое сложилось в зарубежном грассоведении (главным образом в работах Р.Шерфа [201] и А.Флюгеля [139]). Шерф в монографии, посвященной в основном ранней повести Грасса «Кошки- мышки» (1961) и вышедшей в год появления романа «Долгий разговор», отстаивает тезис об «ошибочности» преобладающей трактовки раннего творчества Грасса как аполитичного в противоположность позднему, политизированному. Идейно-политическое и социально-критическое содержание, обращенное к читателю-реципиенту (т.е. взятое именно с точки зрения его апеллятивности) попросту не было, как утверждает автор монографии, «распознано» предшествовавшими иссследованиями раннего творчества Грасса за «массивными структурами иронии». Это содержание, по Шерфу, в действительности осталось «тождественным себе» и в позднем творчесте автора [201,5.9]. «Писатель и ангажированный гражданин Гюнтер Грасс хотел бы довести до читателя своих книг противоположность бессмысленной вести своего первого повествователя [Оскара Мацерата - Т.А.]», он - посредством иронии - отрицает «отрицательную» роль своего героя, позднее же лишь формулирует в модели Сизифа или улитки «положительную» [201, с. 10].
Ирония Грасса в аспекте читательского восприятия
В предыдущей главе вопрос об особой, как бы выпадающей из времени, авторской просветительской концепции занимал нас в связи с проблемой художественных средств, так или иначе адаптирующих её особость к читательскому восприятию: формальные, вторичные по отношению к авторской позиции стратегии такой адаптации, „поза", интересовали нас при этом более, нежели сама позиция. Оставаясь в рамках намеченного нами динамического подхода к проблеме субъекта как носителя определенной концепции, мы в дальнейшем вновь намерены сосредоточить основное внимание на её содержательной стороне, точнее - на некоторых проблемах грассовского историзма.
Историзм - квинтэссенция грассовского „романа идей". Именно в аспекте, связывающем её с проблемой субъекта, историческая тема к тому же во многом определяет собой своеобразную типологическую модель, описывающую характер функционирования многих других, порой лишь косвенно связанных с историзмом, тем поздней прозы нашего автора. В этом смысле и знаменитое грассовское письмо „против уходящего времени", своеобразная основа его исторической концепции - модель, одно из многих „против", крайне типичных для прозы этого автора. «Грасс, - пишет Лев Копелев в эссе о своем давнем знакомом, названном им „Против течения - Гюнтер Грасс", - не позволяет «никаким политическим, идеологическим, эстетическим и моральным табу загородить дорогу к исторической правде или к правде искусства». [166,8.73]
В свете обозначенной нами проблемы субъекта нас интересуют именно вопросы авторской интерпретации «исторической правды» и, в связи с этим, «правды искусства» в художественной прозе, интересуют как с точки зрения исключительной важности исторической концепции Грасса, так и с точки зрения тех типологических обобщений, которые становятся возможны на этой основе, т.е. в ракурсе противостояния авторской позиции „табу", в особенности „идеологическим" - противостояния, в котором в сфере исторического художественного сознания столь чуждым постмодерну образом проявляют себя столь „метафизические" с его точки зрения понятия, как „субъект", „позиция", „историческая правда" или „правда искусства". Этот подход позволит обогатить существующее в исследовательской литературе понимание исторической концепции Грасса в его прозе последней четверти двадцатого века некоторыми новыми аспектами.
Категория противостояния, сопротивления (Widerstand) относится к „ключевым" [182, S.12] в поэтике Грасса; она, согласно предположению С.Мозер [Op. cit., S. 16], перенята им у Камю и находит выражение, нередко столь же афористическое, и в других (помимо сопротивления „уходящему времени") программных формулировках самого писателя - от ранней речи Inhalt als Widerstand («Содержание как сопротивление») до аттестации Грассом риторической направленности своего детища начала восьмидесятых, журнала L/80, „против ускоренно меняющего рубаху духа времени" [12, S.83] или заголовков эссе и речей содержащего публицистику 1980-1997 гг. тома из последнего, изданного по случаю присуждения Нобелевской премии, собрания сочинений (Vom Recht auf Widerstand; Den Widerstand lernen, ihn leisten und zu ihm auffordern; Der Versuch ffentlicher Dreinrede) - часть их была издана ранее в сборнике политических "речей против..." („Gegenreden") под заголовком „Widerstand lernen" . Более того - и в самой оценке Грассом писательского труда в свете противодействия камюсовского героя абсурду акцент, как нам представляется, в большей мере падает именно на сам момент противодействия, чем на абсурдность человеческого бытия и истории, воспринимаемых художественным сознанием Грасса, как уже отмечалось нами ранее, не без определенных противоречий; Сизиф у Грасса, как пишет, в частности, Клаус-Юрген Рём, подчеркивая при этом именно важность самого „противодействия" как такового - символ «позиции противодействия абсурду»137.
«Стихотворению неизвестны компромиссы; мы же живем компромиссами», — заявляет Грасс в 1966 году, задолго до своего программного сближения с Камю в «Головорожденных». В позднем творчестве нашего автора, однако, именно компромисс становится элементом «апеллятивного» художественного (а не внехудожественного, как, по сути, еще в формулировке 1966 года) сознания, в весьма значительной мере ориентированного на контекст восприятия: таким компромиссом автора и читателя как элементов эстетической реальности текста у позднего Грасса во многом является «поза», как мы пытались продемонстрировать это выше. Необходим он автору тем более, чем более бескомпромиссной, осмысленной, направленной против духа времени и - почти неизбежное следствие - „неприемлемой" становится его позиция, движение „против течения" (частный случай: „против уходящего времени") к субъективной „исторической правде", лежащей за пределами „стихотворения", за пределами мира искусства: „поза" у Грасса периода создания „Крысихи" и „Долгого разговора" - эстетическая инсценировка приемлемости того, что стало в данном культурном контексте „неприемлемым". Бескомпромиссная же позиция относящего себя к „роду Сизифа" автора, направленная на противодействие „уходящему времени", т.е. на действие, носитель которого - художник, а цель (в отличие, например, от прустовских «поисков утраченного времени»)138 четко обозначена вне сферы художественно-эстетического, также может быть рассмотрена в связи с проблемой текста и контекста. Речь здесь, однако, может идти не о контексте восприятия прозы нашего автора, а о доминирующем контексте интерпретации истории, о «политических, идеологических и моральных табу» как об атрибуте внехудожественной реальности, сопротивление которым - весьма существенный и недостаточно оцененный в обширной исследовательской литературе момент грассовского историзма. В таком противостоянии совершенно особую роль занимает субъект автора, «рука, сжимающая перо» и возвышающаяся над «грудой камней», если применить к самому Грассу метафору из речи Симона Даха в конце его повести о литературе и истории «Встреча в Тельгте»Ь9. В отношении передачи или интерпретации литературой истории, отмечает С.Ланге в контексте рассуждений о «немиметическом» соотношении литературы и реальности у Грасса, «притязание на объективность даже не возникает. Субъект рассказчика весьма заметен в тексте»[171 S.57]. Исследование С.Ланге посвящено сравнению концепций «рефлектированной реальности», т.е. характера соотношения литературы и действительности у Грасса и в литературе латиноамериканских авторов. Подразумевая под «заметностью» субъекта рассказчика прежде всего феномен т.н. «приватизации истории» персонажами Грасса, также лежащий в русле «сопротивления» навязанным идеологией историческим смыслам и исчерпывающе исследованный на Западе , а впоследствии подробно описанный и на русском языке в диссертации Е.М.Крепак, часть исследования Ланге, посвященная соотношению литературы и действительности у Грасса, не заостряет внимания на проблеме автора в его поздней исторической прозе (да и вообще анализирует преимущественно его прозу более раннего периода). Между тем в ней „приватизируют" историю не только персонажи, и связано это, как нам представлятся, именно с особого рода концепцией соотношения литературы и реальности. Проблемы здесь до последнего времени были связаны с несколько дезориентировавшими исследователей прозы Грасса последних двух десятилетий постоянными отсылками самого Грасса к Дёблину как к своему «учителю». Первая и наиболее известная из этих отсылок - эссе 1967 года - одновременно и своеобразная эстетическая программа раскрытия исторической тематики «учеником», т.е. самим Грассом. В ранний период творчества Грасса в качестве одной из наиболее существенных программных установок, заимствованных им у своего учителя, провозглашается отсутствие в какой-либо форме авторских оценок в исторической прозе. В своем раннем творчестве