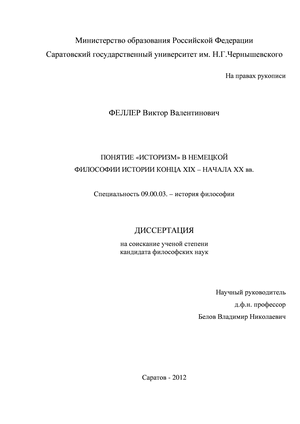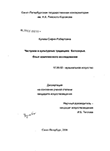Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Философское обоснование понятия «историзм» 22
1.1.Гносеология немецкого историзма против натурализма и историцизма 22
1.2. Структура и иерархия идеи индивидуализированного развития 49
1.3. «Исторический разум» Вильгельма Дильтея 57
Глава 2. Философское осмысление проблемы происхождения историзма 73
2.1. Источники происхождения немецкого историзма в культуре Нового времени 73
2.2. Трансцендентально-исторический разум в немецком историческом Просвещении 107
2.3. Репрезентации возникновения историзма у В.Дильтея, Э.Трельча и Ф.Мейнеке 141
Заключение 165
Библиографический список 169
Использованной литературы 169
- Структура и иерархия идеи индивидуализированного развития
- «Исторический разум» Вильгельма Дильтея
- Трансцендентально-исторический разум в немецком историческом Просвещении
- Репрезентации возникновения историзма у В.Дильтея, Э.Трельча и Ф.Мейнеке
Введение к работе
Актуальность темы исследования. «Русские сезоны» Сергея Дягилева стали уникальным опытом взаимодействия творцов, представляющих различные виды искусства и разные национальности, а также решающим этапом на пути интернационализации русской культуры. Несмотря на колоссальный объем литературы, в истории знаменитой антрепризы остаются белые пятна, одно из которых постановка «Хованщины» Мусоргского в редакции Дягилева и оркестровке Римского-Корсакова, Стравинского и Равеля. Необходимость восполнить этот пробел в контексте постоянно растущего интереса к «Русским сезонам» делает тему диссертации актуальной.
Столь же важно исследовать до сих пор остающуюся неизвестной область творческой биографии и наследия Стравинского. Ввиду утраты его партитур, связанных с работой над «Хованщиной», в высшей степени актуальной представляется задача их реконструкции и последующего возвращения в живой музыкальный процесс.
Наконец, все более актуальной становится тема оперного «сотворчества» новых редакций опер и завершения незаконченных классических опусов. Изучение дягилевского опыта способно обогатить историческую и эстетическую базу для осмысления данного феномена.
Исследование «Хованщины» в редакции Дягилева и вклада Стравинского в этот проект сопряжено с решением ряда проблем. Две важнейшие среди них проблемы реконструкции: а) композиторского и редакторского замысла Стравинского в отсутствие полностью сохранившихся рукописей; б) хронологии работы над оперой на основе разрозненных и фрагментарных источников. Имея дело с коллективным творческим проектом, важно установить воздействие на творческий процесс Стравинского «внешних факторов»: редакторских установок Дягилева, требований исполнителя роли Досифея Федора Шаляпина, влияния хрестоматийной редакции Римского-
Корсакова. Так же важна проблема творческой методологии «реставрации» незавершенной оперы Мусоргского: необходимо ответить на вопрос о праве редакторов и оркестровщиков на сотворчество и о компромиссах между стремлением к аутентичности и направленностью на восприятие массовой публики.
Объектом исследования является опера «Хованщина» в редакции Дягилева, а также связанные с ней рукописи Стравинского.
Предметом изучения становятся история и эстетика постановки; оркестровое и редакторское мышление Стравинского применительно к работе над «Хованщиной».
Хронологические рамки исследования охватывают предысторию постановки, начиная с 1907 года, и ее последующую судьбу вплоть до настоящего времени. Наибольшее внимание фокусируется на процессах подготовки, осуществления и рецепции проекта в 1913 году.
Источниковую базу исследования составили материалы трех архивов: Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, базельского Фонда Пауля Захера и Британской библиотеки, а также задокументированные беседы с владельцами и хранителями рукописей.
Массив нотных и литературных источников раскрывает:
замысел Дягилева и его развитие во времени;
процесс непосредственной подготовки редакции «Хованщины»;
композиторские, редакторские, оркестровые идеи Стравинского и их реализацию;
взаимоотношения в коллективе, объединившем нескольких гениев музыкального и театрального искусства ХХ века.
Цель исследования на основе всех существующих источников дать максимально полную и разностороннюю характеристику вкладу Стравинского в создание парижской «Хованщины», представив его в контексте истории и эстетики дягилевского проекта.
В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования:
детально реконструировать историю «Хованщины» в редакции Дягилева;
датировать все связанные с проектом рукописи Стравинского;
устранить фактические неточности в имеющихся публикациях, касающихся дягилевской «Хованщины»;
дать полное источниковедческое описание прежде не изученных рукописей арии Шакловитого и Заключительного хора;
на основе полученных данных проанализировать подготовленные Стравинским номера «Хованщины» с точки зрения формы, драматургии, оркестровки и художественных идей.
Основными методами исследования стали исторический, текстологический и аналитический методы. Междисциплинарный подход к изучению источников проявился в опоре на инструментарий источниковедения, целостного анализа и на принципы историко-контекстной интерпретации. Центральную роль в формировании методологии исследования сыграли труды Марин Карр («История солдата» Стравинского: факсимиле эскизов») и Аркадия Климовицкого (Игорь Стравинский. Инструментовки: «Песнь о блохе» М. Мусоргского, «Песнь о блохе» Л. Бетховена), в которых достигнуто триединство текстологического, исторического и аналитического методов. Системный подход позволил выявить воздействие как концепции Дягилева, так и особенностей постановочного процесса на художественный результат музыку Стравинского.
Научная новизна исследования определяется системным и разносторонним изучением «Хованщины» в редакции Дягилева, которая впервые рассмотрена как целостный историко-культурный феномен. Диссертация вводит в научный оборот важнейшую рукопись Стравинского, о которой ранее имелись лишь отдельные упоминания, Заключительный хор «Хованщины». Впервые дан подробный текстологический анализ как этого манускрипта, так и эскизов арии Шакловитого. Обнаружены ранее не
известные наброски арии, сделанные в тетради эскизов Заключительного хора. Аргументирована практически полная завершенность черновых рукописей арии Шакловитого, до сих пор считавшихся собранием разрозненных фрагментов. Объяснена загадка тональности арии Шакловитого, противоречащей намерениям самого Стравинского. Доказано, что композитор выполнял оркестровку не «по оригиналу Мусоргского», как он указывает в рукописях, а по двум источникам: вторым был клавир в редакции Римского-Корсакова.
На основе отрывочных сведений, содержащихся в нотах, реконструирован состав оркестра дягилевской «Хованщины».
Впервые публикуются факсимиле всех сохранившихся манускриптов Стравинского, связанных с «Хованщиной»: двух рукописей арии Шакловитого, тетради эскизов и клавира-партичелло Заключительного хора.
В диссертации представлены и доказаны новые хронологические сведения: точная дата окончания Заключительного хора Стравинского, примерная (с точностью до одной-двух недель) датировка работы Стравинского над проектом, основанная на анализе эпистолярии и нотной бумаги. Прослежена судьба манускриптов Стравинского с момента их завершения до наших дней. Впервые восстановлена история перемещений рукописи Заключительного хора между Швейцарией и Россией.
Впервые опубликованы и некоторые текстовые документы, важные для понимания парижской «Хованщины»: ранее не цитировавшиеся выдержки из прессы 1913 года; текст черновика письма Стравинского в издательство Breitkopf & Hrtel от 5 апреля 1958 года, проясняющий детали истории «Хованщины»; рекламный проспект дягилевской антрепризы 1914 года в Лондоне, доказывающий факт исполнения «Хованщины» на следующий сезон после премьеры, а также объясняющий спешку издателя Заключительного хора Василия Бесселя и наличие в его нотах подтекстовки на английском языке. Выяснен подлинный смысл телеграммы Дягилева от 21 апреля 1913 года, что
меняет датировку завершения работы Стравинского над партитурой Заключительного хора. Несколько писем Стравинского и его корреспондентов даются с исправлениями существенных ошибок, искажавших представления об истории «Хованщины».
Объяснены художественные и личные мотивы Дягилева в его приближении к цели путем значительных компромиссов; Стравинского в его внутреннем диалоге и «соревновании» с Римским-Корсаковым; Шаляпина в его противодействии идеям Дягилева.
Итогом работы стала впервые осуществленная реконструкция партитур обоих сохранившихся номеров, подготовленных Стравинским для «Хованщины», которая позволяет перенести массив исторических и теоретических наблюдений в практическую плоскость.
Положения, выносимые на защиту:
1. Версия «Хованщины», увидевшая свет в Париже в 1913 году, является
редакцией Дягилева, а не Стравинского и Равеля, как ее часто именуют в
литературе, поскольку практически весь объем редакторской работы общая
идея редакции, изучение авторских манускриптов, составление плана оперы,
решения о купюрах и вставках музыкального материала был выполнен
Дягилевым.
2. Противоречия в этой редакции были обусловлены историческим
контекстом и практической направленностью деятельности импресарио. Они не
отменяют первенства Дягилева в приближении к идеалу подлинного
Мусоргского.
3. Сохранившиеся наброски арии Шакловитого в оркестровке
Стравинского способны дать целостную картину этого сочинения и позволяют
с большой степенью достоверности реконструировать утраченную партитуру.
4. Оркестровка арии выполнялась Стравинским не только по оригиналу
Мусоргского, но и по редакции Римского-Корсакова. Идущая вразрез с
официально постулированной идеологией дягилевской «Хованщины», эта
оркестровка остается уникальным примером диалога между учителем и учеником, запечатленного в нотах.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в обиход музыковедения вводится новое знание о «Хованщине» в редакции Дягилева и о рукописях Стравинского. Практическая значимость заключается в том, что осуществленная в ходе работы реконструкция партитур открывает путь для живого исполнения неизвестной музыки величайшего композитора ХХ века впервые после 1914 года.
Апробация работы проходила на заседании кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 18 июня 2013 года. Положения диссертации излагались в докладах на международных научных конференциях в Дареме («Российская и советская музыка: переосмысление и открытие заново», июль 2011 года), Петрозаводске («Север в традиционных культурах и профессиональных композиторских школах»), Санкт-Петербурге («В круге Дягилевом», октябрь 2011-го) и Москве («Юбилей шедевра: К 100-летию “Весны священной” И. Ф. Стравинского», май 2013-го). По теме исследования опубликованы две статьи в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования РФ для апробации результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 180 позиций, и пяти приложений. Первая глава посвящена истории дягилевской «Хованщины», вторая и третья анализу рукописей Стравинского. В первых трех приложениях опубликованы факсимиле арии Шакловитого, тетради эскизов и клавира-партичелло Заключительного хора Стравинского, в последних двух реконструированные партитуры арии и хора.
Структура и иерархия идеи индивидуализированного развития
Перечислим наиболее значимые куновские «подтвержденные примеры», «прецедентно» раскрывающие в понятии «историзм» идею индивидуализированного развития. Говоря о «подтвержденных примерах», мы имеем в виду, прежде всего, некие повествовательные структуры более или менее обобщенного характера. Эти повествовательные структуры непосредственно демонстрируют, в максимальной полноте, возможности (точнее, потенции), прежде всего эстетические, развития и вообще бытования конкретной идеи. Они имеют, как правило, свое «укоренение» в одном из авторитетных трудов или в целом учении того или иного авторитетного мыслителя, как, например, «идея последовательности стилей» убедительно продемонстрирована Винкельманом в его знаменитом труде. Поэтому каждый из «подтвержденных примеров» представляет собой своего рода разветвленное древо примеров, конечно же выходящих за пределы «укоренения» в конкретном произведении или учении конкретного мыслителя, но наиболее полная демонстрация самой, заключенной в этих примерах «стволовой» идеи, для последующей ее рецепции, может быть обнаружена в именно в месте его «укоренения».
Таким образом, идею индивидуализированного развития следует отделять от идей, теорий, установок и схем: 1)прагматизма ; 1) идеи совершенства у Лейбница ; 2) ограничивающей идеи развертывания у Вико ; 3) идей перестановки и приспособления у Монтескье ; 4) идеи очищения разума у Юма ; 5) теории круговорота у Юма ; 6) нормативной идеи развития у Лессинга ; 7) идеи последовательности стилей в искусстве у Винкельмана ; 8) теории возрастов у Винкельмана, Гиббона и Монтескье ; 10)секуляризированных и телеологических рядов всеобщей истории у Боссюэ, Лессинга, Шиллера, Канта, Фихте и Гегеля, которые по замечанию Гете, были похожи на «искусственное регулирование рек» ; 11)«чистых» идей прогресса и эволюции ; 12)«чистой» идеи становления ; 13)ограничивающего применения понятия развития для согласования всемирной этико-религиозной цели с материалом исторической науки, что позже действительно привело к подчинению этого понятия идее гуманности (естественного разума), к признанию ограниченности идеи гуманности и к кризису историзма .
В десятом пункте Ф.Мейнеке противопоставляет великой традиции построения «секуляризированных и телеологических рядов развития», идущей от Боссюэ через Канта и Шиллера к Фихте и Гегелю, «всего лишь» гетевское эстетически свободное и не обосновываемое тем отношение к истории. Но, как отмечает сам Мейнеке, великий поэт, сам в юности сформировавший теософскую теорию всеобщей истории, не признавал идею индивидуальности исторического универсума и, к тому же, был непоследовательным в своих воззрениях на идею всеобщей истории . Теперь обратимся к «примерам», составляющим позитивное наполнение идеи индивидуализированного развития. Это утверждения: 1) об углублении идеей возрождения идеи развертывания, подчеркивая при этом ценность каждой эпохи, - в учении Дж.Вико ; 2) о необходимости сплавления друг с другом внутренних изменений и внешних влияний вместо того, чтобы отделять их одно от другого, как это сделал И.Винкельман ; 3) о необходимости рассматривать внутри больших периодов периоды меньшие, как это делал Ю.Мезер ; 4) о предпочтительности рассмотрения идеи развития в гердеровском смысле: метафору вегетативно-биологического развития следует применять к истории так, чтобы в ней высказывался не биологический, а витальный смысл ; 5) о необходимости соединить вегетативную и витальную идею развития с идеей «развития к худшему» и с идеей спасающего божественного вмешательства как внутреннего преображения (через откровение) человечества, уже готового упасть в пропасть ; 6) в гетевской идее о человечестве как макроантропосе и возрастах его жизни начиная от детства до старости, противопоставленной как идее простого развертывания, так и «фатализму и квиетизму» предзаданного плана истории ; 7) о необходимости признать двойственность понятия развития: в постигаемой изнутри индивидуальности неких предельных для внутреннего постижения эпох, подобных Новому времени и постигаемой извне в рядах универсального развития. Но для второго уже необходима «метафизическая вера» ; 8) о необходимости понятия универсальной истории, к которому неизбежно ведет понятие развития. Это и составляет основной вопрос философии истории: как из истории частных единств (эпох) проникнуть в универсальную историю рода ; 9) о необходимости «иерархического подхода» Шеллинга к историческому развитию: расслоения рядов развития на развитие права и государства, религии и философии, искусства и эстетического сознания; при этом помнить, что соединение этих потоков развития произойдет только в самом конце всеобщей истории ; 10) в идее связи понятий развития и структуры, которая у Виндельбанда и Риккерта определяется иерархией высших ценностей, а у Зиммеля идеей «зародыша» и заключенных в нем тенденций развития, постигаемых историком в качестве сверхзначимых образов, через которые осуществляется «прорыв в бессознательное» ; 11) о проблемности и эвристичности понятия развития и возможности его преобразования в логическое понятие лишь после соединения понятий исторического и биологического развития, то есть поглощения онтогенеза филогенезом ; 12) о необходимости применения идеи развития в контексте современной западной культуры на основе признания четырех ее формирующих сил и их взаимодействия между собой. Это Библия, Греция и Гомер, римский империализм, западное средневековье ; 13) об источнике идеи развития в телеологической структуре нашей душевной жизни . Несмотря на расхождения между трактовками Э.Трельча и Ф.Мейнеке, можно отметить их негативную близость, в частности, в том, что та и другая позиции явно недооценивают проблематику рядообразования.
Обобщая большую часть этих «подтвержденных примеров», Ф.Мейнеке подытожил, что в немецкой философии истории рубежа XVIII и XIX вв. понятие индивидуализированного развития соединяло в себе три основные идеи. Это идеи: 1) развертывания «зародышей», 2) духовного приспособления человека к окружающей среде; 3)творческого отношения человеческого рода как к влиянию среды, так и к направляющему (детерминирующему) действию «зародышей», которое основано на его абсолютной духовной свободе, вплоть до свободного выбора бесповоротно «свои пути извратить» и «сгинуть навек». В концентрации этих основных металогических моментов действительно выступает гносеологический потенциал идеи развития, его, так сказать, экзотерическая парадигма. Но, с нашей точки зрения, вся совокупность названных выше «подтвержденных примеров» составляет тонкую систему его эзотерической парадигмы, которая, при внимательном ее рассмотрении, с необходимостью предусматривает фрактальную иерархию, подобную, но не тожественную принятому членению суток: двадцать четыре часа - шестьдесят минут - шестьдесят секунд. Таким образом, высокая гносеология, или металогика, предполагает существование конкретно-метафизической структуры всеобщей истории как её «хребта» (формы форм). Это есть находящееся в основании любой культуры метафизическое воззрение: субстанциальное и благое должно иметь форму древесного ствола или спинного хребта. Данное воззрение не было утрачено и в немецком позитивизме эпохи Дильтея и Ницше. Как говорит П.Флоренский, оно привело даже «честного позитивиста» Э.Маха «к исходной точке немецкой психологии – к чудесным повествованиям Цезария Гейстербахского», в которых основание личности обнаруживается в спинном хребте .
Но как конкретно сочленяются три металогических момента, определяющих, согласно Ф.Мейнеке, гносеологический потенциал идеи развития, с метафизическими детерминациями «прогрессивного», «регрессивного» и «циклического» развития? Каков механизм связи гносеологического комплекса, включающего идеи развертывания «зародышей», духовного приспособления человека к окружающей среде, творческого отношения человечества как к влиянию среды, так и к детерминирующему действию «зародышей» с метафизическим комплексом идей, включающим идеи «прогресса», «регресса» и «кругового движения»?
«Исторический разум» Вильгельма Дильтея
Подводя итог проекту описательной психологии, В.Дильтей подчеркивает исходящий из него новый импульс учению о развитии: «Подобно тому, как ботаник должен прежде всего описать смену процессов, следующих друг за другом в развитии дуба, с того момента, когда желудь пускает в земле ростки, и до момента, когда желудь вновь отделяется от дерева, - так, совершенно так, психолог в законах развития и в единообразиях смены в душевной структуре описывает жизнь последней. Эти законы развития и эти единообразия он добывает из соотношений между средой, структурной связью, жизненными ценностями, душевным расчленением, приобретенной душевной связью, творческими процессами и развитием; моментами, наглядно данными во внутреннем опыте, дополняемом опытом внешним, безо всякого привлечения гипотетических причинных отношений» .
Исходя из сказанного, следует придти к заключению, что в основе исторического сознания лежит одна и та же идея исторического развертывания закономерно следующих одно за другим состояний сознания, которое побуждает массы людей изменять основные установки своей деятельности и тем менять культуру и общество, и само понятие «человек». Это и является основополагающей идеей немецкого историзма, по принципу проявления гносеологической, по характеру обоснования исторической, по начальным установкам «перспективы рассмотрения» и конечным выводам метафизической. Но в Дильтеевом варианте немецкого историзма «история философии» не только занимает место метафизики как учение о миросозерцаниях и их смене в истории, но и ревниво оттесняет на задний план недостаточно репрезентативную, с ее точки зрения, историю религии.
Прояснив метафизико-онтологические основания «критического» историзма в учении В.Дильтея мы можем поставить вопрос и о том, в каком отношении эти основания находились к их аналогам в «романтическом» историзме. Для этого проведем краткое описание «классического» учения В. фон Гумбольдта, имеющего наиболее близкое внутреннее отношение к «неклассическому» учению В.Дильтея и посмотрим на то, какую оценку ему дал Дильтей. В своей «сравнительной антропологии» Гумбольдт синтезировал наиболее сильные из идей «романтического» историзма. По оценке Р.Гайма, младшего современника и авторитетного биографа великого мыслителя, Гумбольдт соединил импульсы, идущие от Канта, Шиллера, Вольфа и Фихте. Он придал им форму самой своей необыкновенно гармоничной личности . Особое значение для последующего формирования идеи «реально-духовного» как онтологического основания немецкого историзма имело сформулированное Гумбольдтом в 1803 году «правильное понятие Единства». Отталкиваясь от «абсолютного “Я” Фихте и примыкая к пантеизму Шеллинга», он сформулировал романтическую идею единства всего человечества. Человечество это «не что иное, как собственное Я» . В гумбольдтовской идее «Я-Человечества», по нашему мнению, следует видеть мировоззренческую «смену гештальта», в соответствии с которой изменилась сама перспектива рассмотрения времени. Вместо стремления к «вечному» (тому, что находится «за временем» или «вне времени»), устремились к охвату «всех времен» и к постижению закона смены эпох и времен. Это изменение онтологической перспективы и стало событием полного пробуждения исторического самосознания и событием «рождения историзма». Г.В.Рамишвили отмечает, что известные философы XX века, такие как Шпрангер, Кассирер, Шпет, Гадамер, Гулыга, Кильен, «возводят вопрос об отношении Гумбольдта к немецкой философии в ранг принципиальной важности» . Для Гумбольдта только энергийная природа духа способна привести к пониманию глубин индивидуального и связать индивидуальность человека с индивидуальностями символических форм, с индивидуальностями наций, эпох и самой всеобщей истории. Дух – это высшая индивидуальность субъекта и индивидуальность высших субъектов, принимающих формы языковых, религиозно-мифологических, эстетических и научно-философских общностей. В.Гумбольдт определяет понятие духа через куновские «обоснованные примеры»: 1) принадлежности духа к чувственному (крепость спирта); 2) отрицания, что дух имеет какое-либо отношение к внечувственному (не дух и тело, а душа и тело); 3) подобия духа и привидения как «телесно-внечувственного». Гумбольдт настаивает на том, что: 4) дух более реален, чем привидение, что его понятие проясняется через: 5) отрицание какой-либо связи с чем-то механическим; 6) неизменное указание на характеристику вещи во всем ее целом. Понятие духа указывает на: 7) действия, в которых «глубина чистой интеллектуальной силы сочетается с живостью чувственной силы воображения»; 8) на дух как противоположность букве (дух указывает на подлинную сущность); 9)понимание духа как силы (дуновения, ветра) . У немецкого мыслителя в понятии «я» мы обнаруживаем не суверенную критическую инстанцию, а лишь посредника между природой и духом. Историческое познание для него возможно лишь через растворение «я» историка, через медиатизацию субъекта в живом понятии Я-Человечества. Здесь он действительно очень близок к романтикам . Ключевую для понимания немецкого историзма статью «О задачах историка» (1821) Гумбольдт начинает с того, что декларирует основную задачу историка. Она заключается всего лишь в изображении происходившего. Казалось бы, просто, даже банально. Однако кажущаяся надуманность этой проблемы является лишь оборотной стороной «беспроблемности» философского вопроса о бытии, того, что такое «есть» или «быть». Если в истории истина достигается в постижении только действительности, то в художественном изображении – через стремление полностью освободиться от действительности. Художник ищет истину образа, а историк – истинное сцепление событий. Поэтому нельзя смешивать задачу историка с задачей художника. При этом, имея в виду Гегеля, он утверждает, что философская история еще более опасна, чем художественная история, ведь поиски «конечных причин, пусть даже их выводят из сущности человека и самой природы, служат препятствием и искажают всякое свободное воззрение на своеобразное действие сил» . Как достигается это соединение свободы и тонкости воззрения? Гумбольдт отвечает: стремление к воссозданию образа целого, каковым может быть только целое некоего события, всегда имеющего отношение к целому всеобщей истории, может быть плодотворным только на пути активизации способности воображения. Но это не путь «чистой фантазии», но такой способности воображения, которая была бы подчинена «опытным данным и исследованию действительности». Эту способность надо определить «как способность предугадывать и правильно устанавливать связь». Историк в этом почти магическом действе должен стремиться к охвату «всех нитей земной деятельности и всех отпечатков неземных идей» . Здесь и востребовано понятие духа. Дух – это формообразующее действо. В нем глубина понимания соединяется с сильным чувством реальности.
Назначение историка, согласно Гумбольдту, состоит в том, чтобы «очищать чувство действительности скорее посредством формы событий, чем посредством самих этих событий ... Привнести форму в лабиринт событий всемирной истории, отпечатавшийся в его душе, - форму, в которой только и проявляется подлинная связь событий, он может только в том случае, если выведет эту форму из самих событий ... » . Гениальные историки способны понять не только явления, которые повторяются, но и понять «свободный самостоятельный импульс изначальной силы», - не только развития, но и творения, «возникновения из ничто». Он утверждает, что «всемирная история не может быть понята вне управления миром», но историку не дан орган, посредством которого тот мог бы «непосредственно проникнуть в замыслы управления миром»; ему остается только возможность духовного перенесения в ту сферу, из которой явления берут свое начало. В исследовании начальной причины – «последнее условие задачи историка» .
Вильгельм Дильтей, критически рассмотрев учение В. фон Гумбольдта, пришел к заключению о несовместимости гносеологических предпосылок немецкого идеализма и исторической школы . Но, вопреки утверждению Дильтея, следует признать, что идеализм и историзм в их романтической завершенности как раз и обнаруживают их общее основание. Это не гносеологическое, а онтологическое основание, произрастающее на почве теологической идеи спасения. Последняя есть позитивная идея восстановления утраченного человеком подобия Богу. Это не призыв к очищению образа, на который сориентирована идея гуманности, а призыв к восстановлению подобия, т.е. инвариантности истории-судьбы человечества к истории-творению Бога . Поэтому учение Гумбольдта фактически стало мостом между спекулятивными исследованиями немецкого идеализма и сравнительным методом исторической школы.
Трансцендентально-исторический разум в немецком историческом Просвещении
«Долгий век» Просвещения закономерно вырастал из того, что можно назвать «долгим веком» Барокко . Середина XVIII столетия определяет рубеж. Переходя этот рубеж, обманчиво холодный, но в прикосновении обжигающий, свет картезианского (и латуровского) воззрения на мир становится светом Просвещения. Он становится преображающим человека мягким внутренним светом нового миросозерцания, наделяющим его дух новым органом чувства. Внутреннее преображение сопровождается внешним развитием – возникает удивительный процесс будто бы согласованных интеллектуальных и социально-культурных изменений в экономике, обществе, государстве, науке, религии.
Этот «новый орган духа» есть вкус, исходящий из «интуиции унитарной целостной гомогенной природы, не нуждающейся в трансцендентности». «К середине XVIII века этот относительно гомогенный мир переживает определенную мутацию» антропоморфизма. В центре культурного универсума на место человека-героя заступает человек естественный. Его «достоинство и благородство связано не с исключительностью его миссии, не с его подвижничеством, но с отведенным ему природой (но и только ему) местом, которое можно обустроить и очеловечить, развернув свои задатки» .
Как следствие, «вкус, до известной степени, стал выполнять ту роль, которую в XVII веке выполняла внеположная точка трансцендентного смысла. Философский смысл этого поворота будет разъяснен в третьей критике Канта, но уже Дидро и некоторые его современники чувствуют, что “эскизность” Шардена – не просто манера или авторская находка; это – скорее эпифания нового мира» . Но это лишь один полюс произошедшей духовной мутации. Другой полюс – новое понимание трансцендентности, как имманентной течению истории, но трансцендентной «естественному разуму» любой из эпох. Противостояние немецкого «исторического просвещения» и французского «просвещения вкуса» - это полярное понимание имманентности и трансцендентности.
Исходя из предположенной нами ключевой роли рецепции учения Ф.Бэкона в немецком идеализме, представим картину интеллектуального развития Нового времени. Вспомним, что Бэкон выделяет три основные способности души. Способность «рассудка» в его системе формирует духовную сферу «философии». Способность «воображения» формирует духовную сферу «поэзии». Способность «памяти» формирует духовную сферу «истории». Все эти духовные сферы объединяются в охватывающей их великой сфере «науки о человеке». Эта великая сфера напряженно взаимодействует с великой сферой религиозного знания («науки о Боге»), в которой также проступает эта трехчленная градация, формирующая сферы рациональной теологии, религиозной догматики и священной истории. Существует и третья великая сфера – «наук о природе». В «науке о человеке» ведущей познавательной способностью является «рассудок». В «науке о Боге» господствует «память». В «науке о природе» ведущим становится «воображение». Но Бэкон считает важным для своей эпохи полностью раскрыть потенциал «рассудка» в «науке о природе» как и в «науке о человеке». Он предвидит развитие этой тенденции и всячески способствует ее формированию. Поэтому, когда в середине XVIII в. представление об автономии «естественного», то есть ориентированного на познание природных (включая и относящиеся к «внутренней природе» самого человека) закономерностей «разума», стало господствующим в самых широких кругах образованного общества, «рассудок» обрел достоинство «чистого разума», «поэзия» же открыла разумность «эстетического чувства». Это чувство нашло «точки схождения» в идеалах возвышенного и прекрасного. Соединение двух мировоззренческих преобразований привело к радикальному изменению духовной культуры. Философия заключила своего рода пакт с поэзией, направленный против теологии, что уже явно выходило за пределы необходимого равновесия разума, столь ценимого Бэконом.
Говоря о социальной отсталости раздробленной Германии накануне и в период Французской революции, забывают о двух принципиально важных моментах. Во-первых, о позитивной стороне этой «отсталости», а, вернее сказать, укорененности в университетской традиции. Во-вторых, о позитивной стороне этой «раздробленности», обусловленной преобладанием «тонких» структур политической саморегуляции над «толстыми» структурами административного принуждения. Эти два фактора и создали эффективный социальный институт, в течение 1750-1850 гг. определявший динамику развития немецкой культуры - систему исследовательских университетов.
Но в этой «раздробленности» содержались и семена гибели «тонкой системы» социально-политического режима старой германской империи, так как общеимперская суперсистема уже была неспособна противостоять прямому давлению централизованной Франции и охватывающему, удушающему морскому могуществу Великобритании. Наконец, следует сказать и о том, что после Тридцатилетней войны и установления в 1648 г. Вестфальского мира, принцип имперской гармонии, опирающейся на древнюю политическую традицию германского обычного права, впрочем, фатально ослабленной в то время рецепцией римского права, уже не соответствовал повсеместно торжествующему жесткому рациональному принципу равновесия суверенных бюрократических государств. Установление «европейского равновесия» неизбежно вело к искажению всей имперской системы, внутри которой властители крупных германских государств уже не считали себя в религиозном и моральном отношении связанными с древней традицией.
Автономия разума в контексте идеи немецкого исследовательского университета - это и самостоятельность четвертого (низшего) философского факультета, но с опорой на первый (и высший) теологический факультет. В этом союзе немецкая философия, потребовав автономии в научном исследовании, признала теологию своим наиболее близким другом и собеседником. И это было решением не в духе современной британской конвенции и компромисса, а в духе старой и «доброй» средневековой традиции глубокой духовной гармонии. «Естественный разум», еще только нащупывая структуру «трансцендентального», пытался определить свои границы как исторический разум, при этом он нащупывал общие инвариантные структуры эмпирического сознания индивида со сверхъестественным разумом или Умом.
В Германии уже к концу XVIII в. исчезла и практика живой коммеморации (memoria), т.е. включения естественно-ритуализированного общения с предками в повседневность родственных отношений. Эта практика была заменена суррогатом бидермейера. К этому времени также было предельно выхолощено и родственное этой практике таинство евхаристии . С тридцатых годов этого века в Париже и Лангедоке многократно снизились церковные пожертвования молящимся за упокой души . В пятидесятых годах начинается письменная история «десакрализации французской монархии» .
Параллельно широкой секуляризации и рационализации самых сокровенных сфер французской , а, с некоторым запозданием и немецкой, жизни, шел взрывной процесс распространения книгопечатной культуры и приятного, и в то же время полезного, общения в масонских ложах. Последние стали существенным фактором, прежде всего, британского влияния. На место иерархического сословного общества, в котором основные виды деятельности были гармонизированы в соответствии с основополагающим «планом» забот (о хлебе насущном, о порядке в мире, о загробном существовании) , заступило буржуазное классовое общество с подвижной, заранее не заданной иерархией. Но в самом основании классовой структуры была воспроизведена и прежняя сословная структура. Она была реализована и как «потаенное» правление масонского Ордена, тесно связанного с закрытым клубом «капитализма у себя дома». Предоставив заботе о хлебе двигать прогресс, эта структура замкнула на себя две другие задачи сословного общества. Как следствие, были достигнуты цели мобилизации и обеспечен «общий порядок в динамике».
С.Е.Киясов отмечает, что «политическая роль масонства всегда носила исключительно косвенный характер. Наиболее отчетливо она вырисовывается сквозь призму распространения либеральных мировоззренческих теорий, которые постоянно и неутомимо разрабатывал этот специфически организованный ”мозговой центр” ... Само рождение современного масонского братства было обусловлено инициативами, исходящими из заинтересованных политических сфер. Только этим можно объяснить поразительную терпимость к “вольным каменщикам” в Англии, правительства которой всегда решительным образом пресекали любые, мало-мальски заметные, поползновения несанкционированных действий оппозиции» . В конце XVIII – начале XIX вв. американское масонство, вышедшее из-под контроля английского масонства, посчитало недостаточным его рационалистический морализм. «Политика “добродетельных действий”, сторонниками которой были Т.Джефферсон и Б.Франклин, была заменена идеалами целесообразности и корыстолюбия» А.Гамильтона .
Средневековая метафизика человека и общества была не опровергнута, а просто «отодвинута в сторону». Взамен же были навязаны вульгарная философия власти и эзотерика возрожденного гностицизма. Еретический характер «гностической установки» заключается в следующем: «Во-первых, она плохо совмещается с христианским учением о первородном грехе, который проникает в сущность человеческой природы глубже, чем гностическая ”порча”, больше напоминающая болезнь, чем грех. Во-вторых, антифарисейский мотив христианской этики противоречит гностическому представлению о ”чистоте”. Для христианина возможен, а иногда необходим, путь принятия бремени греха на себя: этот вектор морального движения прямо противоположен гностическому очищению от зла, которое предполагает наличие некоей здоровой сердцевины в человеческой природе, каковую и надо спасать и совершенствовать количественным накоплением добродетелей» .
«Морализм» просветительской философии и «обескураживающая имморальность» сформированных ею политических технологий – прямые следствия преобладания с конца XIX ст. гностической установки над собственно христианской. И в этом «повороте» к гностицизму «заслуга» Ордена особенно велика. Немецкая классическая философия попыталась противопоставить ему новый проект прагматической метафизики. Кант, осмыслив положение вещей, связанное с пришествием и воцарением культивируемого масонством «просветительства», обосновал вытеснение метафизики из сферы чистого теоретического разума, но с тем большей убедительностью он ввел ее в сферу практического разума. Он вскрыл противоречивость немецкого Просвещения, обнаружив и общую безосновность рационалистически-эмпиристской метафизики Нового времени .
Репрезентации возникновения историзма у В.Дильтея, Э.Трельча и Ф.Мейнеке
В основу рассмотрения здесь взят очерк из третьего тома собрания сочинений В.Дильтея, который озаглавлен «Построение исторического мира в науках о духе». Начиная свое «построение исторического мира» в аспекте развития исторического самосознания и знания, увенчавшегося возникновением историзма, Дильтей указывает, что для самоопределения наук о природе основополагающее значение имеет период первой половины XVII в. Науки о духе же конституированы лишь спустя полтора столетия. Корни их спрятаны в «одном незначительном периоде», который отмечен «деятельностью Вольфа (Ф.А. – Ф.В.), Гумбольдта, Нибура, Эйхгорна, Савиньи, Гегеля, Шлейермахера, Боппа и Якоба Гримма» .
Этот прорыв был подготовлен в течение всего XVIII столетия, когда из естественных наук в науки о духе была привнесена научно обоснованная взаимосвязь. Историк указывает на «солидарность наций, обнаруживающуюся в разгар борьбы за власть, их общий прогресс, имеющий свою основу в универсальности научных истин, постоянно увеличивающихся в числе и как бы наслаивающихся друг на друга, наконец растущее господство человеческого духа над земным миром, осуществляемое посредством этого познания» .
Так сформировалась традиция рационально-эмпирической философии и метаистории, позже присвоившей себе имя философии Просвещения, для которой каждая часть культуры представлялась «определенной некоей целью и подчиненной правилам». Наконец, пришли к необходимости «видеть в минувших эпохах осуществление своих правил». Иначе говоря, внеисторическое обоснование разума было дополнено историческим - к «естественному разуму» вечной и неизменной природы добавили разум конкретных эпох и культур, но видели в нем лишь некое практическое приложение якобы уже открытых, начиная с эпохи Возрождения и Реформации, законов и правил вечного разума. Поэтому именно Гердер «как раз явился тем, кто совершил революцию в историографии, подчиненной рассудочному понятию цели, признав самостоятельную ценность за каждой отдельной нацией и каждой эпохой» .
Решающим В.Дильтей называет момент, когда универсальный разум просветительской философии был дополнен разумами культур и эпох, имеющими как рассудочное, так и чувственное основание. Для Дильтея совершенно очевидна преемственность новой историографии по отношению к философии, историографии и наукам о духе в рационалистической и просветительской философии. Она определена общностью «универсально-исторического понимания» истории как процесса культуры, в свою очередь определенного из фактичности прогрессивного развития экономики, техники, науки, искусства и из идеальности связи «растущего господства человеческого духа над земным миром» .
Но только появление йенской романтики дало возможность позитивно преодолеть насильственное и абстрактное понятие разума рационалистов-эмпириков, развернув его в «исторический разум». Немецкое историческое Просвещение и имело своим назначением позитивное решение этой проблемы. «Именно романтика, - утверждает Дильтей, - с которой столь тесно была связана наука о духе, а в первую очередь братья Шлегели и Новалис, вместе с новой свободой жизни сформировали свободу проникновения во все самые чуждые сферы. Шлегели расширили горизонт понимания всего многообразия творений в языке и литературе и наслаждения им. Они выработали новый взгляд на литературные произведения, опирающиеся на исследование их внутренней формы». На основе идеи «внутренней формы» Шлейермахер исследовал взаимосвязь платоновских произведений, а затем постиг внутреннюю форму посланий ап. Павла, разработав в строгом рассмотрении формы «вспомогательное средство исторической критики» и одно из основных средств герменевтики, позже доработанное Августом Беком . Оценка им немецкого романтизма как своего рода инициации немецкого историзма близка к оценке, даваемой его последователем Э.Трельчем. Ядром раннего романтизма оба автора называют содружество Ф.Шлегеля и Новалиса. От них и через них, считают Дильтей и Трельч, следует вести основную линию развития историзма.
«Романтики, - независимо от них поддерживает то же мнение Н.Я.Берковский, - призванные, убежденные историки, историки в общем смысле и в смысле специальном, историки культуры, историки искусств, историки литературы. В их миросозерцании историзм – существенная сила, они-то по преимуществу его и узаконили ...» . У романтиков, говорит В.М.Жирмунский, «этика расширяется в мистическую метафизику развития и философию истории, которая в идее Царства Божия находит исполнение всем отдельным чаяниям и хотениям» .
Поэтому, по нашему убеждению, противопоставление историзма и философии Просвещения связано с подменой понятий. Здесь эмпирически-рационалистская философская традиция, идущая от Декарта, Гоббса и Локка, необоснованно наделяется репрезентативным достоинством выступать не только основной тенденцией эпохи Модерна (что верно), но и ее истиной, абсолютным критерием ценности (что уже явная ложь).
Для биографа Новалиса Г.Шульца сущность романтизма «Диалогов» и «Анекдотов» - это «качественное потенциирование. Низшее “я” идентифицирует себя в этой операции с лучшим ”я”». Противоположность романтическому методу – «операция над возвышенным, неизвестным, мистическим, бесконечным – происходит их логарифмирование с помощью связывания – и возвышенное получает привычное выражение» . Другой великий поэт йенской романтики Ф.Гельдерлин был метко охарактеризован М.Хайдеггером как открывший «время отлетевших богов и грядущего Бога» .
Эстетика возвышенного в ее противостоянии эстетике прекрасного – еще один значимый момент самоутверждения романтизма в противостоянии просветительской философии, которым он во многом обязана Э.Берку. Кант в третьей «Критике» говорит о Берке как о «самом выдающемся авторе» философской эстетики, но отвергает его «эмпиризм» . В категории «возвышенного» Э.Берк нашел объединяющее и трансцендирующее начало для аффектов самосохранения. В категории же прекрасного он видел скорее имманентизирующее, но тоже объединяющее, начало для аффектов общения . На этом основании можно выстраивать философскую эстетику, в которой священное вновь заняло бы подобающее ему высшее место. И В.Гумбольдта Дильтей тоже называет романтиком. Но он замечает при этом, что тот «стоит среди романтиков несколько особняком, выделяясь сосредоточенностью и цельностью своей личности в Кантовском смысле» . И действительно, понимание Гумбольдтом языка, как и его понимание нации, нельзя не назвать романтическим .
«В близком духовном родстве с В. фон Гумбольдтом, - продолжает историк, - находится Фр.А.Вольф, который сформулировал новый идеал филологии, согласно которому она, имея свою опору в языке, должна охватывать всю культуру нации, чтобы отсюда, наконец, достичь понимания ее величайших духовных творений». Вольф показал, что эпическая поэзия греков, позже сведенная в «Илиаду» и «Одиссею», складывалась в устном исполнении из небольших форм. Это исследование вдохновило Р. Нибура, «двигаясь от критики традиции к реконструкции древнейшей римской истории», затем пропуская традицию через анализ «зависимости хронографов от партийных пристрастий», совершить критическое построение древнеримской истории, создать достойный подражания образец .
Добавим, что для Вольфа «высший полет» критики – это извлечение утраченного из общей связи сохранившегося. Через дивинацию критик получает доступ к «как бы выветрившимся памятникам старинных времен», толкуемых через «общие вероятности» . Дивинация, последовательно направляемая филологической критикой, постепенно приводит к высшему созерцанию – «лицезрению святейшего», а конкретно – созерцанию в конкретной классической эпохе ее антропологического образа как многообразной формы народной жизни .
Именно так, с нашей точки зрения, человек от кантовских созерцаний времени и пространства приходит к высшему, синтетическому и одновременно исходному, а также «всеобще-конкретному», созерцанию пространственно-временной действительности. Вольф предупреждает против профанации сравнительного метода, столь распространенной и в его, и в наше время. Он говорит, что самое вредное в распространении гуманитарных знаний – это «бесконечное стремление соединить во всей исторической части древности, особенно же в языках, отдельное как отдельное, без овладения твердыми основаниями, даже без чаяния того духа, который приводит все отдельное в гармоническое целое. Вследствие этого накапливаются нетвердые понятия, колеблющиеся мнения и непоследовательности, могущие спутать всякого, кто захотел бы искать чего-нибудь наилучшего...» .