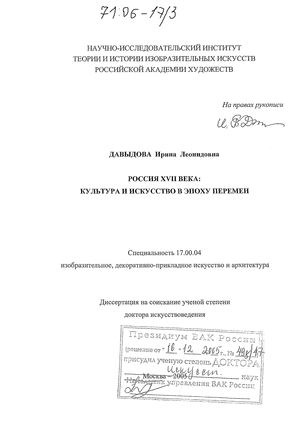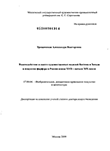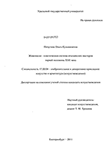Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Старое и новое как основополагающая оппозиция Русской культуры XVII в. Старое и новое в христианском средневековье 27
Старое и новое в традиционной культуре 30
Средневековые представления о старости и молодости: мудрость и неразумие 32
Средневековые представления о старости и молодости: зрелость и незрелость 36
Эстетика старости 38
Старое и новое: сакральность и эсхатологизм 40
Старое как истинное, новизна как старина 42
Оправдание молодости и новизны в XVII в 43
Традиционализм в архитектуре «послесмутного» времени 47
Традиционализм в живописи «послесмутного» времени 53
Вызревание новых тенденций в искусстве XVII в 57
Новые жанры в литературе и искусстве: биография и автобиография 59
Становление личности в русском обществе XVII в. и предпосылки возникновения портрета 71
Генезис русского портрета 76
Специфика русской «парсуны» 84
Личностное начало в архитектуре 86
Новый вид искусства: круглая скульптура 92
Новое понимание пространства 97
Новое восприятие цвета 104
Новый смысл старых мотивов 107
Глава II. Свое и чужое в русской культуре XVII в. Свое и чужое как архетипическая культурная оппозиция 118
Признаки чужака: язык 119
Признаки чужака: обычаи 122
Признаки чужака: пища 123
Признаки чужака: одежда 126
Признаки чужака: внешность 131
Чужой как нечеловек 137
Отношение к «немцам» 141
Отношение к грекам 144
Изменение отношения к иностранцам в XVII в.: конвергенция и ассимиляция. 145
Изменение отношения к иностранцам в XVII в.: «царь-чужеземец» 148
Иноземные заимствования в языке, одежде, внешнем облике и быте русских людей XVII в 150
Виды контактов с европейской культурой: приезд мастеров (архитектура) 156
Виды контактов с европейской культурой: приезд мастеров (резьба) 168
Виды контактов с европейской культурой: привоз образцов (изобразительное искусство) 179
Виды контактов с европейской культурой: поездки за рубеж 210
Греческий Восток и латинский Запад: удельный вес влияний 215
Художественный идеал в восприятии русских путешественников 220
Античное наследие в Древней Руси: чужое и адаптированное 222
«Воцерковление античности» в XVII в 226
Античность в контексте идеологии власти 229
Античность как язык европейской культуры 231
Представления об античном искусстве в России XVII в 234
Вторичная рецепция античных образов в русском искусстве XVII в 238
Глава III Сакральное и профанное на Руси В XVII в. Общие понятия о сакральном и профанном 242
«Двоеверие» как реальное христианство 244
Заговор и молитва 247
Нравоучительная литература XVII в 254
Религиозность русского общества XVII в 259
«Неполезное чтение» в контексте русской религиозности XVII в 265
Специфика религиозности русского общества XVII в 268
Влияние «новой религиозности» на искусство XVII в.: иконография 271
Влияние «новой религиозности» на искусство XVII в.: авторские подписи 275
Влияние «новой религиозности» на искусство XVII в.: архитектура 280
Влияние «новой религиозности» на искусство XVII в.: повествовательность живописи 282
Влияние «новой религиозности» на искусство XVII в.: «живоподобие» и со-чувствие 285
Влияние «новой религиозности» на искусство XVII в.: «воцерковление мира» 293
Святая Русь: истоки понятия 295
Святая Русь: обоснование понятия (вера и храм) 300
Святая Русь: обоснование понятия (монастыри и ландшафт) 304
Святая Русь: обоснование понятия (иконы, кресты, крестные ходы) 307
Святая Русь: обоснование понятия (явления святых) 311
Священный град: Москва - Новый Иерусалим 316
Царствующий град: Москва - Новый Вавилон 326
Глава IV Народное и элитарное в культуре XVII в. Структура общества в Древней Руси 336.
Принцип иерархии в общественных отношениях: презумпция места 338
Принцип иерархии в общественных отношениях: народный монархизм..340
«Элитарное» и «народное» в древнерусском искусстве 342
Народная икона 345
«Икона на рези» в народном восприятии 355
Генеалогия «языческих» мотивов в народном искусстве 357
Сакрализация монарха 361
«Царственность» в народной культуре 365
«Царственность» в искусстве XVII в. (резьба иконостасов) 367
«Царственность» в искусстве XVII в. (архитектура) .372
Пути и ареалы распространения «царственных» форм (архитектура) 379
Пути и ареалы распространения «царственных» форм (живопись) 383
Царь Царем и Царица Небесная: «царственность» в иконографии иконописи 390
Золото в искусстве XVII в 409
Богатство как эстетическая категория в русской культуре XVII в 413
Фольклорный компонент в искусстве XVII в 416
Заключение 423
Список использованной литературы 429
- Оправдание молодости и новизны в XVII в
- Традиционализм в живописи «послесмутного» времени
- Признаки чужака: одежда
- Святая Русь: истоки понятия
Введение к работе
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XVII в.
Историография русской художественной культуры XVII в. достаточно обширна. Хотя обобщающих работ по проблемам культуры этого периода весьма немного - основные принадлежат Б.И. Краснобаеву, A.M. Панченко, Ю.М. Лотману, Б.А. Успенскому, В.М. Живову, Л.А. Черной (Краснобаев 1978, 1983; Панченко 1984; Лотман, Успенский 1996; Живов, Успенский, 1984, 1996; Успенский 1984, 1996а,б; Черная 1999), - отдельным видам и жанрам искусства XVII в. посвящены многие десятки книг и статей. Число же исследований по конкретным памятникам этой эпохи измеряется уже сотнями. Обзор всей подобной литературы не является целью данного историографического введения. Мы специально останавливаемся лишь на тех трудах, которые заложили традицию той или иной трактовки интересующих нас вопросов или содержат развернутые суждения по поводу общей проблематики художественной культуры XVII в. Многочисленные работы фактографического плана будут привлекаться по мере надобности в основных главах диссертации.
Переломный характер эпохи, ставшей для России своеобразным мостом между средневековьем и Новым временем, осознавался уже интроспективно - самим русским обществом XVII столетия. Конфликт старого и нового, постепенное вытеснение старых устоев, нарушение традиционного чина и уклада особенно остро ощутили раскольники, резко восставшие против ненавистных «новизн». «Старая вера» стала для них формой борьбы за сохранение не только религиозной, но и нравственной и бытовой традиции (Гудзий 1966, с. 465). По словам А.С. Архангельского, «когда началось... исправление /книг/, масса инстинктивно почувствовала, что исправление это может быть началом другого, более радикального изменения всей той старины, которая до тех пор признавалась непогрешимой» (Архангельский 1884, с. 12). «Ид еже святий положиша что, то тут и лежи. Ид еже что, хотя малое,
7 переменит, да будет проклят» - писал, отвергая новации своего времени, в одном из своих посланий протопоп Аввакум (Житие Аввакума 1991, с. 132).
Основополагающее значение антиномии старого и нового для XVII в. было очевидно для всех авторов, занимавшихся этим периодом. Не случайно в ряде работ слова «новшества», «новые», «новое» вынесены в заголовок (напр.: Протасов 1912; Русское государство 1961; Новые черты 1976; Демин 1977; Брайцева 1978). Общим местом стали утверждения типа: «В XVII в. в искусстве происходила напряженная борьба направлений - передового и отсталого, - борьба новаторов и защитников старины» (История русского искусства 1959, с. 465).
Четко осознавалось и промежуточное положение XVII столетия между культурой средневековья и культурой нового времени: «XVII в. является перед нами эпохой, когда сводились итоги шестисотлетней предшествующей народной жизни и начались первые основания нового будущего существования, будущих "новшеств". В самих стенах старого здания, во многих местах уже обрушивавшегося, отчасти же еще здорового и крепкого, - воздвигалось новое, которое неминуемо должно было задавить прежнее» (Архангельский 18846, с. 1-2).
Однако автор этих слов обоснованно предупреждал: «Переходные эпохи особенно трудны для изучения. Они поражают историка своей сложностью, запутанностью, неустойчивостью... Историк долго не может разобраться среди того хаоса, который его окружает: старое быстро смешивается с новым, пришлые начала сливаются или борются с прежними, туземными, -все это так перепутывается... что разобрать исходные нити того и другого, указать их взаимное отношение делается иногда прямо невозможным. Обращаясь к подобным эпохам, историк должен превращаться в римского Януса: изучая переходную эпоху, он должен одновременно смотреть и назад и вперед» (там же, с. 2).
Далеко не все писавшие о XVII в. воспользовались приведенным советом. Культура этой эпохи нередко воспринималась недиалектично: или только как завершение старого этапа, или лишь как преддверие нового. В зависимости от избранной точки зрения исследователи видели в своем предмете те черты, которые соответствовали их концепции, считая противоположные тенденции несущественными. Принятая исходная позиция влияла и на
8 оценку искусства XVII столетия. Так, A.M. Павлинов, считавший архитектуру XVII в. завершением древнерусского зодчества, назвал это время «периодом упадка» (Павлинов 1894); отрицательно оценивали живопись XVII в. П.П. Муратов и Н.Н. Пунин (Муратов 1913; Муратов 1915), Н.Э. Грабарь (Грабарь 1915), а фразы об «утрате большого стиля, глубины образных характеристик, отсутствии в живописи XVII в. выразительности и духовной напряженности, свойственной произведениям XI-XV веков» (Древнерусское искусство 1964, с. 7) до сих пор иногда встречаются в научной литературе.
Ф.И. Буслаев, напротив, рассматривал иконопись XVII в. как начало нового этапа и вершину развития русского иконописного искусства, так как она «обнаружила решительное стремление к усовершенствованию, на основании ее собственных элементов» (Буслаев 1908, с. 165). Исследователи XX столетия Б.В. Михайловский и Б.И. Пуришев, проследившие зарождение новых черт в монументальной живописи XVII столетия, противопоставили ее старому «религиозно настроенному» искусству и в этом плане высоко оценили ее идейные и художественные качества, способствовавшие формированию русской живописи нового времени (Михайловский, Пуришев 1941, с. 146-148).
Вероятно, искусство XVII в. следует оценивать исходя из тех идейных и художественных задач, которые ставила перед ним эта непростая эпоха. Понятно, что такие задачи отличались от проблем, встававших перед мастерами как двумястами годами ранее, так и - тем более - тремя веками позже. Анализ памятников искусства XVII столетия и письменных источников свидетельствует, что уровень художественного сознания этого времени был полностью адекватен мировоззрению русского общества XVII в. Эстетическое и идеологическое восприятие произведений искусства этого периода являлось изоморфным восприятию, допустим, памятников XV в. в ту эпоху, когда они создавались. Таким образом, если не модернизировать критерии оценки, следует признать, что искусство XVII в. удовлетворяло потребностям, ради которых оно создавалось, и равно не заслуживает как упреков в «утрате высоких ценностей», так и похвал за «торжество светского начала».
Переходный характер исторического периода наложил сильнейший отпечаток на искусство XVII в. Можно согласиться с тем, что «в этом искусстве еще не было реалистического обобщения (к которому пришел развитой
9 итальянский Ренессанс), и уже не было идеалистического обобщения старого... искусства» (там же, с. 130). В.Н. Нечаев, исследовавший приемы построения пространства в русской живописи XVII в. и убедившийся в их ком-промиссности, назвал XVII столетие эпохой «художественного двоеверия» (Нечаев 1929, с. 60). Историки архитектуры отмечали традиционность композиции многих зданий XVII в. и новизну их декора (Красовский 1911, с. 382). Но не следует забывать, что для современников подобные художественные решения выглядели цельными и непротиворечивыми.
Поскольку мысль о переходности русской культуры XVII в. достаточно прочно утвердилась в историографии еще прошлого столетия, естественно возникло желание определить специфику этого перехода, исходя из категорий, выработанных применительно к культуре Западной Европы. Такой подход надо признать оправданным уже потому, что именно начиная с XVII в. открыто выявилась общность культуры и искусства Руси и Европы, а в XVIII столетии русская культура стала одним из национальных вариантов общеевропейской.
Но предложенные разными исследователями варианты локализации русской культуры XVII в. на европейской «культурной шкале» оказались существенно различными. При том что все авторы отождествляли «старое» в культуре XVII в. со средневековым, характер «нового» вызвал общую полемику. Русское искусство XVII в. в зависимости от позиции ученого сопоставлялось то с барокко (Барокко 1926; Шмит 1929), то с маньеризмом (Виппер 1978), то с Ренессансом (Иоффе 1944; подробнее см.: Бусева-Давыдова 1990а).
Главной причиной разногласий, очевидно, являлось отсутствие изначального определения предмета спора. Большая часть исследователей сужала свой объект, говоря только об искусстве XVII в. и о стиле этого искусства, т.е. о его формальных качествах. Те же относительно немногочисленные авторы, которые во главу угла поставили определение исторической эпохи, справедливо считая культуру и искусство производным от нее, пришли к достаточно единообразным выводам. Первенство здесь принадлежит Н.В. Султанову, сказавшему, что «в России в это время замечается то же явление, которое мы видим на Западе двести-полтораста лет ранее, т.е. в эпоху т. н.
10 Смешанного стиля, когда сооружения готические по своей основе облеплялись деталями стиля Возрождения» (Султанов 1897, с. 38).
Позднее Б.В. Михайловский и Б.И. Пуришев конкретизировали и развили сходную мысль применительно к живописи XVII столетия: «Русская живопись XVII в. обозначила в истории русского искусства степень развития, подобную той, которую в истории итальянского искусства ознаменовал ранний ренессанс конца треченто - половины кватроченто... Русское искусство XVII в. в своей основной струе созвучно в известной мере искусству раннего западного Ренессанса» (Михайловский, Пуришев 1941, с. 144, 146). Аналогичную точку зрения высказал И. Иоффе (Иоффе 1944), хотя в части анализа фактического материала его статья по убедительности и глубине явно уступает книге вышеуказанных авторов.
Достаточно определенно о ренессансных чертах русской архитектуры XVII в. писал Е.В. Михайловский, истолковывавший, например, появление сомкнутого свода в культовом зодчестве как «создание характерного внутреннего пространства Ренессанса» (Михайловский 1948, прил., с. 11). Н.Ф. Гуляницкий, развивая эту тему, смог заключить, что «ренессансные черты проявились не только в рамках традиционных форм, но и в новых формальных признаках, говорящих о все усиливающихся связях с европейским ренессансом, с его каноническими ордерными формами» (Гуляницкий 1978, с. 29).
Действительно, вряд ли возможно отрицать, что на рубеже XVII-XVIII столетий Россия проходила ту стадию культурного развития, которую Европа миновала на стыке поздней готики и раннего Ренессанса. Стадиальное соответствие привело к возникновению в русском искусстве XVII в. явлений, типологически свойственных искусству любой европейской страны переходного времени: это распространение центрических композиций в архитектуре, прямой перспективы в живописи, появление портретного жанра (а на Руси - еще и круглой скульптуры как самостоятельного вида искусства). Небезынтересно, что даже в области технологии иконописи прослеживается связь не с приемами западноевропейской живописи XVII в., а с колористическими экспериментами Ренессанса: «широкое использование разнообразных баканов [органических цветных пигментов. - И.Д.] делает русскую икону этого периода похожей не на масляную европейскую живопись XVII-
XVIII вв., а скорее на итальянскую темперную живопись XIII-XV вв.» (Голиков и др. 1999, с. 30).
Однако «ренессансность» русской культуры XVII столетия оказалась скрытой от многих исследователей, руководствовавшихся только формально-стилистическими критериями. В связи с этим Д.С. Лихачев предупреждал: «XVII в. в России принял на себя функцию эпохи Возрождения, но принял в особых условиях и в сложных обстоятельствах, а потому и сам был «особым», неузнанным в своем значении» (Лихачев 1973, с. 139).
«Неузнанность» эпохи объяснялась тем, что переход от средневековья к Новому времени в России происходил значительно позже, чем в Западной Европе, где к тому времени господствовало барокко. Можно смело утверждать вслед за Ф.И. Буслаевым, что «вовсе никакого понятия не мог русский мастер иметь о различных стилях западного искусства; ...но во всем, что ни доносилось к нему с Запада, чувствовалось ему новое, освежительное благоухание красоты» (Буслаев 1861ж, с. 403). Русские художники и русские заказчики XVII в. ориентировались на новый тип европейской культуры в целом, независимо от ее конкретных стилевых характеристик. Это обусловило широкое проникновение в русское искусство элементов европейского барокко, но, по точному наблюдению Д.С. Лихачева, «пришедшее к нам при посредстве польско-украинско-белорусского влияния барокко приняло на себя функции ренессанса, сильно изменившись и приобретя отечественные формы и отечественное содержание. Роль барочных элементов, мотивов и произведений была в России по существу не барочной...» (Лихачев 1973, с. 211).
Проблема «старого» и «нового» в русском искусстве XVII в. изучалась и более конкретно - на уровне отдельных видов и жанров искусства и даже отдельных памятников. Существуют капитальные труды, посвященные литературе переходного времени и становлению русского театра, где авторы высказывали свою точку зрения на этот вопрос (см., напр.: Панченко 1973, с. 280; Робинсон 1974, с. 408; Демин 1976; Архангельский 1884а, с. 42; Московский театр 1914, с. 192; Всеволод ский-Гернгросс 1977, с. 485). Новые черты в музыке XVII в. отмечали Н. Финдейзен, А.В. Преображенский, в философии - О.В. Трахтенберг, В.В. Аржанухин, М.Н. Громов, в эстетике -Г.Д. Филимонов, Л.А. Успенский, В.В. Бычков и др. (см.: Финдейзен 1928, с. 103; Преображенский 1915; Трахтенберг 1951; Аржанухин 1987; Громов,
12 Козлов 1990, с. 208-288; Филимонов 1873; Успенский 1971; Баженова 1973; Салтыков 1974; Бычков 1992).
В архитектуроведении появление новых композиций, нового декора и новых решений внутреннего пространства в типологическом плане ранее всего рассмотрел М.В. Красовский (Красовский 1911, с. 191-428). А.И. Некрасов дополнил своего предшественника некоторыми частными, но достаточно интересными наблюдениями и предложил собственное объяснение генезиса этих новых черт (влияние традиций жилого деревянного зодчества) (Некрасов 1936, с. 300-302, 306). Вслед за ним А.Г. Чиняков четко разделил два периода развития русской архитектуры XVII в. и перечислил особенности каждого из них. По его мнению, «если архитектуре середины столетия были особенно присущи асимметрия плана и сложность композиции, разнообразие и предельная насыщенность декоративными деталями... трактовка стены здания как живописного ковра, то новое художественное целое конца XVII в. отличается предельной ясностью композиции, строгой симметрией фасадов и планов, стандартностью белокаменных деталей» (Чиняков 1954, с. 13). В области жилого зодчества ценные наблюдения были сделаны А.А. Ти-цем (в частности, прослежена эволюция хоромного типа в дворцовый; Тиц 1966).
Новые черты в живописи XVII столетия стали объектом тщательного анализа в книге Б.В. Михайловского и Б.И. Пуришева. Констатация ими таких качеств, как «новый гуманизм», повышенная динамика, стремление к широкому охвату действительности, появление новых мотивов, изменение трактовки пространства позволяют провести аналогию с архитектурой и обоснованно говорить о синтезе искусств применительно к XVII в. (Михайловский, Пуришев 1941). Те же тенденции отразились и в прикладном искусстве, где они преломлялись в зависимости от свойств используемой материальной основы. В ювелирном деле появляются новые типологии и новые способы украшения изделий (Постникова-Лосева 1974, Игошев 1997), в шитье - попытки передать фактуру и объем (Якунина 1955; Силкин 2002), в декоративной резьбе - новый тип орнаментов (Соболев 1934), в производстве мебели и посуды - новые типы изделий (Русское декоративное искусство 1962).
Новое в XVII в., как правило, восходит к иноземным истокам, что также осознавалось современниками. «Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захо-телося немецких поступов и обычаев», - сокрушенно заметил в одной из своих учительных бесед протопоп Аввакум (Житие Аввакума 1990, с. 254). Обращение к иностранным - в первую очередь западным - образцам легко объясняется, исходя из характера и потребностей переходной эпохи. Как указывал В.О. Ключевский, «и прежде, в XV-XVI вв., Россия была знакома с Западной Европой, вела с ней кой-какие дела, дипломатические и торговые, заимствовала плоды ее просвещения, призывала ее художников, мастеров, врачей, военных людей. Это было общение, а не влияние. Влияние наступает, когда общество, его воспринимающее, начинает сознавать превосходство среды или культуры влияющей и необходимость у нее учиться... заимствуя у нее не только житейские удобства, но и самые основы житейского порядка, взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения. Такие признаки появляются у нас в отношении к Западной Европе только с XVII в.» (Ключевский 1923, с. 324).
В результате «к исходу XVII в. в Москве иноземный элемент расцвел уже пышным цветом, и то, что было в первой половине века несмелым опытом, превратилось в привычный обиход» (Платонов 1925, с. 124). Литературоведы отмечают широкую популярность у русских читателей переводной литературы (Соболевский 1903; Орлов 1934; Державина 1962; Державина 1965), музыковеды относят многие новшества в русской музыке XVII столетия на счет западной традиции (Преображенский 1921); русский театр целиком строился по западному образцу. В архитектуре влияние Запада ярче всего сказывалось в декоре зданий, что и было отмечено еще дореволюционными исследователями. Б. Дунаев писал: «Волна чужеземного влияния... вдохновила наших зодчих на создание дивных памятников... Памятники эти, являясь результатом борьбы двух начал: старого русского зодчества с западным, сохранили в основе своих композиций зданий самобытные начала, а декорировку, ее роскошь и художественность заимствовали у зарубежного искусства» (Дунаев 1915, с. 10).
Иностранное влияние чувствовалось в зодчестве XVII в. настолько явно, что А. Суслов счел строгановскую Рождественскую церковь в Нижнем Новгороде постройкой иностранного мастера, а Ф.Ф. Горностаев приписал
14 «немцам» Теремной и Потешный дворцы Московского Кремля (Горностаев 1913). Устойчивой традицией стало приписывание иноземным архитекторам - итальянцам или шведам - церкви Знамения Богоматери в Дубровицах (Красовский 1910; Некрасов 1936).
В историографии живописи термин «фряжское письмо» (в узком смысле слова итальянское, в более широком значении - ориентирующееся на новоевропейское) вошел в употребление еще в XVII в. По замечанию И.Э. Грабаря, «уже строгановские мастера... были в значительной степени заражены фряжским духом, и с этого времени редкая русская икона вполне свободна от влияния западных форм» (Грабарь 1910). Этой самоочевидной точки зрения придерживались практически все исследователи живописи XVII столетия. Полемика между ними шла лишь по поводу определения большей или меньшей доли «фрязи» в живописи XVII в. в целом или в творчестве отдельных мастеров (Нечаев 1927; Сычев 1928), но никто не подвергал сомнению само наличие иноземных заимствований.
То же можно сказать и о значительной части историографии архитектуры. Так, A.M. Павлинов, считая маловероятным участие иностранных мастеров в постройках Ярославля, тем не менее видел влияние Запада в применении полихромных изразцов и в резьбе внутри храмов (Павлинов 1892, с. 16). Авторы сборника «Барокко в России» (Барокко 1926), по-разному решая вопрос о стиле русской архитектуры XVII в., единодушно отмечали в ней формы, восходящие к западноевропейским.
Тезис о связи русской архитектуры XVII в. с западноевропейской был пересмотрен в период борьбы с космополитизмом. А.Г. Чиняков доказывал тогда, что «мы не найдем в Западной Европе ничего похожего на сооружения "московского барокко", хотя, противореча себе, и оговаривался, что «в последнем можно обнаружить много элементов западной барочной архитектуры» (Чиняков 1952, с. 209). Категоричнее высказался М.А. Ильин по поводу Сухаревой башни: «Лишь чисто внешнее сходство с западноевропейскими зданиями ратуш заставило некоторых авторов необдуманно сделать в корне неправильный вывод о якобы немецком происхождении ее общей архитектурной композиции. Сухарева башня вплоть до последних деталей является произведением чисто русским» (Ильин 1954а, с. 100).
На материале живописи столь же безапелляционно отрицать воздействие западных источников было невозможно после статьи Е.П. Сачавец-Федорович «Ярославские стенописи и Библия Пискатора», вышедшей в 1929 г. Автор доказала, что ярославские иконописцы широко использовали в качестве образца иллюстрированную библию, изданную в 1650 г. голландским гравером и издателем Н. Фишером (Пискатором) (Сачавец-Федорович 1929). Сопоставление западных оригиналов и русских копий было настолько показательно, что опровергнуть этот факт не представлялось возможным. Однако реальный масштаб и характер использования западноевропейских гравюр русскими мастерами оставались невыявленными, влияние гравированных оригиналов на русскую иконопись представлялось очень ограниченным и локальным. Считалось также, что «живописцы XVII в. вносили в художественную трактовку библейских сюжетов черты национальной самобытности, оживляя их характерными бытовыми деталями, почерпнутыми из русской действительности и претворенными в художественные образы силой творческого воображения» (Некрасова 1964, с. 99), а гравюры фигурировали «лишь в качестве мотивов самого общего порядка», из которых русский художник создавал совершенно новые композиции (Брюсова 1984, с. 98). Неточность подобных представлений стала очевидной лишь в последнее время, когда удалось выявить, помимо ранее известной Библии Пискатора, еще пять сборников гравюр такого рода, применявшихся русскими живописцами XVII столетия (Бусева-Давыдова 1979, 1993). Обнаружилось также, что сфера употребления этих гравюр была чрезвычайно широкой: с использованием западных оригиналов написаны, например, практически все крупные фресковые циклы второй половины XVII в. Кроме западноевропейской иконографии, русские художники усваивали из гравюр способы построения пространства, моделировки объема, т.е. приемы искусства Нового времени.
Сильно затронуто было западными влияниями и прикладное искусство (Веретенников 1908). Его роль в художественной культуре XVII в. была особенно важной, так как «православная церковь, тщательно ограждавшая себя от уступок инославным, особенно - католическим формам ритуала, боровшаяся против... нарушений традиций в иконописи, меньше обращала внимания на выдержанность "православной" религиозной идеологии в других категориях культовых принадлежностей, где новшества иноземного порядка
казались... менее опасными» (Левинсон 1941, с. 126). Это обеспечило возможность перенесения на Русь во второй половине XVII столетия целых отраслей декоративно-прикладного искусства (полихромные изразцы, высокорельефная «флемская», т.е. фламандская, резьба, роспись по эмали) с присущей им иконографией, практически не отличающейся от общеевропейской.
Не остался без внимания вопрос о путях проникновения в Россию XVII в. европейской культуры. Этой проблеме специально посвящена работа Н.Д. Чечулина «К вопросу о распространении в Московском государстве иностранных влияний» (М., 1902; см. также: Евангулова 1974; Евсина 1975). Такими путями были (1) приезд на Русь иноземцев; (2) поездки русских людей за рубеж; (3) использование иностранных источников - книг, чертежей, гравюр; (4) привоз произведений искусства. Н.Д. Чечулин отмечал также особую роль переселения на русские земли выходцев с восточных территорий Речи Посполитой после войны 1655-1656 гг. Эти переселенцы «явились проводниками в глубь народных масс... той, так сказать, привычки к иноземному, которую, по нашему мнению, надо предполагать в массе русского народа более значительной, чем ее предполагают обыкновенно» (Чечулин 1902, с. 8). Д.В. Цветаев обратил внимание на другую категорию иноземцев - служилых людей, принявших на Руси православие и ассимилировавшихся с местным населением. По его мнению, «перекрещенцы, несомненно, прививали русским и свои социальные и другие понятия; их тип, внутренний и внешний, оставлял следы в их потомстве» (Цветаев 1890, с. 405). Важное значение для сближения с Западом имело и само существование иноземных слобод - оазисов западной культуры на русской почве - в крупных торговых центрах России XVII в. (Ковригина 1998).
Нельзя недооценивать и роль иноземных мастеров, приглашаемых в Россию к царскому двору. Действительно, «вопреки общепринятому мнению о нетерпимости древнерусского человека к иноверцам, при Алексее Михайловиче иностранные художники и мастера разных национальностей и вероисповеданий работали в Оружейной палате вместе с православными русскими и руководили ими в искусстве» (Успенский 1914а, с. 57). И хотя можно не соглашаться полностью с утверждением, что «главными виновниками изменения в направлении русского искусства были иностранные художники,
17 служившие в то время при московском дворе» (там же, с. 56), нельзя игнорировать их вклад в становление, например, русского портрета или в развитие декоративно-прикладного искусства. Достаточно сказать, что в последней трети XVII в. в штате живописной мастерской Оружейной палаты состояло около 20 выходцев из западных земель (Павленко 1998, с. 200-201), а во второй половине XVII в. около четверти царских ювелиров были иноземцами - англичанами, голландцами, шведами, немцами, французами (Троицкий 1928, 1930). Иноземные резчики Оружейной палаты, в отличие от их русских собратьев, «умели знаменить сами, знали разнородную резьбу и столярство, хорошо умели обращаться с инструментами, до тех пор неизвестными русским... словом, это были более развитые и технически опытные мастера, чем русские резчики» (Соболев 1934, с. 77). Учитывая, что по условиям контракта западные специалисты должны были обучать русских учеников, следует признать их влияние на русское искусство XVII в. достаточно значительным.
Немаловажным было также использование западноевропейских гравюр, о которых применительно к живописи говорилось выше. Но в русских библиотеках имелись и архитектурные увражи. «Наличие гравюр и архитектурных книг в обиходе русских зодчих этого времени, несомненно, сделало возможным привлечение западноевропейских архитектурных форм, преимущественно голландских, для решения всех архитектурных задач, которые в таком большом числе вставали перед русскими мастерами» (Ильин 1966, с. 243). Были в обиходе и сборники гравюр, функционировавшие в качестве образцов для резчиков и ювелиров (Белокуров 1906). Чрезвычайно интересно, что западные гравюры вошли в арсенал народного искусства, перейдя в лубок (Сакович 1983, 1984).
Привоз иноземных товаров также нельзя сбрасывать со счетов, особенно если речь идет о распространении европейской культуры в массе русского народа. «Заграничные вещи не сосредотачивались среди одного московского населения или среди высших слоев общества. Они направлялись во все местности государства, попадая в самые дальние углы его. Московское государство было прямо насыщено иностранными товарами... Русский человек был окружен ими: он одевается в иностранные материи, ест и пьет из иностранной посуды... пишет на немецкой бумаге и т.д. и т.д. Имея дело по-
18 стоянно, в ежедневном обиходе с этими предметами, он сживается с ними, они становятся для него насущной необходимостью, и он, видимо, даже не замечает их чужестранного происхождения» (Бакланова 1928, 114-115). Особенно важен был этот путь проникновения иноземных влияний для декоративно-прикладного искусства.
Европейские новшества в XVII в. приходили на Русь не только из Западной Европы. Посредником между Россией и западным миром в это время успешно выступали православные, но адаптировавшие многие формы католической культуры Украина и Белоруссия. Работы К.В. Харламповича и Л.С. Абецедарского (Харлампович 1914, Абецедарский 1978) позволяют достаточно полно представить характер и объем русско-украинско-белорусских связей в XVII столетии (см. также: Ильин 19546, Михайловский 1968, Бусе-ва-Давыдова 1995, Высоцкая 2003). Ф.Ф. Горностаев находил в русской архитектуре XVII в. явные следы влияния Украины: например, «проводилось... традиционное украинское трехглавие, располагаемое, вопреки московскому, с востока на запад, а также пятиглавие, располагаемое в виде креста, соответственно крестообразным планам. Сюда же нужно присовокупить... "ярус-ность"» (Горностаев 1913, с. 144).
М.А.Ильин пытался опровергнуть своего предшественника, утверждая, что «предположение о постройке храмов по образцу украинских должно было противоречить всему строю взглядов того времени. Можно было бы еще допустить возможность сооружения подобных зданий в узком кругу царских приближенных, если бы не широкий... всенародный характер и распространение новых архитектурно-художественных форм, вошедших в русское зодчество конца XVII в.» (Ильин 1966, с. 229). Этот автор настаивал на обратном влиянии зодчества Москвы на архитектуру Украины. В частности, появление барочной орнаментики на стенах украинских храмов, по его мнению, «должно быть отнесено на счет русских мастеров, приехавших для работы в Киев и на Левобережье. Здесь, на Украине, воспользовались тем, что так удачно было применено в архитектуре Москвы» (там же, с. 234). Однако в настоящее время эту точку зрения можно, вероятно, отвергнуть окончательно: появились веские доказательства влияния архитектуры Украины на формирование новых композиционных типов в русском зодчестве XVII в. Выяснилось, что центрические ярусные храмы возникли как реплика украинских
19 церквей после того, как на Украину по заданию царя был послан «для описания церковных чертежей» мастер Оружейной палаты Карп Золотарев (см.: Бу сева-Давыдова 1985).
Помимо прямых или опосредованных контактов с Западом, Россия XVII в. имела постоянные отношения с Востоком - в первую очередь греко-православным. Эти отношения стали предметом фундаментального труда Н.Ф. Каптерева (Каптерев 1914). Однако характер и значение греческого и европейского влияния для Руси были существенно различными. Их разницу сформулировал В.О. Ключевский: «Греческое влияние было привнесено и проводилось Церковью и направлялось к религиозно-нравственным целям. Западное влияние проводилось государством и призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей, но не удержалось в этой своей сфере, как держалось греческое в своей. <...> Греческое влияние захватывало все общество, не захватывая всего человека; западное захватывало всего человека, не захватывая всего общества» (Ключевский 1923, с. 328-329). Последняя фраза в афористической форме выражает мнение В.О. Ключевского о том, что «западничеством» был захвачен сравнительно небольшой слой придворной верхушки, зато оно касалось всех сторон мировоззрения субъекта. Но в действительности и греческое и западное влияние, очевидно, не были столь антагонистичными, какими они выглядят в приведенной цитате. Греческое искусство XVI-XVII столетий само уже было затронуто влиянием Запада, причем не только на Крите, где со второй половины XV в. развивалась иконопись «in forma latina», но и на Афоне (Хатзида-кис 1974; Кондаков 1902). И даже элементы восточного искусства, традиционно бытовавшие на Руси (например, орнамент восточных тканей, воспроизводимый в шитье и набойке, украшение оружия), в XVII в. нередко вторично попадают в Россию через посредство Западной Европы, уже переработанные на своеобразный «псевдоориенталистический» лад (мотивы восточного орнамента, воспринимаемые через испанские ткани; см.: Клейн 1925). Все это наглядно свидетельствует о том, что XVII столетие для России проходит под знаком почти исключительного воздействия Запада.
Важнейшей проблемой, специфической для этого периода, следует признать проблему так называемого обмирщения - соотношения религиозных и светских элементов в культуре и искусстве. В историографии она дол-
20 roe время специально не выделялась. Однако поскольку изменения в этой сфере были не менее явными, чем в остальных областях художественной жизни, коллизия мирского и церковного неоднократно затрагивалась при исследовании других аспектов русского искусства XVII в.
Концепция «обмирщения» искусства XVII столетия, т.е. утраты им религиозных начал, формировалась постепенно, начиная с XIX в. Несмотря на высказанную Ф.И. Буслаевым мысль о том, что «в древнерусском художнике пробудилась потребность красоты, естественности и природы, в какой мере эта законная потребность согласуется с глубоким религиозным чувством [выделено нами. - И.Д.], которому столь же противен грубый материализм, как и бессмысленная идеализация» (Буслаев 1861 ж, с. 304), теория «обмирщения» в советский период стала общепринятой. Ею руководствовались и ее развивали как советские ученые, стоявшие на марксистских позициях (Покровский 1918, с. 44, 55-56), так и носители православного взгляда на икону (Успенский 1971).
Следует оговориться, что под «обмирщением» в существующей историографии понимается не вычленение отдельных областей русской художественной культуры XVII в. из первоначальной средневековой теософской целостности (что было бы в определенной мере справедливо), а вторжение светских элементов в церковное искусство. По мнению Б.В. Михайловского и Б.И. Пуришева, «живопись, в основном, и в XVII в. была вынуждена обслуживать потребности церкви, но в ней весьма ослабляется религиозная настроенность, прорывается мировоззрение, чуждое и даже враждебное церковности, намечается процесс если не внешнего, то внутреннего высвобождения из цепей христианской религиозности» (Михайловский, Пуришев 1941, с. 98)1. Церковь же рассматривалась приверженцами «тотальной секуляризации» как препятствие на пути развития искусства, ибо она «неохотно допускала черты «живства» в искусство. Она всячески тормозила проникновение в живопись реализма, так как, в конечном счете, он мог поколебать
Заметим, что Б.В. Михайловский и Б.И. Пуришев впервые сформулировали многие существенные особенности русской живописи XVII в. Несмотря на устаревшую к настоящему моменту трактовку этих особенностей в контексте «обмирщения» искусства, труд вышеназванных авторов остается лучшим исследованием монументальных росписей исследуемого периода.
21 основы старого церковного мировоззрения и грозил ослаблением авторитета церкви» (История русского искусства 1959, с. 465).
Заметный вклад в концепцию «обмирщения» русского культового зодчества XVII в. внес М.А. Ильин. По его словам, «было бы неверно утверждать, что лишь в светском зодчестве могли проявиться светские воззрения. Следует иметь в виду, что "чувства массы вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, ее собственные интересы должны были представляться ей в религиозной одежде" (К.Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, с. 675). Следовательно, и в архитектуре определенной группы храмов можно искать и находить народные светские мотивы и образы» (Ильин 1966, с. 8). Светские мотивы автор усматривает в «обращении зодчих к хоромной пространственной композиции, а также в сказочном "узорочье" внешнего убранства храма» (там же, с. 78). Впрочем, при исследовании архитектуры второй половины XVII столетия тем же автором в качестве светских называются прямо противоположные качества - например, принцип симметрии, вносящий в замысел элемент рационализма (там же, с. 220).
С «обмирщением» связывалось и «узорочье», генетически восходящее, по мнению подавляющего большинства исследователей, к деревянной народной жилой архитектуре. В результате в декоре и облике храма, по мнению сторонников «обмирщения», «храм во многом теряет те черты, которые были свойственны церковным представлениям о его облике и архитектуре» (Ильин 1966, с. 270). М.А. Некрасова писала, например, по поводу церкви Ильи Пророка в Ярославле: «В образе этого памятника нет отвлеченной идеи храма более ранних эпох, когда образ церкви, по сути, выражал идею мироздания» (Некрасова 1964, с. 92). При этом авторы не пояснили, на каких источниках они основываются, говоря о церковных представлениях или идее храма. Анализ текстов XI-XVII вв., посвященных символике храма, показывает, что эти представления носили самый общий характер и могли воплощаться в чрезвычайно различных архитектурных формах (см.: Бусева-Давыдова 1989, 20016).
В богословии концепцию «обмирщения» аргументировал Л.А. Успенский в работе, показательно названной «Искусство XVII в.: расслоение и от-
22 ход от церковного образа»2. Он утверждал, что «на Руси в XVII в., под воздействием западной культуры, происходит обособление культуры от Церкви, превращение ее в автономную область. До сих пор Церковь охватывала все стороны жизни, все области человеческого творчества. Теперь отдельные сферы творчества выходят за пределы Церкви, приобретают автономию» (Успенский 1997, с. 386). Из этого положения автор делал вывод о «расцер-ковлении» религиозного искусства.
Общность позиции советских ученых и представителя эмигрантских кругов объясняется, очевидно, тогдашней оценкой состояния и перспектив русского православия. Атеизация России после 1917 г. происходила достаточно решительно и приняла глобальные масштабы. Поэтому русская народная религиозность представлялась величиной, стремящейся к нулю: от религии как всеохватывающей основы жизни в Древней Руси к просветительскому «афеизму» XVIII в., народническому отрицанию Бога и, наконец, к государственному атеизму. Религия в советские времена не только официально считалась, но для большей части населения и выглядела рудиментарным явлением - «пережитком». Когда же стало ясно, что значение и потенциал религиозного мировоззрения далеко не исчерпаны, возник новый взгляд и на специфику религиозного чувства русского общества XVII столетия.
Первым исследователем, определенно заявившим об «оцерковлении жизни и человека» в XVII в., стал A.M. Панченко. В работе «Русская культура в канун петровских реформ», вышедшей первым изданием в 1984 г., этот автор отметил особое благочестие части русского общества - по словам протопопа Аввакума, «жизнь с молитвами, поклонцами и слезами». Однако, по мнению A.M. Панченко, подобный пиетизм был свойствен только узкому кружку «боголюбцев» 1640-1650-х годов, в то время как большинство населения не приняло идею оцерковленного человека, которая «противоречила общему движению к секуляризованной культуре» (Панченко 1996, с. 135). Таким образом, концепция «обмирщения» осталась действенной. Ее критический пересмотр был предпринят почти одновременно автором настоящей
Опубликована на русском языке в 1971 г. в Париже, в журнале «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата» (№ 3-4).
23 диссертации (Бусева-Давыдова 1990, 1994) и историком С.А. Вайгачевым (Вайгачев 1991, 1992). Главным основанием нового взгляда на проблему стал тезис о том, что «переходный период от Средневековья к Новому времени характеризовался и на западе и на востоке Европы не ослаблением религиозности масс и отдельных индивидов, но еще большим накалом религиозного чувства, ростом религиозных настроений» (Вайгачев 1992, с. 62-63). При этом сам характер религиозного чувства изменился, став более осознанным, личностным и направленным на оправдание мира и человека как сотворенных Богом и потому несущих на себе отблеск его совершенства. Близкая мысль была высказана В.Н. Топоровым: «Русский мессианизм... с определенного момента в XVII веке как бы одомашнивается, смягчается, "разгосударствливается", поворачивается лицом к человеку <...> Это настроение можно определить как мистико-пиетический вариант православия, как стремление к воцерковлению всей русской жизни» (Топоров 1996, с. 375, 376).
Подобные идеи утвердились в трудах части современных исследователей. Е.А. Ермолин, например, считает, что культура XVII в. - «это культура пробуждения религиозно ориентированной и социально ангажированной творческой личности, ее мирского самоутверждения, получившего сакральную санкцию. Возникают особые отношения между человеком и Богом, основанные на взаимном доверии и своеобразной близости, - и, как следствие, реабилитируются земная жизнь, человеческая активность на мирских поприщах, общественная солидарность. Земной, тварный мир осознается как пространство личного и общественного действия, реализующего план повсеместной эдемизации реальности» (Ермолин 2004, с. 28). В искусстве также начинают обнаруживать не конфликт, а гармонию мирского и церковного: «Два начала, издревле противостоящие друг другу, с одной стороны, мирское, а с другой - духовное, религиозное, здесь пересекаются и объединяются так же, как объединяются... традиционные для храмового зодчества черты с дворцовой нарядностью и регулярностью палатного строения» (Лифшиц 2000, с. 161-162). Однако прежняя концепция духовной «ущербности» искусства XVII в. продолжает существовать в работах некоторых авторов, близких к конфессиональным кругам (Колпакова 2004).
Последняя проблема, рассматриваемая в диссертации, - взаимоотношения народного и элитарного слоев в художественной культуре XVII в. Понятие народности первоначально, в трудах И.П. Сахарова и И.М. Снегирева, а затем Ф.И. Буслаева, распространялось на все искусство Древней Руси. При этом, по наблюдению И.Л. Кызласовой, у Ф.И. Буслаева «понятия "народность" и "национальность" сливались... в нечто единое, они были тождественны» (Кызласова 1985, с. 49). Подобный взгляд был близок славянофилам, трактовавших древнерусскую культуру как исконно народную и, следовательно, национальную, а новую, послепетровскую, - как чуждую, заимствованную, не имеющую народных корней. Революционные демократы 1860-х годов провели разграничение «народного» и «ненародного» (или антинародного) по социальному критерию. Под народной культурой стала пониматься в первую очередь традиционная культура крестьянства, то есть социальных низов. Это представление, закрепленное впоследствии в известном тезисе В.И. Ленина о двух культурах, определило понимание «народности» в советской историографии. «Народное» в концептуальном плане воспринималось как антитеза «антинародной» культуре верхов, которая, с одной стороны, подавляла народную культуру, а с другой - паразитировала на этой последней, питаясь ее соками. Поэтому элитарная культура средневековья признавалась лишь настолько, насколько в ней можно было обнаружить скрытые народные истоки. Так, во вступительной статье к 4-му тому «Истории русского искусства» говорилось: «В культуре 17 в. одним из самых положительных явлений следует считать то влияние, которое оказывало на развитие искусства творчество широких народных масс» (История русского искусства 1959, с. 36).
Не останавливаясь подробно на анализе соответствующей историографии, отметим, что основными чертами народной культуры у большинства ученых советского периода выступали ее антифеодальная и антиклерикальная направленность, а также «самобытность» по отношению к культурам Византии и Западной Европы. Все эти черты прослеживались на трех уровнях: сюжета (иконографического мотива), формы и «социальных корней». В житии Николы Чудотворца обнаруживали «тему восхождения по лестнице феодальной иерархии человека из низшего сословия», в сцене исцеления ослепленного сербского краля Стефана - «отчетливый намек на царский дес-
25 потизм», в изображении русских святых - борьбу народных художников с «засильем иноземной "фрязи"» (Брюсова 1984, с. 71, 81). В архитектуре и прикладном искусстве искали языческие образы исконной славянской мифологии (Рыбаков 1981, 1987).
Однако в последнее время появились новые взгляды как на существо народной культуры средневековья, так и на ее взаимоотношения с культурой элитарной. Одним из первых в отечественной историографии их высказал А.Я. Гуревич (на примере Западной Европы; Гуревич 1981). Он принципиально настаивал на диалогичности двух составляющих в средневековой культуре — диалогичности, понимаемой «как присутствие одной культуры в мире, в мысли другой, и наоборот». Этот диалог не исключал и противоборства, но оно было естественным способом существования двух тенденций и не имело целью конечное уничтожение одной из сторон.
Несомненно, нет оснований говорить и об антиклерикальности народных масс: исследователи все чаще обращаются к понятию народной религиозности, которая не совпадала с официальной, но тем не менее основывалась на ней и полностью принимала существующие религиозные институты. Все более открыто утверждается идея о влиянии элитарной культуры на народную, сформулированная немецким фольклористом Г. Науманном как «ge-sunkenes Kulturgut» (погружение культурных ценностей; Науманн 1922). B.C. Воронов развивал сходные взгляды применительно к крестьянскому искусству в своих работах 1920-х годов, где писал: «Неисследованная толща крестьянского искусства содержит в себе ряды последовательных наслоений. Одни из них характеризуют древнейшую языческую культуру... другие - определяют ряд более поздних влияний. Эти наслоения проникали через воздействия иноземцев... отлагались от общения с культурой городов, возникали из подражания вышестоящим социальным классам» (Воронов 1972, с. 42). Современная фольклористика доказывает, что «по своему происхождению фольклорное богатство было в значительной степени продуктом индивидуального творчества, а отчасти также результатом усвоения культуры господствующих классов» (Свод понятий 1991, с. 137). Эти теоретические положения настоятельно побуждают к пересмотру ряда концепций, до тех пор казавшихся едва ли не самоочевидными.
Завершая краткий предварительный обзор литературы по проблемам, затрагиваемым в диссертации, подчеркнем, что, хотя количество этой литературы довольно велико, фактически отсутствуют специальные работы, непосредственно посвященные хотя бы одной из этих проблем. Точки зрения предшествующих исследователей, как мы постарались показать в своем обзоре, весьма противоречивы, а нередко и диаметрально противоположны. Это свидетельствует, что назрела необходимость уточнить или даже пересмотреть ныне бытующие концепции на основе привлечения нового материала, пока еще не введенного в научный обиход или не получившего исчерпывающей интерпретации.
Отметим также, что до сих пор искусство XVII в. рассматривалось или само по себе, или в историческом контексте. Однако до сих пор не предпринималось попыток осмыслить его проблематику с точки зрения общекультурных архетипов и процессов, постараться понять искусство как органическую часть культуры в специфической ситуации переходной эпохи. Сейчас для такой попытки имеются все возможности: большое количество работ отечественных исследователей 1980-2000-х годов, посвященных закономерностям развития русской культуры и ее отдельным сторонам, вкупе с классическими зарубежными трудами по истории и теории культуры, позволяет обобщить этот материал и соотнести его с фактографией и проблематикой русского искусства XVII столетия.
Оправдание молодости и новизны в XVII в
Однако в сознании эпохи авторитет традиции был существенно поколеблен. Иосиф Владимиров в своем «Послании» высказывает невозможную прежде мысль: «...и в старописании многия обретаются неистовства от неискусных иконописцов. Яко же и в песненом мастерстве, у старых роспевщи-ков многия речи были претворены опако. И неразумными в старину певцами, вместо хвалебных песней, неистовыя глаголы в церквах обносилися» (Иосиф Владимиров 1964, с. 59). Понятно, что для Владимирова «старое» -это уже не свое: в отличие от Аввакума, он мыслит себя абсолютно вне этой старины, и более того, воспринимает старое как худшее по сравнению с новым. О том же свидетельствует и Симеон Полоцкий, признавая превосходство современных царских одежд над древними пурпурными облачениями:
То в древних вецех во похвалу бяше.
Лутшая строит царем время наше (Симеон Полоцкий 1953, с. 133).
Исподволь стала намечаться тенденция к восприятию юности (а не старости) как лучшего возраста человека1 ]. В XVII в. перед обществом встали иные задачи, в том числе необходимость усвоения большого количества новых светских знаний (не входивших в традиционный набор средневековой «мудрости»). Способность к учебе в этих условиях приобрела особую ценность, и стало ясно, что, говоря словами поэта, mдрево старое трудно пресаждати, такожде нравы старых изменяти. Древо младое удобно клонится, тако юноша всячески учится (Симеон Полоцкий 1994, с. 107).
Интересно, что это стихотворение Симеона Полоцкого с формальной точки зрения алогично: в первой и второй его частях речь идет о разных предметах, хотя оба сравниваются с деревом. Юноша, согласно Симеону, должен учиться, то есть усваивать некоторую сумму информации; ему это так же легко, как легко клониться молодому дереву. Исходя из парного соответствия, в первой части должно было быть сказано, что старику учиться (приобретать новые знания вдобавок к имеющимся) так же трудно, как трудно согнуть старое дерево. Однако вместо этого Симеон говорит совсем о другом - о необходимости «нравы старых изменяти». Очевидно, это представляется даже более трудным делом, чем сгибание старого дерева, и поэтому сравнивается с пересадкой «старого древа» на новое место. Почему возникает необходимость изменять старые нравы? Невольно возникает мысль, что учебу поэт понимал не в средневековом духе: она была нацелена
Надо заметить, что в народной культуре наряду со всем пиететом к «старине» не отрицались и достоинства молодости. «Молодить» в определенных аспектах значило улучшать (молодить мед или пиво - подслащивать напиток для того, .чтобы он лучше «играл»; см.: Даль, т. 2, 1994, стб. 891). не на «суммирование теологии», а на изменение общества, на новации, к которым юноши, естественно, были более восприимчивы.
Е.В. Михайловский и Б.И. Пуришев отметили во фресках XVII в. характерное омоложение персонажей, когда живописец «изображает своих героев легкими, юными, стройными; не вынужденный к тому сюжетом, он избегает рисовать стариков и старух» (Михайловский, Пуришев 1941, с. 105). Авторы иллюстрируют это наблюдение примерами, связанными с копированием костромскими и ярославскими мастерами гравюр библии Пискатора. Вдова-сунамитянка в цикле жития Ильи Пророка на гравюре представлена пожилой женщиной, а на фреске она выглядит молодой; аналогичному изменению подвергся и пророк Елисей. Можно предположить, что старость в XVII в. начали рассматривать как деформацию, причиненную временем, как испорченное состояние молодости. Во всяком случае, Иосиф Владимиров слово «старый» ставит в один ряд со словами «смяглый» (темный), «скудный» и «умерщвленный» и противопоставляет эти эпитеты образу «будущей светлости и красот праведным» (Иосиф Владимиров 1964, с. 58). Небезынтересно, что рассуждение иконописца о «просвещении» праведников после кончины представляет собой пересказ фацеции «О чудном изографе» - Михаиле Ангеле, который писал икону апостолов Петра и Павла в храм св. Петра в Риме. Восхищаясь мастерством художника, один прелат тем не менее заметил ему, что живописец написал апостолов румяными, «сии же не тако-ве беша». В ответ Михаил сказал: «...Аз святыхъ апостолъ образи написах не якови зде в житии и на земли быша, но якови суть ныне в светлости сияния и награждения великих делесъ их» (Фацеции 1989, с. 98).
Изменение отношения к новизне в общекультурном плане вызывалось стремлением избежать наметившейся стагнации культуры. Действительно, по словам И. Хейзинги, идеалы средневековья «не только ретроспективны, но и в значительной степени негативны. Исходя из глубоко укоренившегося представления: раньше все было лучше и поэтому нам следует вернуться к первоначальной чистоте в обычаях, правах и законах, - культура отрицает самое себя» (Хейзинга 1997, с. 277). Не исключено, что стимулом для «оправдания» молодости в русской культуре XVII в. стали исторические обстоятельства, породившие целый ряд юных героев. Прежде всего надо назвать канонизацию в 1606 г. и широчайшее почитание царевича Димитрия, по 46 гибшего в отроческом возрасте. Немногим старше него был в момент избрания на царство Михаил Романов. Молодым прославился и скончался князь М.В. Скопин-Шуйский. Царь Алексей Михайлович взошел на престол в 16 лет и объявил своим соправителем старшего сына, Алексея Алексеевича, когда тому также исполнилось шестнадцать. Поскольку царевич вскоре умер, престол унаследовал его брат, четырнадцатилетний Федор Алексеевич, проживший после этого около пяти лет. Затем правителями стали шестнадцатилетний Иван и десятилетний Петр. Возможно, образ молодого царя-«жениха» вызвал любопытный пассаж в Хронографе 1617 г., посвященный Москве. В Смутное время столица Руси состарилась от бед, а благодаря воцарению Михаила Феодоровича вновь помолодела, как невеста: «...мати Русьским градовом Москву, юже от неверных латинъ пленениемъ запусто-шенную и от русских мятежниковъ тяжким озлоблением состаревшуюся и осиротевшую, паки младозрачну тогда, аки предобрую отроковицу и преук-рашенную невесту сотвори» (Хронограф 1987, с. 356).
В XVII в. возник интерес и к «ювенильной фазе» растительных форм. Помимо того что тюльпаны и розы начали выращивать в садах, в иконописи и монументальной живописи цветы все чаще появлялись в самых разных сюжетах и видах: то как роскошные букеты в «Благовещении» Ивана Максимова и «Богоматери Неувядаемый Цвет» Тихона Филатьева (обе иконы -ГТГ), то как растительный покров традиционных горок в иконах кремлевской Распятской церкви, то как фантастический гибрид цветка, лозы и древа в «Похвале Богоматери Владимирской» Симона Ушакова (ГТГ). Надо заметить, что цветок не только «юн» по отношению к семени или плоду, но он еще и «нов» по отношению к породившему его растению. В некотором роде именно цветок мог бы служить символом обновляющейся русской культуры XVII столетия, и не случайно в это время появились такие иконографические изводы, как «Богоматерь Неувядаемый Цвет» (Тарасенко 2003).
Наиболее рационально, по справедливому замечанию Л.А. Черной, к проблеме старины и новизны отнесся человек другой культуры, «сербин» Юрий Крижанич, писавший: «Ничто не может быть дурно или хорошо только потому, что оно ново. Все хорошее и дурное было вначале ново. Когда-нибудь было ново и то, что теперь является стариной. Нельзя принимать новизну без рассуждения, легкомысленно, - так как при этом можно ошибить 47 ся. Но нельзя и отказываться от хорошего из-за одной его новизны, так как и тут возможна ошибка. Будем ли мы принимать или отвергать нововведение, во всяком случае надо при этом серьезно разобрать дело» (Юрий Крижанич 1859, с. 143). Л.А. Черная считает, что таким образом заезжий хорват стремился «одернуть ревнителей новизны», поскольку, по ее мнению, защита нового в середине XVII в. приобрела уже большой размах (Черная 1999, с. 103). Однако с тем же успехом можно трактовать приведенный отрывок и как укоризну «старолюбцам», отвергающим новое единственно по причине его новизны.
Традиционализм в живописи «послесмутного» времени
Сохранившиеся росписи в церкви Николы Надеина в Ярославле также наглядно демонстрируют те трудности, с которыми столкнулись и которые далеко не полностью преодолели их авторы15. Эти росписи были исполнены в 1640-1641 гг. большой сборной артелью иконописцев, чьи имена перечислены в летописи на юго-западном столбе: «А подписывали стенною икон-ною подписью сию церковь... иконописцы: костромитин Иоаким Агеев сын Елепенков, а прозвище Любимо, да нижегородец Иван Лазорев сын Муравей, да ярославец Стефан Евфимиев сын Дьяконов, да москвичи Иван Никитин, Борис Алексеев, Андрей Мартемианов, Никифор Оульянов, Федор да Борис Тимофеевы, да ярославцы Севастьян Дмитриев, Михайло Сидоров, Данило да Федор Оульяновы, да костромичи Илья Данилов, Василей да Прокопий да Дмитрей Ильины дети Запокровские, Иван да Иван же Ивановы дети Поповы, да Матфей Дементьев сын Бородин...» (Брюсова 1984, с. 69 - 70)16. Участие в артели мастеров из четырех городов было обусловлено, очевидно, нехваткой кадров (во второй половине XVII в. артели стали значительно более однородными). Среди художников, судя по прозваниям, семеро являются выходцами из духовенства: Стефан Евфимиев сын Дьяконов, два брата Поповы, отец и три брата Запокровские. Для некоторых из них ремесло иконописца для них было дополнительным занятием: Стефан Евфимиев, например, был дьяконом ярославской церкви Сошествия Св. Духа (Брюсова 1984, с. ПО). Обилие таких «иконописцев на досуге» свидетельствует о том, что в 1630-е годы иконописание было еще недостаточно надежным промыслом, без гарантированных заказов, особенно по монументальной живописи.
Показательно название стенописи «стенной иконной подписью»: действительно, фрески церкви Николы Надеина мелкомасштабны (они размещаются в четыре яруса) и располагаются отдельными «клеймами». Знаменщики даже не пытались как-то связать фоны соседних «клейм», так что резкие нестыковки между горками, зданиями, водной гладью видны повсеместно. Разумеется, это говорит о недостатке навыка в монументальной живописи: ведь в иконописи им не приходилось решать подобные задачи. Хотя рас 55 сказ (житие Николая Чудотворца) мог бы объединяться главным героем, переходящим из одной ситуации в другую, этот переход по-прежнему мыслился дискретным (что вообще характерно для средневековья).
Фигуры довольно статичны, явно ориентированы более на предстояние, хотя фреска - это не моленный образ и предстояния отнюдь не предполагает. На одной из немногих расчищенных композиций, где Никола благословляет царевича Стефана, царевич восседает на троне фронтально. Такая поза сложна для изображения, поскольку предполагает наличие ракурса: ноги выше колен необходимо было показать в перспективном сокращении. Иконописцы второй половины XVII в. (например, Гурий Никитин в иконе «Господь Вседержитель» из Федоровской церкви в Ярославле, ЯХМ) легко справлялись с этой задачей. Можно было также отказаться от «прямоличного» варианта и поставить трон под углом, чтобы развернуть фигуру (вариант, часто встречающийся в средневековой иконописи). Однако знаменщик Надеинской церкви сохранил почти симметричную, геральдически-иератичную композицию. В результате незначительный разворот колен не исправил дела: Стефан словно застыл в неестественной позе с полусогнутыми ногами. При этом плащ царевича, который должен был бы лечь на сиденье трона, ниспадает совершенно отвесно, усиливая впечатление странного «зависания» персонажа. В другой сцене того же цикла, где святой возвращает царевичу зрение, Николе отведено так мало места между Стефаном и юным дьяконом-чтецом, что мастеру пришлось пожертвовать ногами святого - их негде было расположить. Жесты персонажей скованы, пространственные отношения спутаны - притом что композиции отнюдь не изобилуют фигурами. Все это говорит о том, что следование образцу было жизненной необходимостью. Очевидно, для «Жития Николы» такого образца в монументальной живописи не нашлось: не исключено, что художники пользовались иллюминированной рукописью жития, но не сумели переработать ее миниатюры соответственно масштабу стенной росписи.
Если же задача была более обычной, к старым циклам, судя по всему, обращались и в тех случаях, когда расписывали храмы, дотоле не имевшие росписи. Стенописи Успенского собора Кириллова-Белозерского монастыря были выполнены в 1641 г. по заказу («по обещанию») царя Михаила Федо 56 ровича артелью того же Любима Агеева17. В настоящее время они также в основном находятся под записью, но реставраторы выяснили, что масляная запись 1838 г. следует старым контурам (Кочетков и др. 1979, с. 120). Однако для этих фресок, в отличие от николо-надеинских, характерны крупные формы, торжественная монументальность. По мнению исследователей, «здесь ясно ощущаются живые традиции искусства предшествующего столетия, и даже не конца его, а, скорее, эпохи Грозного» (Кочетков и др. 1979, с. 121). На этом основании В.Г. Брюсова даже предположила, что собор был расписан в XV-XVI вв. и новая роспись частично повторила старую (Брюсова 1984, с. 74). Учитывая, что подбор и схема расположения сюжетов росписи отчасти напоминают Рождественский собор Ферапонтова монастыря (Кочетков 1994, с. 19), можно предположить, что перед началом работы художники ознакомились (по собственному желанию или по воле монастырских властей) с росписями Дионисия. Таким образом восстанавливался профессионализм исполнителей, проходивших своеобразную школу копирования старых мастеров.
Такой же школой, имевшей огромной значение для всего последующего развития живописи XVII в., стало возобновление стенописи Успенского собора Московского Кремля (1642-1643). Художникам, расписывавшим Успенский собор, предписывалось снять прориси с существовавших фресок, затем сбить штукатурку и перенести рисунки на новый грунт. Технология снятия прорисей не оговаривалась, но, скорее всего, имелись в виду не собственно прориси, а уменьшенные копии по масштабной сетке. Поскольку ныне существующие в соборе стенописи XVII в. действительно имеют черты, свойственные искусству более ранних эпох (см.: Зонова 1964, Толстая 1979, с. 26), то надо думать, что задача, поставленная перед живописцами, была исполнена.
Признаки чужака: одежда
Одежда «немцев» отличалась от русской и покроем, и цветом. Поскольку знаковые функции одежды в средневековье были особенно сильны, «Стоглав» уделял ей большое внимание: «...ино одеяние воину, и ино одеяние тысящнику, ино пятидесятнику, и ино одеяние купцу, ино златарю, и железному ковачу, и ино орачу... ино женам... комуждо свое одеяние, от тех же кийждо и познавается, и коего чина кто есть» (Стоглав 1997, с. 235). Иноземное платье служило признаком иноверия, и поэтому ношение его не допускалось. Одно время иноземцы, служащие у великого князя, одевались на русский лад в целях своеобразной социальной мимикрии. Однако в 1633 г. во время крестного хода патриарх, благословлявший народ, обратил внимание, что некоторые из окружающих при этом не кланялись и не крестились. Выяснив, что это были немцы, одетые в русское платье, патриарх разгневался и «сказал: "Нехорошо, что недостойные иностранцы таким случайным образом также получают благословение", и вот, чтобы впредь он мог узнавать и отличать их от русских, пришлось издать приказ ко всем иностранцам, чтобы немедленно же каждый из них снял русское платье и впредь встречался только в одежде своей страны» (Олеарий 1986, с. 338)1 . Иноземцев, принявших православное крещение, переодевали в русскую одежду (Павел Алеппский, вып. 3, 1898, с. 91). Таким образом, одежда приобрела не только социальный, но и конфессиональный статус. В этом плане особенно важным представлялось соблюдение традиций в одеждах духовенства. Когда патриарх Никон захотел исправить принятый покрой ряс по греческому образцу, один из его оппонентов, Никита Добрынин (Пустосвят), заявил, что «в том странном одеянии не ведомо - кое поп, а кое чернец, или певчий дьяк, или римлянин, или лях, или жидовин» (Материалы для истории раскола, т. 4, 1878, с. 146).
Европейский костюм XVII в. изготавливался преимущественно из материи черного цвета, а при русском дворе одевались в пестрые восточные ткани. Даже траурное и монашеское платье было не черным, а «смирных» цветов - коричневое, вишневое, темно-синее и пр.: иноземцы отмечали, что траурные одежды царя Алексея Михайловича и придворных были темно-коричневыми или фиолетово-коричневыми (Витсен 1996, с. 149; Роде 1997, с. 35). Черные монашеские одежды по греческому образцу начал вводить патриарх Никон, но в практику они внедрялись трудно: московский собор 1666/1667 годов вынужден был предусмотреть суровое наказание для тех клириков и мирян, которые укоряют носящих греческие одежды (Деяния мо 128 сковских соборов 1893, л. 14-14 об. [паг. 2-я]). Собор 1675 г. опять вернулся к этому вопросу, отметив, что русские духовные лица носят разноцветные одеяния, не принятые в восточной (то есть в данном случае в греческой) церкви. В соборном деянии архиепископам и епископам предписывалось, чтобы мантия была «черная, или багряновидная, но небагряносветлоцветная, ниже червленая, ниже зеленая или светлолазоревая»; священники и дьяконы должны были носить одежды «не цветныя, но чернью, или багряновидныя, из сукна сошвенныя, и не из иных тканий или цветов. Такожде и шапки имеши на главах смирных цветов. Подобие и монахом одежд кроме из черных сукон... от иных цветов и тканий шелковых никаковых же отнюдь не носити. И обущи имети от черных яковых либо кож, лазоревых же и зеленых отнюдь не дерзати носити» (Амвросий 1807, с. 335, 344). Однако окончательно черное монашеское одеяние утвердилось только в правление Елизаветы Петровны по образцу носимого в греческой церкви, где оно было принято с X в. (Христианство, т. 2, 1995, с. 497).
Отторжение черного цвета русской культурой могло быть вызвано изначальной его антиномичностью слову «белый» как сакральному, а также совпадением корней в словах «черный» и «черт». В русском языке есть множество словосочетаний с отрицательным значением черного цвета: черное дело (злое), черная немочь (болезнь), чернокнижие (дьявольские книги), черный день, держать в черном теле, черный - податной (отсюда чернь), черная изба, черная работа и пр. Этот семантический ареал захватывает широкую область от второсортного (черный лес, черные грибы, черная рыба) до инфернального (согласно В.И. Далю, черта могли называть и просто «черным»: см.: Даль, т. 4, 1994, стб. 1358).
Казалось бы, исключением являются слова «чернец» и «черница», но это именно то исключение, которое подтверждает правило, - монахи не принадлежат миру, они мертвы для земной жизни и также «потусторонни». Согласно народным приметам, присутствие монаха или монахини на свадьбе возвещает несчастье: «Чернец да черница всякую свадьбу портят». В народных заговорах наряду с просьбами о защите от колдунов и еретиков упоминаются не только чернецы, но едва ли не все представители духовенства: «...научите меня, раба Божия, ограды и обороны ставить... от чернеца и от черницы, от бельца и от бельницы, от попа и попадьи худого глазу, от дия 129 кона и дияконицы, от диячка и от диячихи, от пономаря и пономарихи, от просвирни...» (Майков 1994, с. 115)17. Не случайно и антихриста представляли в монашеском сане: «Чернец некий имать от севера востати» (цит. по: Перетц, кн. 2, 1900, с. 9). Поскольку же антихрист должен был быть иноземцем, то немец в черном костюме представлялся воплощением дьявола; «немцы» в характерных европейских одеяниях нередко изображались в росписях XVII в. в группе грешников на Страшном суде.
Абсолютно неприемлемы для средневекового православного сознания были и декольте женских платьев. Русский посол во Флоренции Василий Лихачев с явным осуждением сообщал: «А извычай у жителей таков: ...у жен сосцы голы, и на головах нет ничего» (Василий Лихачев 1788, с. 347-348). Отношение к наготе в Древней Руси значительно отличалось не только от католического, но даже и от общехристианского. Согласно библейскому рассказу, Адам и Ева обитали в раю нагими, потому что были безгрешны: «беста оба нага, Адам же и жена его, и не стыдястася» (Быт. 2: 25). Когда же прародители вкусили плод древа познания добра и зла, они осознали свою наготу и облачились в листья смоковницы. Однако в русской традиции нагота связывалась не с догреховным состоянием прародителей, а, наоборот, с их грехопадением. Протопоп Аввакум в своих поучениях пересказывал Книгу Бытия таким образом: «И вкусиста Адам и Евва от Древа, от него же Бог за-поведа, и обнажистася» (Аввакум Петров 1995, с. 57). Далее Аввакум сравнивал прародителей с бражниками, которые пропили свою одежду. Таким образом, протопоп явно считал, что прародители до грехопадения были одеты, а обнажились или вследствие, или именно для совершения греха1 . Еще более наглядно нагота соотнесена с грехом в духовном стихе о Голубиной книге:
Согрешил Адаме во светлом раю,
Во светлом раю со своею со Еввою.
Оне тута стали в раю нагим-наги,
А нагим-наги стали, босешуньки (Голубиная книга 1991, с. 43). Символически нагота прародителей означала лишение их божественной благодати: «...ядый от плода разума, и абие пребысть наг от благодатей и даров Божиих» (Дело Никона 1897, с. 81)19. Однако, по наблюдению Н.Л. Пушкаревой, «с внедрением церковных представлений о целомудрии стали считаться предосудительными любые обнажения...» (Пушкарева 1996, с. 68). Патриарх Иосиф в поучении к пастве внушал, что неприлично носить короткие порты, и повторял предписание XIII в. об одежде и портах «до глезна» (до щиколотки) (Голубцов 1888, с. 359). Царские медики жаловались на исключительную стыдливость своих пациентов - как членов царской фамилии, так и придворных; царица принимала врача в покое с занавешенными окнами и протягивала ему только руку, причем не обнаженную, а завернутую в тонкую ткань (Витсен 1996, с. 105; Мейерберг 1997, с. 155, 37). Поразительно в этом плане изображение идола (на букву «И») в гравированном «Букваре» Кариона Истомина. Идол представлен в виде обнаженной статуи, стоящей на постаменте, то есть как античная скульптура (см.: Тарабрин 1916, табл. XXV). Понятно, что непристойность - одно из качеств языческого ку-мира. Однако он стыдливо прикрывает «срамное место» руками!
Святая Русь: истоки понятия
Окончательно развенчать концепцию «обмирщения» помогает анализ собственных представлений русских людей XVII столетия о себе, своей земле и своем государе в контексте сопричастности сакральному или, наоборот, отрешенности от него. Можно вспомнить, что татаро-монгольское иго в свое время было осознано как наказание за общие грехи народа. Неоднократные победы над иноверцами в XVII в. соответственно должны были восприниматься как знак избранничества. И действительно, именно в это время в народном сознании утвердилась мысль о Святой Руси.
Словосочетание «Святая Русь» в настоящее время известно в первую очередь из литературы XIX - начала XX в. Славянофилы, B.C. Соловьев, В.И. Иванов, А.В. Карташев, Г.П. Федотов, С.А. Аскольдов - все не только пользовались им, но и пытались раскрыть его суть. Современный филолог, близкий к Церкви, В.В. Лепахин, недавно предпринял обзор различных точек зрения и пришел к довольно скептическому выводу: «Фактически у любого писателя или философа мы найдем лишь комплексную точку зрения, в которой... уживаются два-три понимания и определения, и они... иногда противоречат одно другому» (Лепахин 2002, с. 71).
Первоисточником, откуда перечисленные авторы почерпнули именование Руси святой, были былины. На этом основании подразумевалось, что соответствующее понятие оформилось еще во времена Владимира Красное солнышко (см., например: Соловьев 1959, с. 8). Но поскольку существующие записи былин относятся в основном к XIX и в редких случаях к XVIII в., использовать их в данном случае некорректно. Хорошо известно, что «отдельные реалии сравнительно легко мигрируют в устной традиции» (Азбелев 1982, с. 38): в былине об Авдотье Рязаночке вместо Рязани, разоренной Батыем, появляется Казань, разоренная турецким царем, в былине в взятии Казани Иван Грозный предлагает пожаловать своих «канониров» городом Питером, а «полоняночка» в одной из былин цикла «Мать встречает дочь в татарском плену» отправляет мать «на святую Русь да к царю белому, к царю белому да к Петру Перьвому» (Исторические песни 1960, с. 76). Вполне возможно, что «святая Русь» появилась в былинах как элемент значительно более позднего временного слоя, подобно титулу «амператорницы» у супруги Ивана Грозного или «банкету» в тереме Владимира Красное солнышко.
А.В. Соловьев, представитель зарубежной славистики, считал, что первый известный текст, где встречается понятие «Святая Русь», принадлежит князю Андрею Курбскому. По мнению Соловьева, оно возникло у Курбского как аналог латинского наименования «Священная Римская империя» (подобно тому как позднее императорская титулатура «serenissimus» оказалась усвоенной царю Алексею Михайловичу в виде эпитета «тишайший»; Соловьев 1959, с. 27). Однако по-русски слова «святой» и «священный» отнюдь не тождественны: священное - то, что освящено, а святое - то, что освящает. Святое безусловно выше священного и является его истоком («святая Троица», но не «священная Троица»). Вряд ли Андрей Курбский имел в виду только кальку иноземного названия, поскольку употреблял эти слова и в другом контексте. Лишь в двух случаях он пишет о «Святорусской империи», и оба раза в значении «государство» («служил много лет верне империи Святоруской»). Однако когда князь переходил к обличению противников, то называл их губителями «Святорусской земли» (Андрей Курбский 1914, с. 305, 307, 216). Называя врагов царского духовника Сильвестра по 297 рождениями ехидны, он развернул сравнение следующим образом: «Уже у матери свое [своей. - И.Д.] чрево прогрызли, сиречь земли святоруские, яже породила их и воспитала» (Андрей Курбский 1986, с. 318). В данном случае именование России святорусской землей несет явственный фольклорный оттенок (мать-земля), а Курбский употребляет его, чтобы подчеркнуть не только крайнюю аморальность противников (убийство матери), но и кощунст-венность их деяния (мать-святая). Хотя самые ранние списки «Истории о великом князе Московском» относятся к первой трети XVII в., текст Полной редакции считается аутентичным авторскому (Рыков 1971), и вряд ли можно считать процитированные отрывки интерполяцией переписчика.
Ценный материал для истории формирования понятия «святая Русь» представляют списки «Послания Филофея московскому великому князю Василию Ивановичу о Третьем Риме». Вторая редакция этого послания, написанная в 1580-е годы, содержит новацию, исключительно важную для нашей темы. Именно в ней появляется определение «Святая Великая Россия», отсутствовавшее в первой редакции и других сочинениях филофеевского цикла (Синицына 1998, с. 278). Автор послания обращается к «государю великому князю светлосияющему в православии христианскому царю и владыце всех, броздодержателю же всея святыя и Великия Росиа» (там же, с. 361; выделено нами. - И.Д.). Н.В. Синицына справедливо связывает этот факт с подготовкой к учреждению патриаршества, а также ставит его в контекст борьбы с «латинством» (там же, с. 278). Кроме того, помимо словосочетания «святая Русь», в литературе XVI - начала XVII в. встречаются и иные формы, выражающие близкое содержание. Так, в «Повести о житии царя Федора Ивановича», написанной патриархом Иовом, говорится о «святаго сего царь-ствия» богохранимой державе и о «святом избранном достоянии» Господа -«великия Росийския державы благочестивого царя нашего... царьствии» (Иов 1987, с. 84,112).
Исследователи уже отмечали, что слова «святая Русь» содержатся в одной из наиболее древних записей русского фольклора - в песне о въезде в Москву патриарха Филарета Никитича после польского плена, которая внесена в записную книжку участника английского посольства Ричарда Джемса в 1619-1620 гг. Пастор Джемс был человеком хорошо образованным (окончил Оксфордский университет) и любознательным. В его записной книжке, сохранившейся в Оксфордской Бодлеанской библиотеке, содержится краткий англо-русский словарь и шесть русских народных песен исторического содержания, записанных по-русски, скорописью первой четверти XVII в. Упомянутая песня начинается словами: «Зрадовалося царство Московское / и вся земля Святоруская» (Песни для Ричарда Джемса 1987, с. 538). Для Ричарда Джемса было записано всего шесть песен, что никак нельзя считать репрезентативной выборкой (см.: Симони 1907). Тем не менее выражение «святоруская земля» встречается в записях дважды . О его распространенности свидетельствует и «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков», написанная в 1641 г., где турки (!) иронически сравнивают казаков с «богатырями светорускими», а казаки с горечью восклицают: «Не бывать уж нам на святой Руси!» (Повесть об Азове, с. 141, 151). «Богатырем земли святоруския» назван Михайло Поток Иванович в «Повести о князе Владимире Киевъском и о богатырях Киевсъких, и о Михаиле Потоке Ивановиче, и царе Кащею Залатой Арды», которая была записана в конце XVII в. (Былины 1960, с. 175; о датировке рукописи - с. 289-290).